,
Филиал МГУТУ
(Мелеуз, Башкортостан)
Взаимосвязь эффективной экономики
и качества человеческого капитала
Современные условия диктуют необходимость совершенствования технологий управления персоналом в целях повышения эффективности экономики. Особенно важно учитывать, что все явления, в том числе экономические и социальные, находятся в диалектическом единстве, т. е. пребывают во взаимных связях и зависимостях.
Социально-экономические связи представляют собой взаимодействие между явлениями и процессами, происходящими в области экономики и обществе. Проблема состоит в том, что в области экономических явлений используют в основном анализ количественных показателей, а с точки зрения человека – качественные показатели его личности являются более достоверными. Поэтому изучение связей может быть результативным только при системном подходе к названным проблемам. Данную сложноорганизованную систему необходимо рассматривать как нечто целое, как систему, элементы которой закономерно связаны между собой. Актуально также и то, что при взаимодействии всех элементов, образуется единое целое с качественно новыми свойствами.
Для получения достоверного результата необходимо проанализировать взаимодействие трех составляющих единой системы показателей эффективности работы, а именно: показателей, характеризующих достижение конечных результатов; показателей качества, результативности и сложности труда; показателей социальной эффективности.
Рассматривая первые две группы показателей, можно выделить их количественную оценку (стоимостная, натуральная, относительная). Анализируя показатели третьей группы, выделяем их зависимость от квалификации экспертов и необходимость перевода качественной оценки в количественную. Возникает закономерный вопрос, насколько возможно «допустить ошибку» в определении результата при переводе «качества в количество» и как определить зависимость между личностными качествами и производственным результатом.
Например, по [66], эффективность работы кадровой службы включает:
потери рабочего времени на 1 работника,
текучесть персонала,
коэффициент равномерности нагрузки персонала,
надежность работы персонала,
уровень трудовой дисциплины,
качество труда персонала,
социально-психологический климат.
Фактически имеем первые три показателя объективные, остальные – субъективные.
При анализе факторов эффективного воздействия личности начальника цеха на качество продукции[67] определено, что существует зависимость эффективности управления через показатели:
культура производства – 0,89 (коэффициент влияния);
текучесть кадров – 0,51;
трудовая дисциплина – 0,41;
технологическая дисциплина – 0,37;
ритмичность – 0,36;
простои оборудования – 0,29;
использование рабочего времени – 0,01.
Иными словами, снова выделяется субъективный, качественный показатель – культура производства.
Отечественные ученые[68] предлагают оценивать производственную ценность работника через эффективность труда. Эффективность труда в названном случае рассчитывается по формуле:
![]()
где Эт – эффективность труда работника; Вг – годовая выработка, р.; Кн – коэффициент напряженности норм (определяется как отношение фактических затрат времени к нормативным по всей номенклатуре выполняемых работ); Сб – стоимость неустранимого брака, допущенного по вине рабочего, р.; Сэ – стоимость сэкономленного сырья, материалов, энергии, р.; Zпр – затраты, вызванные нарушениями ритмичности производства из-за отсутствия рабочего на месте, р.; Эи – сумма годового эффекта от рационализаторской и изобретательской деятельности; Фг – годовой часовой фонд фактически отработанного времени, ч; Нзп – норматив заработной платы с учетом выплат по больничным листам на 1 ч фактически отработанного времени, р.; Zо – затраты на обучение и повышение квалификации, р.; Е – коэффициент окупаемости затрат на обучение и повышение квалификации (0, 12).
Определение эффективности труда работника позволяет достаточно полно учитывать основные составляющие результата (числитель), а также затраты (знаменатель), включая рабочее время, заработную плату, средства на повышение квалификации.
Применение данного показателя довольно объективно помогает определить наиболее слабых работников. Отбор с его помощью носит достаточно жесткий характер (лица с пониженной работоспособностью отсекаются), но довольно объективный. Проблема состоит в том, что в данном методе не учитывается личностная составляющая работника. Хотя интегральная составляющая некоторых факторов косвенно учитывает личность (ритмичность; рационализаторская и изобретательская деятельность; обучаемость – что предполагает потребность в самоактуализации).
Таким образом, уже на примере названных данных имеем высокую значимость качественных показателей в эффективности производства.
Учитывая тот факт, что трудовая деятельность является ведущей на протяжении всей жизнедеятельности человека, очевидна необходимость глубокого анализа так называемых «косвенных и субъективных» факторов, влияющих на эффективность производственного процесса и экономики в целом.
На современном, высокотехнологичном этапе развития производства, экстенсивное использование любого ресурса крайне неэффективно. Поэтому эта проблема особенно затрагивает трудовые ресурсы, целесообразно глубокое изучение личности каждого индивидуума в целях нахождения ресурса развития, кроме общепринятых для анализа данных (работоспособность, общие и специальные способности и т. п.).
Таким образом, выделяя в особую категорию экономического анализа личность как интегральную сущность, получаем экономико-личностную систему со своими критериями, взаимовлияниями, требующую особого внимания и уникальной системы управления.
Уральский государственный
экономический университет
(Екатеринбург)
О конкурентоспособности птицеперерабатывающих предприятий
на потребительском рынке
Развитие потребительского рынка Екатеринбурга, реализация положений антимонопольного регулирования деятельности на рынке товаров и услуг, продвижение и активное участие предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства и обращения продовольственных товаров обеспечили привилегированность положения потребителя с точки зрения возможности выбора в реализации своих физиологических и социальных предпочтений. Рынок мяса птицы с этих позиций не является исключением, так как представлен не только численным составом птицеперерабатывающих предприятий, но и разнообразием ассортиментного предложения, учитывающего как традиционные виды продукции (мясо птицы) так и полуфабрикаты различной степени обработки, характеризующиеся неодинаковыми товарными и потребительскими достоинствами и ценой. Успешное и стабильное положение этих видов продукции может быть обеспечено лишь при соблюдении основного правила конкурентной игры: сочетание высокого качества продукции с пропорциональной ценовой политикой, учитывающей специфику рынка рассматриваемой группы товаров.
В соответствии с торговой классификацией мясо птицы поступает в реализацию раздельно по виду и возрасту птицы: куры, цыплята, цыплята-бройлеры, гуси, гусята, утки, утята, цесарки, цесарята, индейки и индюшата; по термическому состоянию: охлажденное и замороженное; по категории: 1 и 2; по способу разделки: тушки (полупотрошенные, потрошенные и с комплектом потрохов), полутушки и полуфабрикаты; выделенные анатомические части. Относительно полный набор ассортиментных наименований куриных полуфабрикатов предлагают все птицеперерабатывающие предприятия, однако ценовые различия не всегда учитывают главные потребительские характеристики – выход съедобной части и пищевые достоинства продукта с точки зрения биологической полноценности мяса по белковому составу. В то же время изготовители, предлагающие свою продукцию, заявляют в маркировке об уровне качества, который не всегда адекватен реальному состоянию продукции.
В связи с этим целью настоящей работы является сравнительная экспертиза образцов одного наименования и уровня качества, выработанных изготовителями: Рефтинская и Среднеуральская птицефабрики, (Ишмалино), (Сосновская ПФ, Рощино). Результаты экспертизы получены на основе арбитражных методов испытаний, статистически обработаны.
Анализ маркировки, товарных характеристик (органолептических и физико-химических показателей качества) подтвердил заявленный изготовителем уровень качества продукции (Сосновская ПФ, Рощино) и Рефтинской птицефабрики. Продукция и Среднеуральской птицефабрики с дефектами обработки технологического происхождения была отнесена к пониженной категории, вопреки заявленной информации.
Вызывает сомнение обоснованность цен на полуфабрикаты в связи с несоответствием цены и данными морфологического состава. Если при выходе съедобной части 81% цена за 1 кг полуфабриката «Голень куриная» 78 р., то цена 88 р. 20 к. за 1 кг полуфабриката «Крыло куриное» с выходом 65% представляется завышенной. В то же время высокий уровень цены – 120 р. 70 к. за 1 кг полуфабриката «Грудка куриная», оправдан морфологическими пропорциями (выход съедобной части 94%) и превосходными показателями биологической ценности, подтверждаемыми результатами анализа аминокислотного состава. Установлено, что если в среднем по тушке мышечная ткань содержит 18,2% белка, в том числе 6,5% эссенциальных аминокислот, то мясо грудных мышц превосходит эти значения (19,4% белка и 7,1% эссенциальных аминокислот).
Таким образом, с точки зрения достижения стабильного и конкурентоспособного положения на потребительском рынке птицеперерабатывающим предприятиям необходимо более жестко соблюдать технологическую дисциплину, чтобы реальное состояние продукции соответствовало заявленному уровню качества; осуществлять гибкую ценовую политику, которая бы учитывала пропорциональность цены и качественного уровня продукции; учитывать сегодняшний менталитет потребителя, ориентированный на максимально полное удовлетворение физиологических и социальных потребностей.
Пермский государственный университет
(Пермь)
Создание механизма межотраслевого перелива капитала
для стимулирования прогрессивных структурных сдвигов
и активизации инвестиционной деятельности
По всеобщему признанию, слабая инвестиционная активность большинства отечественных промышленных предприятий и связанные с этим неудачи российских структурных реформ в значительной степени обусловлены недостатками системы финансирования инвестиционного процесса как в целых секторах экономики и так в рамках отдельных хозяйствующих субъектов. Поэтому одной из наиболее острых и насущных задач экономического развития, стоящих сегодня перед всеми субъектами хозяйственной деятельности в России, является создание и запуск в действие механизма перелива свободного капитала от сырьевых отраслей к перерабатывающим (прежде всего, отраслями высоких технологий), а также в отрасли производственной инфраструктуры (в том числе в сектор транспорта) с целью активизации в них инвестиционной деятельности. К сожалению, эта задача пока не нашла своего решения.
Рассматривая вопросы стимулирования инвестиционно-инновационной активности и создания эффективной системы перелива капитала между отраслями экономики, нужно исходить из того, что отрасли высокой степени переработки попали с началом реформ в менее выгодные условия, чем отрасли ТЭК и некоторые экспортно-ориентированные отрасли первичной стадии переработки. В аналогичной ситуации оказались и многие инфраструктурные отрасли (за исключением сектора банковских и финансовых услуг). В результате ценового перераспределения части произведенной стоимости от обрабатывающей промышленности и отраслей производственной инфраструктуры в пользу ТЭК и экспортно-ориентированных отраслей последние оказались в более выгодном положении с точки зрения наличия свободных денежных средств и инвестиционных ресурсов. Результатом процесса реализации такой политики в области инвестиционной деятельности стало резкое углубление структурных деформаций российской экономики и потеря потенциала развития многими ее отраслями и секторами. Ситуация усугубляется тем, что значительные объемы денежных ресурсов, имеющиеся у отраслей ТЭК и экспортно-ориентированных отраслей, направлялись и направляются ими до сих пор либо на финансовый рынок, либо на скупку активов других компаний, а уровень их инвестиционно-инновационной активности минимален: в соответствии с расчетами ИЭ РАН суммарные годовые затраты экспортно-ориентированного сырьевого комплекса и ТЭК на технологические инновации не превышали 1,1% объема произведенной продукции, тогда как в финансово ограниченных отраслях (машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность) этот показатель все же выше – 1,6%[69].
Тем не менее нужно отметить, что в отдельных российских регионах существует положительный опыт взаимодействия между добывающим и обрабатывающим секторами, в том числе обеспечена переориентация инвестиционной деятельности отраслей и предприятий ТЭК с экстенсивного расширения добывающего производства на цели модернизации обрабатывающего и инновационную деятельность, причем в пропорциях, соответствующих объективным мировым тенденциям. Например, современные мировые показатели отношения инвестиций в переработку к инвестициям в добычу сырья в нефтегазовом секторе составляют от 1/4 до 1/2 (25–50% в разных странах мира). Однако в России это соотношение намного ниже: так, в 2001 г. инвестиции в нефтеперерабатывающий сектор едва превысили 1 млрд дол., составив всего 11,9% суммарного объема капитальных вложений нефтяной отрасли, в 2003 г. – 24,7 млрд р. (или 14,8% от всей суммы инвестиций в отрасль), а в 2004 г. – 29,2 млрд р. (около 15%)[70]. Таким образом, Россия явно отстает от мировых тенденций развития.
В то же время, в Пермском крае указанное соотношение инвестиций (переработка нефти и газа / расширение добычи сырья) значительно лучше, чем по России в целом и соответствует мировым тенденциям: в 2003 г. инвестиции в нефтеперерабатывающий сектор области были 43,24% от всего объема инвестиций нефтяной отрасли (соответственно 3,1 и 7,2 млрд р.), в 2004 г. – 40,13%[71]. Таким образом, Пермский край демонстрирует позитивные тенденции в смычке «добывающий сектор – перерабатывающий сектор». Подобные тенденции наметились: Нижегородской, Самарской, Тюменской областях, Красноярском крае, республике Татарстан и ряде других в регионов.
Что же касается лидерства экспортно-ориентированных отраслей и отраслей ТЭК в суммарном объеме инвестиций в основной капитал, то в Пермской области эти цифры равны соответственно 81,53 и 83,19%, в том числе в топливной промышленности – 35,95 и 37,88%. Если учесть при этом, что Пермский регион является одним из основных регионов-экспортеров РФ, то данные цифры также говорят о достаточно благоприятной структуре инвестиций в Пермском крае[72].
Инвестиционная политика, проводимая в Пермском крае, направлена на создание общих благоприятных условий для ведения бизнеса, на привлечение в регион крупных инвесторов и реализацию значительных инвестиционных проектов. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе формируется по двум направлениям: в рамках сокращения издержек на ведение бизнеса и путем снижения инвестиционных рисков. Последнее имеет особо важное значение, поскольку создает гарантии защиты капитала частным инвесторам.
Анализ составляющих инвестиционного риска в Пермском крае позволяет сделать вывод о том, что самыми значительными в настоящий момент являются криминальный (69) и экологический (67) риски. Причем по этим показателям в 2004 г. произошло ухудшение ситуации по сравнению с предыдущими годами (так в 2003 г. они занимали соответственно 55 и 64 места). Уровень экономического (26 место) и политического (35) рисков также достаточно высок, но стабилен. При этом законодательный (10), финансовый (11) и социальный (11) имеют наименьшие ранги и также характеризуются стабильностью в течение достаточно длительного периода. Общее место Пермского края по показателю инвестиционного риска в России в целом в 2004 г. – 11, а средневзвешенный индекс риска составляет 0,953, что ниже общероссийского уровня. Что касается динамики и состояния инвестиционного рейтинга Пермского региона в предшествующий период, то практически за все время составления рейтингов (1998–2004 гг.) он держится в числе регионов-лидеров, а рейтинг оценивается как «Средний потенциал – умеренный риск» (2B).
Таким образом, можно говорить, что руководству Пермского края удалось добиться и сохранить в течение ряда лет достаточно благоприятную общую инвестиционную среду. В настоящее время инвестиционная привлекательность Пермского края оценивается сравнительно высоко. Агентство Moody`s Interfax Rating Agency присвоило региону долгосрочный кредитный рейтинг Аа3 (рейтинг Аа1 имеет только Москва, Аа2 – Санкт-Петербург, Аа3 – Самарская и Пермская области) и краткосрочный рейтинг RUS –1.
Для стимулирования межотраслевого перелива капитала и активизации прогрессивных структурных сдвигов в Пермском крае уже создан правовой и административный задел для привлечения инвестиций. Приняты важные законодательно-нормативные акты: закон Пермской области «О бюджете содействия инвестициям» от 3 апреля 2003 г. № 000-137; постановление Законодательного Собрания Пермской области от 01.01.01 г. № 000 «О стратегии социально-экономического развития Пермской области»; Указ губернатора Пермской области от 01.01.01 г. № 113 «О порядке предоставления государственной поддержки разработки и реализации инвестиционных проектов» и др. Созданы Уральский фонд поддержки малого предпринимательства, Венчурный Фонд, Агентство содействия инвестициям[73].
Однако в течение всех лет доля Пермского региона в общероссийском потенциале постепенно снижается (с 2,179% в 1998 г. до 1,970% в 2004 г.). Поэтому региональным властям не следует останавливаться на достигнутом[74], а необходимо разработать комплексную модель и механизм перелива капитала от ресурсоизбыточных отраслей добывающего сектора к приоритетным отраслям обрабатывающего производства (в том числе высокотехнологичным) и производственной инфраструктуры.
Филиал Уральского государственного
экономического университета
(Березники)
Основы создания экономики рудничной экологии
При проникновении в глубины земной коры приходиться изначально создавать нормальную экологическую обстановку, безопасную для людей, т. е. при работе на поверхности достаточен принцип «не навреди», а под землей – от начала и до конца сотвори и поддерживай в нормальном состоянии среду обитания за счет усилий и средств производства. Это принципиальное отличие выливается в огромные экономические, социальные и трудовые затраты, которые снижают доходы от горнодобывающих предприятий. Не всегда они обоснованы и оправданы.
В подземных условиях формируются такие параметры атмосферы, которые, как правило, вредные для жизнедеятельности. Здесь появляются газы и аэрозоль, а также создается своеобразный то сухой зимой, но чересчур влажный летом микроклимат. Эти процессы происходят под влиянием и в зависимости от свойств пород, слагающих окружающий горный массив. Привычного для человека состава газов и аэрозоля практически нет, его необходимо получать искусственным путем или доставить с поверхности. Изменение свойств атмосферы до приемлемых и безопасных, в которых продолжительное время может не только находиться человек, но и выполнять тяжелый физический труд, производятся огромными усилиями с привлечением затрат энергии и ресурсов. Здесь же требуется постоянный контроль и надзор, так как происходит непрерывное и очень динамичное изменение пространства. Фронты горных работ и забои перемещаются, расширяя и углубляя рудники и шахты. В разных концах единого пространства происходят неодинаковые производственные процессы, вызывающие соответствующие различные воздействия на экологическую обстановку.
Для разработки методов влияния и сопоставления их результатов необходимо разработать социально-экономическое обоснование экологической безопасности горнодобывающих предприятий. Методологические подходы к данной разработке изучены на сегодняшний день недостаточно. Можно констатировать некоторую проблему – недостаточное для анализа по времени развитие горных работ в абсолютно одинаковых горно-геологических условиях. Внешние факторы, влияющие на экологию, постоянно изменяются, и практически не повторяются на других рудниках, даже если эти рудники разрабатывают одно месторождение.
Универсальность экономических показателей, доказанная всем опытом человеческой цивилизации, позволяет логическую организацию и структуру поиска решений свести к разделу знаний о природопользовании, который мы можем назвать экономикой рудничной экологии. В границах этого раздела должна быть исследована система показателей измерения эффективности, изучены факторы формирования среды обитания и их влияние на эффективность производства, предложены конкретные методики, основанные на современных методах экономического и физического моделирования.
Все устремления горнодобывающих предприятий в первую очередь направлены на эффективную добычу полезных ископаемых, и по остаточному принципу – на экологические требования к местам нахождения и работы людей. Такой подход не только резко контрастирует с основными принципами человечества, но и создает социальную напряженность, а главное – отрицательно сказывается на экономическом положении горнодобывающих предприятия.
Несомненен тот факт, что затраты на создание приемлемых показателей экологической обстановки напрямую ложатся на себестоимость продукции. Однако продолжительные простои предприятия при ликвидации экологической аварии приносят не меньший ущерб. Минимизация экономического ущерба как при создании, так и при поддержании в безопасном состоянии по экологическим параметрам атмосферы подземных пространств становиться злободневной – это и есть экономика рудничной экологии.
Основа методологического построения экономики рудничной экологии достаточно сложна и обширна. В нее входят как средства производства и факторы внешней среды, так и методы и средства регулирования и контроля состояния окружающей среды. Оценка затрат на поддержание в течение года нормальных экологических параметров в одном из рудников Верхнекамского месторождения солей, показывает, что они составляют примерно 50–51 млн р. При общих затратах на создание объекта в виде рудника, приблизительно равных 21 млрд р. и нормативном сроке эксплуатации рудника 65–70 лет, на экологизацию подземного пространства будет израсходовано не менее 17,5% этой стоимости (~ 3,6 млрд р). Причем в данном расчете не участвуют текущие затраты на тепло и электроэнергию, которые выливаются в расчет энергопотребления.
Энергетические затраты в себестоимости руды (в 2005 г.) в денежном выражении, по данным экономических служб акционерных обществ, составляют от 70 до 80%. При этом в себестоимости готовой продукции стоимость руды занимает 35–40%. В то же время доля энергетических затрат на проветривание составляет от 30 до 50% от энергозатрат рудника. Отсюда можно определить степень влияния сокращения затрат энергии на проветривание в себестоимости готовой продукции
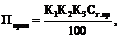
где Ппров – величина затрат средств на проветривание в % от себестоимости готовой продукции; К1 – процентное содержание затрат на проветривание в общих затратах на электроэнергию рудника, %; К1 – процентное содержание затрат на электроэнергию в себестоимости руды, %; К3 – процентное содержание себестоимости руды в себестоимости готовой продукции; %, Сг. пр – себестоимость готовой продукции, р.
Подставив исходные данные в формулу определим, что экономические затраты на обеспечение электроэнергией проветривания составляют от 9 до 11% в себестоимости готовой продукции. Если прибавить затраты на строительство и поддержание вентиляционных сооружений, а также на содержание службы вентиляции и обслуживание вентиляторных установок, то цифра может достичь 15% и более.
Экономический базис и ожидаемые результаты применения эффективных методов экологизации подземного пространства горнодобывающих предприятий оценены. Они могут считаться достаточно высокими. При этом следует отметить, что не решена задача разработки области исследования экономики природопользования под наименованием «экономика рудничной экологии», в которой дается социально-экономическое обоснование экологической безопасности горнодобывающих предприятий в современных условиях, не исследована система показателей измерения эффективности, слабо изучены факторы формирования среды обитания и их влияние на эффективность производства, отсутствуют конкретные методики, основанные на современных методах моделирования.
Уральский государственный
экономический университет
(Екатеринбург)
Методологические основы моделей
новой парадигмы экономического роста
Теории экономического роста являются наиболее дискуссионным моментом современной экономической науки. Экономический кризис 1998 г. в России продемонстрировал, что ортодоксальные подходы к экономической политике государств не применимы в чистом виде для экономики переходного периода. Это обусловливает особую актуальность разработки альтернативной теории экономического роста, выводы и положения которой могли бы эффективно использоваться на практике.
Глобализация мирохозяйственных связей способствует глубоким качественным преобразованиям внешнеэкономических связей государств, связанных с поиском путей интегрирования в систему мирохозяйственных отношений. Начало XXI века стало завершающим этапом переходного периода, в ходе которого многим государствам, в том числе и России, предстоит перейти от стагнации к развитию. При этом важно выработать такие стратегические ориентиры, которые позволили бы нацелить на органическое смыкание внешнеэкономических возможностей данного процесса с теми внутренними предпосылками, которые могут способствовать его ускорению.
В основе экономического глобализма лежит теория неолиберализма и свободного рынка. Она применяется ко всему мировому хозяйству, поскольку исходит из теоретического посыла, что плодами глобализации пользуются как развитые, так и развивающиеся и трансформирующиеся страны, экспортеры и импортеры международных товаров, услуг и капиталов, разработчики технологий и адаптирующиеся к ним потребители. Приверженцы финансовой либерализации утверждают, что свободное движение капиталов обеспечивает оптимальное с позиции всего мирового хозяйства распределение и использование сбережений, стимулирует экономический рост и распространение новых технологий.
Неолиберальная теория получила распространение в 1970–
1980-х годах как реакция центров мирового хозяйства на стремление периферийных стран найти модель самостоятельного развития. В качестве ведущих критериев и стимулов выдвигались не интересы национальной экономики конкретной страны, а общемировые критерии, определяемые потребностями центров. Основными чертами неолиберальной модели считаются: регулирование экономической деятельности на жесткой монетарной основе, стихийность рыночного механизма как регулятора экономического развития; снижение роли национально-хозяйственного комплекса и суверенитета как свидетельство прогресса; стимулирование снижения хозяйственной деятельности государства. К недостаткам данной модели относят: игнорирование проблемы распределения доходов и богатства, отсутствие гарантии стабильности экономики страны, стадность поведения международных инвесторов, что в сочетании с неразвитостью финансовой системы и несовершенной структурной политикой не способно противостоять резким колебаниям объемов и структуры потоков капитала.
Поэтому государства с переходной экономикой проявляют определенную осторожность в выборе моделей экономического роста и стараются как можно больше ориентироваться на собственный ресурсно-производственный потенциал как гарант экономической стабильности и безопасности.
Как показывает обобщение мирового опыта, проведенное С. Ситаряном, в подобных ситуациях используются два стратегических ориентира: импортозамещающая и экспортоориентированная модели экономического роста[75].
Импортозамещающая модель выдвигает в качестве приоритета создание диверсифицированных промышленных комплексов, способных насытить и реструктурировать внутренний рынок с помощью изделий местного производства и затем развернуть их экспорт.
Экспортоориентированная модель ставит во главу угла международную промышленную кооперацию, с развитием которой связываются расчеты на насыщение и структурирование национального рынка.
Преимущественное отличие модели импортозамещения от экспорто-ориентированной модели состоит в том, что в систему международных экономических отношений включаются не только отдельные отрасли и производства, часто слабо связанные с внутренним хозяйством, но и вся национальная экономика, так как наращивание экспорта и импорта, движение капиталов и обмен технологиями осуществляются на основе координации критериев эффективности отдельных субъектов хозяйственной деятельности и экономики страны в целом.
Выбор каждой из этих моделей неоднозначен. Условием продвижения России по пути экономического прогресса выступает прежде всего концентрация ее собственных усилий и ресурсов на формировании эффективного, технологически развитого и конкурентоспособного рыночного хозяйства. В ближайшей перспективе акценты экономической политики объективно смещаются в сторону развития отечественного производства и обеспечения при опоре на него потребностей внутреннего рынка. Поэтому в дискуссиях о выборе национальной модели экономического роста превалирует точка зрения о целесообразности в ближайшей перспективе проведения политики импортозамещения с целью ослабления односторонней зависимости от внешних факторов. Реализация экспортоориентированной модели несет угрозу национальной безопасности. В пользу осторожного включения экономики страны в глобализационные процессы в ближайшей перспективе свидетельствует и факт сохранения экспортной квоты на сложившемся уровне. При приоритете политики и стратегии импортозамещения во внешнеэкономической деятельности ставится задача создания условий формирования в первой четверти XXI столетия народнохозяйственного комплекса преимущественно на основе внутренних ресурсов и рынка с последовательным увеличением объемов средне - и высокотехнологичного экспорта при относительном снижении вывоза продукции первичного сектора.
Вместе с тем страна не может отказаться и от использования преимуществ экспортоориентированного развития. Внешнеэкономические связи, в том числе внешняя торговля, способны активизировать собственный потенциал страны, не подменяя его, привнося в отечественную экономику дополнительную конкуренцию, новые технологии, опыт рыночного хозяйствования, обеспечивая прирост национального богатства за счет товарообмена по выгодным ценам и привлечения зарубежного капитала.
Анализ возможностей использования Россией экспортоориентированной стратегии показал, что экономика страны располагает рядом конкурентных преимуществ, позволяющих рассчитывать на более эффективное ее включение в систему мирохозяйственных связей. Главным из них бесспорно является обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами. Она достаточна для удовлетвореия потребностей внутреннего производства, социальной инфраструктуры и осуществления экспортных поставок. Россия будет располагать таким преимуществом даже в условиях снижения удельного веса сырья в мировом торговом обмене. Поэтому экспорт сырья и полуфабрикатов в обозримом будущем останется важной статьей валютных поступлений (при условии сохранения их ценовой конкурентоспособности). Не менее значимыми конкурентными преимуществами для российской внешнеэкономической политики остаются сравнительная дешевизна некоторых факторов производства (значительных по масштабам производственных фондов универсального обрабатывающего оборудования, квалифицированной и относительно дешевой рабочей силой). Эти конкурентные преимущества в сочетании с конкурентными преимуществами более высокого порядка (уникальностью передовых технологий в авиакосмической и атомной промышленности, судостроении, производстве лазерной техники, средств информатики, разработке программного обеспечения и т. п.), обеспечивающими динамизм сохранения позиций в состязании с зарубежными соперниками, позволят, на наш взгляд, перейти на модель комплексного развития и изменить характер дискуссии о выборе модели экономического роста – или экспортная ориентация, или импортозамещение.
Дискуссия о выборе модели экономического развития для государств с переходной экономикой вполне объяснима. Трансформация в направлении рыночного хозяйства на фоне бурно развивающейся глобализации делает поиск новой модели весьма актуальным. Наиболее динамичные и агрессивные сегменты глобализации – международная финансовая система, либерализация и дерегулирование движения капиталов накладываются на процессы формирования новых экономических структур, слабых финансовой и банковской систем, неадекватные рыночному хозяйству институциональную и правовую базу, неумение правильно оценивать и своевременно реагировать на изменение ситуации на финансовых рынках. Кроме того, в конкретных условиях крайние позиции нереализуемы, как и искусственные конструкции, основанные не на реальных внутренних возможностях страны и прогнозируемой реакции внешнего мира.
Многие исследователи обращают внимание на то обстоятельство, что внутрирегиональное сотрудничество в регионах мира, например торговое или инвестиционное, развивается разными по сравнению со среднемировыми темпами. Феномен экономического роста стран Восточной Европы в этом отношении уникален, а анализ механизма моделирования новой парадигмы внешнеэкономической деятельности в условиях старой модели экономического роста, на наш взгляд, может представлять определенный практический интерес для России.
В этом регионе возникла целая группа государств, успешно решающих или уже решивших проблему преодоления отсталости в международном разделении труда, активно включившихся в этот процесс, что предопределило огромный научный и практический интерес к реализуемым там экономическим моделям. С каждым годом усиливается партнерство стран региона, расширяется содержательность и интенсивность их связей, что характерно для всех форм и уровней взаимодействия: от межфирменного до межгосударственного, от внешней торговли до предоставления официальной помощи в развитии. В основе указанных процессов, как показывает анализ, лежит во многом сходная модель экономического роста стран Восточной Азии, определяющая динамику регионального экономического взаимодействия.
Среди огромного многообразия моделей экономического роста, обусловленного спецификой конкретных стран, также выделяются два отмеченных выше основных типа моделей, которые в той или иной мере и форме были реализованы и продолжают осуществляться в развивающихся странах. Одна из этих моделей (модель импортозамещения) ориентирована, в сущности, вовнутрь, на потребности и возможности национального рынка, с существенным ограничением или полным вытеснением иностранного капитала и фактически с прицелом на создание самодостаточной экономики закрытого типа (например, Афганистан, Иран, Пакистан). В основе второй модели (экспортоориентированная модель) лежит признание необходимости активного взаимодействия с иностранным капиталом и всемерного использования возможностей, обусловленных участием в международном разделении труда.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |



