Аналогично, в смысле усложнения структуры общества как основной тенденции, понимает общественное развитие и Эмиль Дюркгейм. Он различает два типа общественной организации или солидарности: механическую и органическую. Первая вытекает из сходства членов группы, вторая – из их различий. Первая предполагает относительную аморфность общества, вторая – дифференцированность его и разделение труда. В процессе развития органическая организация общества сменяет механическую. Причиной этого служит рост плотности общества. Уплотнение общества усиливает жизненную конкуренцию, и это обстоятельство с необходимостью вызывает рост разделения труда и органическую солидарность. Если возрастает плотность общества, то органическая солидарность сменяет механическую, вызывая к жизни и все последствия этой смены[11].
Взгляды Парсонса на процесс общественной эволюции, равно как и воззрения Спенсера, во многом коррелируют с положениями теории органической (то есть биологической) эволюции. Хотя его взгляды на общественное развитие обладают определенными особенностями, подходя к концепциям конструирования реальности. Для него процесс общественного развития является именно эволюцией, а не прогрессом в том смысле, в каком его понимают, движением к «лучшему» человеческому обществу. Среди процессов изменения наиболее важными для эволюционной перспективы являются процессы, усиливающие адаптивную способность либо внутри общества путем порождения нового типа структуры, либо через культурное проникновение и вовлечение других факторов в комбинации с новым типом структуры, внутри других обществ и, возможно, в более поздние периоды. Чтобы дифференциация способствовала сбалансированности, большей развитости системы, каждая вновь отдифференцировавшаяся подсистема (например, производящая организация в приведенном выше примере) должна увеличивать адаптивную способность при осуществлении своей первичной функции в сравнении с осуществлением этой функции в предшествующей структуре.
Состояние любого данного общества и, более того, системы связанных обществ (таких, как античные общества городов-государств Среднего и Ближнего Востока) является многосоставной результирующей прогрессивных циклов, включающих процессы изменения. Этот результат в контексте любого более общего процесса будет порождать веерообразный спектр типов, которые варьируются в соответствии с различными ситуациями, степенью интеграции и функциональным положением в более широкой системе. Некоторые варианты внутри какого-то класса обществ, имеющих общий спектр сходных характеристик, будут более, чем другие, склонны к дополнительному эволюционному развитию. Другие могут быть так блокированы внутренними конфликтами или иными помехами, что будут с трудом себя поддерживать или даже разрушаться. Но среди этих последних могут быть общества, наиболее созидательные в плане порождения компонентов, имеющих долговременную значимость. Где-то среди разнообразного населения обществ возникает «прорыв» процесса развития. Такой прорыв обеспечивает обществу новый уровень адаптивной способности в некоторых жизненно важных отношениях, изменяя тем самым свою конкурентоспособность по сравнению с другими обществами в системе. Говоря шире, такая ситуация открывает все четыре возможности для обществ, не вовлеченных непосредственно в процесс инновации. Во-первых, инновация может быть просто разрушена более сильными, хотя и менее развитыми соперниками. Если инновация является только культурной, ее трудно разрушить полностью, и она может приобрести огромное значение даже после того, как разрушено общество, ее породившее. Во-вторых, уровни конкурентоспособности могут быть выравнены посредством адаптации инноваций. Третьим вариантом является установление изолированной ниши, в которой общество может продолжать сохранять относительно неизмененной свою старую структуру. Последней возможностью является потеря социетальной идентичности через дезинтеграцию или поглощение большей социетальной системой. Эти возможности являются типовыми, созидающими многие сложные комбинации и переходы.[12]
Основа русской классической философии зиждется на православии, что нашло свое отражение в понимании того, что есть развитие общества, куда оно должно привести, каковы его закономерности.
Согласно развитие в сути своей есть движение в сторону улучшения общества – прогресс. Сущность общественного прогресса – «рост социальной солидарности». В свою очередь, достижение идеала невозможно без коренных преобразований наличной действительности, которые раз за разом ведут человеческое общество по пути прогресса. Идеал общественного развития – достижение социальной справедливости, которая «будет достигнута посредством социалистической революции».[13]

Определяя условия общественного развития на его пути к идеалу, говорит о типе и степени развития. Под типом развития он понимал сумму различных способностей индивида. По его мнению, индивид, пользующийся почти исключительно одной способностью, доводит ее до высокой степени совершенства, но все другие его способности подвергаются атрофированию. Таким образом, общий тип развития индивида понижается. Опираясь на эту концепцию, Михайловский выступает против теории общественной эволюции Спенсера, подвергая критике взгляды последнего на общество как на единый организм.
Основываясь на выводах зоолога Бэра, Михайловский указывает, что организм, развивается, растет и совершенствуется посредством физиологического разделения труда, и, таким образом, источником исключительной сложности организма является дифференциация органов и тканей. Каждый орган выполняет в совершенстве какую-либо особую функцию, полезную для всего организма, который благодаря этому становится сложной индивидуальной сущностью.
Михайловский оспаривает положение, высказанное Спенсером о том, что общество развивается благодаря разделению труда и специализации его членов, утверждая, что специализация приводит к регрессу личности. Степень развития, достигнутая личностью в результате развития какой-либо одной способности за счет других, может быть очень высока, но тип развития этой личности, тем не менее, понижается. В подобном процессе развития общество «старается подчинить и разбить личность». Оно превращает человека из отдельной личности в свой собственный орган. Узкие специалисты перестают понимать внутреннюю жизнь представителей других специальностей. Таков источник равнодушия, даже враждебности и, наконец, утери счастья. Стремясь избежать таких нежелательных последствий, «личность, повинуясь тому же закону развития, борется, или по крайней мере, должна бороться за сою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего «Я»».
Таким образом, то, что означает прогресс в жизни организма, является регрессом в жизни общества. «Прогресс, – утверждал Михайловский, – это «постепенное приближение к целостности неделимых…», наиболее возможному и многостороннему разделению труда между органами тела и, в то же время, «постепенное приближение» к наименее возможному разделению труда между людьми.
Михайловский давал следующую классификацию периодов общественного развития: объективно-антропоцентрический – отсутствие кооперации и потом слабые зачатки простого сотрудничества; экономический – преобладание общественного разделения труда; субъективно антропоцентрический – период простого сотрудничества. Последний он намечает в качестве идеала развития общества и относит к будущему[14].
Михайловский критиковал дарвинистов. Они, говорил он, переносят на человеческое общество законы борьбы за существование, но как приспособление к окружающей среде, так и естественный отбор не представляет человеческих идеалов. «Наоборот, приспособляй к себе условия окружающей тебя жизни, не дави неприспособленных, ибо в борьбе, подборе и полезных приспособлениях заключается гибель и твоя, и твоего общества»[15].
Концепция развития также резко отличается от позитивистской концепции прогресса. Человеческое общество рассматривается им во всеединстве сущности, стремящейся раскрыть потенциально заложенное в себе самом. Во всеединстве любой момент развития признается качественно равноценным любому другому и ни один из них не рассматривается как средство или стадия перехода к решающему концу; эмпирически моменты имеют различную ценность в соответствии со степенью, до которой всеединство раскрывается в них. История любого индивида содержит момент самого полного раскрытия всеединства, является апогеем его развития. Критерий для определения этого апогея может быть найден путем исследования религиозного характера данного индивида, имея в виду его «специфическое отношение к абсолюту» (к истине, добродетели, красоте). Поскольку историческое развитие как целое есть божественный человеческий процесс, критерий его приближения к идеалу должен быть найден в личности, наиболее полно выражающей абсолют в эмпирической сфере, а именно в Иисусе. Вся история человечества, таким образом, – это «эмпирическое становление и гибель христианской Церкви». Поэтому историческая наука должна быть религиозной и, более того, православной.[16]
Многие русские религиозные философы интересуются вопросом о сущности исторического процесса. Они подвергают критике позитивистские теории и указывают на невозможность осуществления совершенного общественного строя в условиях земного существования. Причем акцент в определении того, что является прогрессивным направлением общественного развития, делается ими не на научно-техническом аспекте общественного развития, который полагается ими в большинстве своем не являющимся определяющим для развития человеческого общества, а на сфере духовного человека, системе этических, нравственных и эстетических ценностей. Всякий общественный строй осуществляет лишь частичные улучшения и в то же время содержит новые недостатки и возможности для злоупотреблений. Печальный опыт истории показывает, что весь исторический процесс сводится лишь к подготовке человечества к переходу от истории к метаистории, то есть к «грядущей жизни» в Царстве Божием.[17]
1.3. Развитие идей о будущем общества во второй половине ХХ века.
Развивавшиеся параллельно на западе теории постиндустриального общества (например, концепции общественного развития Д. Белла, У. Ростоу, концепция трех волн Элвина Тоффлера[18] и др.) также базируются на идеях эволюции, прогресса и стадийности развития. В процессе развития человеческого общества их авторы выделяют три последовательных стадии: традиционная (аграрное общество, результат аграрной революции), индустриальное общество (наступившее с развитием капитализма) и постиндустриальное общество (плод дальнейшего развития цивилизации).
Вкратце суть данных концепций выглядит следующим образом. По мнению У. Ростоу индустриальное общество приходит на смену традиционному, «основанному на доньютоновской науке и технике и на доньютоновском отношении к миру». Вследствие «регулярного и систематического использования возможностей, порождаемых современной наукой и техникой», аграрное производство традиционных обществ было заменено индустриальным. В свою очередь на смену индустриальному приходит постиндустриальное общество. С точки зрения Д. Белла, эта метаморфоза обусловлена качественно новой ролью науки и техники. Американский ученый полагает, что главенствующую роль в новом укладе будет играть не индустриальное производство, а информация.
Экономико-техницистское мышление, наука и техника стали определяющими факторами исторического процесса. Другим не менее важным фактором стали экологические последствия развития техногенной цивилизации. Этот аспект получил широкое освещение в деятельности Римского клуба. Таким образом, тенденции развития НТР и ее последствия являются в технологически детерминированной футурологии главным предметом прогностического процесса.
Задолго до 1943 года, который можно считать официальной датой появления футурологии, уже существовали теории, выводящие будущую картину мира исходя из развития научно-технической сферы. Со времен Ф. Бэкона человек хотел с помощью техники покорить природу, надеялся достичь царства свободы. Тем не менее, своего наибольшего могущества техника достигла к середине ХХ столетия. Успехи естественных наук и порожденных ею технологий были особенно очевидны на фоне кризиса гуманитарного знания и в частности философии. Несмотря на это нужно признать, что технологически детерминированная футурология имеет глубокие корни в философии истории. Ведь футурология – это та же самая история. Только история не прошлого, а предполагаемого будущего. Как и всякое историческое знание, она имеет собственное направление движения. В философии истории можно выделить два таких направления – линейное и цикличное. Фома Аквинский сравнивал первое направление с летящей стрелой, а второе с собакой, пытающейся схватить себя за хвост и от того кружащейся на месте. Исходя из этих идей, современная футурология выстраивает представления о будущем.
Линейная история представляет собой непрерывный и необратимый процесс движения времени вперед. Данный тип восприятия истории родился в лоне западной цивилизации. В основе такого подхода лежит идея прогресса. При этом сама цель, конечная точка прогресса, не так уж важна: главное – «сам процесс». Впервые внерелигиозная теория линейного прогресса достаточно отчетливо была сформулирована в эпоху Просвещения – и с тех пор прочно осела в умах западных мыслителей, в том числе и в умах футурологов.
Необходимо заметить, что прогнозирование будущего в русле данной традиции доминирует и по сей день. Понимание линейного прогресса в качестве столбовой дороги для всего человечества заложено в основание идеологии глобализации. Одним из адептов этого направления является А. Тоффлер. Американский ученый, разделяющий опасения по поводу разрушительного воздействия техногенной цивилизации, тем не менее смотрит в будущее с оптимизмом. Выход из создавшегося положения автор «Футурошока» видит в развитии (прогрессе) все той же технологии. На основе новой, в данном случае информационной, технологии мир (с точки зрения Тоффлера) сможет продолжить путь своего бесконечного совершенствования.
Надо сказать, что Тоффлер отнюдь не одинок в своих прогнозах. Довольно внушительное, как по количеству, так и по именам, направление рисует будущее в оптимистических тонах. При этом каждый пытается придумать собственную технологию прогресса человечества. Так, например, Г. Кан призывает не обращать особого внимания на проблемы, порождаемые техникой, так как все это издержки роста человечества до уровня «супериндустриальной» цивилизации. В том же духе рассуждает Дж. Гэлбрейт. Благотворное влияние «прогрессирующей» техники он видит в появлении нового поколения менеджеров (техноструктуры), которые в своей деятельности будут ориентироваться не на получение прибыли, а на общественные интересы.
Футурологические концепции будущего и общественного развития, сформировавшиеся на Западе, к которым можно отнести и принадлежащие Тоффлеру и Беллу, все же не являются полностью однородными и солидарными в отношении понимания смысла истории общества: концепции прогрессистские полемизируют с теориями циклического развития, которые в свою очередь, часто видят развитие общества как постепенный регресс.
Наряду с концепциями всемирного общественного прогресса, предполагающими поступательное постадийное развитие всего человечества по направлению к лучшему (более совершенному), развивались и концепции, в полной мере воплощавшие в себе идеи о цикличности развития, некоторые из них ставили под сомнение существование человеческой цивилизации как единого целого. Речь идет, например, о концепциях локальных цивилизаций (теория культурно-исторических типов), Освальда Шпенглера, Алекса Тойнби (собственно теория локальных цивилизаций) и ряда других философов и социологов.
Теория локальных цивилизаций исходит из того, что истории развития человеческого общества как изначально единого процесса не существует, есть лишь история возникновения, развития и упадка отдельных локальных цивилизаций. История человечества складывается из своеобразной истории локальных цивилизаций. На любом этапе развития человечества существует цивилизационная множественность мира, причем различные цивилизации могут находиться на различных стадиях развития. Более того, единой типологии таких стадий может и не быть, для каждой цивилизации их набор и последовательность могут различаться.
По иному выглядят горизонты грядущего в прогнозах футурологии, рассматривающей будущее в парадигме цикличной философии истории. Подобное понимание исторического процесса было характерно для Востока и дохристианского Запада. Мифология Древней Греции (по крайней мере, в изложении Гесиода) предусматривает последовательную смену веков – Золотого, Серебряного, Бронзового и Железного. В конце каждого такого цикла человечество ожидал конец света и последующее возрождение.
История, рассматриваемая в подобной перспективе, не имеет развития. Она изначально ограничена рамками чередующихся циклов. Циклический сценарий истории был типичен для традиционных обществ Востока. Там возникали огромные, могущественные империи, которые, достигнув максимальных границ развития, разрушались. На их место приходили новые образования, которые, дойдя до тех же границ развития, канули в небытие.
Новое и новейшее время являлось периодом господства прогрессистских взглядов на развитие общества. Толкование истории современного мира футурологами находится под влиянием идеи линейного движения времени. Сохранению этого положения способствует аналогичная традиция в философии истории. Данное статус-кво невозможно нарушить, не поколебав прогрессистского толкования развития человечества. Для того чтобы получить качественно большее разнообразие футурологических построений, необходимо выдвинуть альтернативы существующей философии истории.
Философская критика теорий прогресса ведется отнюдь не с целью лишить людей надежды на улучшение будущего. Напротив, речь идет о том, чтобы обратить внимание на настоящее, которое и предуготовляет это будущее. В самом деле, почему упование на будущее должно вызывать энтузиазм у живущих здесь и сейчас? Из числа всех поколений, прошлых, будущих и настоящих выбирается какое-то одно (в неопределенном будущем!), которому и достанутся все плоды труда предыдущих поколений. Настоящее поколение, таким образом, просто должно принести себя в жертву будущему (что, вероятно, оправдано с точки зрения рассмотрения общества как единого организма). И так множество раз.
Основной посылкой концепции прогресса, прослеживающейся практически у всех придерживающихся ее авторов, является непоколебимая вера в неизбежность лучшего будущего (в том смысле, в котором его понимает тот или иной из них). Помимо этого, для теорий прогресса характерен следующий парадокс: они, уповая на будущее, в действительности не заботятся всерьез о его наступлении. Прогресс мыслится как гарантированный прогресс. То есть, что бы не происходило, все равно светлое будущее наступит. Кроме того, классические теории прогресса провоцируют конфликт поколений. Каждое последующее поколение, проникнутое ими, считает себя заведомо лучше предыдущего, поскольку оно появилось в более позднюю, а, значит, более прогрессивную эпоху.
Важным вопросом, проистекающим из критики теорий прогресса, становится вопрос о направлении развития общества, о смысле истории. Очевидно, что, если гарантированного лучшего будущего не существует, то взгляд на исторический процесс и общественное развитие должен коренным образом измениться.
XX век, особенно вторая его половина, привел к появлению критики прогрессистских теорий развития, развившихся в рамках «антифутурологической волны».
Истоком формирования идейной основы «антифутурологии» стали нарастающие проблемы в развитии человеческих обществ по всему миру, объединяющихся все большим количеством экономических, культурных, политических связей. При этом обнаружилось значительное расхождение прогнозов, дававшихся еще недавно, с реальной действительностью. Более того, значительные расхождения наблюдались между прогнозами, сделанными на основе разной методологии и методик.
«Антифутурологическая волна» 1960-х в дальнейшем лишь усилилась в связи с тревогой по поводу резкого ухудшения экологической ситуации, которое к 1970-м гг. достигло угрожающих масштабов, и прогнозы ее динамики были вовсе неутешительны. Это вызвало к жизни «экологическую волну», породившую не только множество дискуссий, публикаций, правительственных организаций по охране окружающей среды и общественных природозащитных организаций, но активизировавшую исследования причин и тенденций НТП и его последствий.
Фолка «Наша планета в опасности» (1971), М. Ситрона и Б. Бартока «Переоценка технологии в динамической среде» (1974) и ряд других положили начало кампании по переоценке роли технологии, вылившуюся в «технологическую волну», суть которой сконцентрировалась в качественно иной концепции НТП как управляемого объекта. Активизировалась критика науки и ученых, «игнорирующих» беды человечества, связанные с развитием науки и техники, науки и технологий, породивших гонку вооружений и оружие массового поражения, экологические бедствия, демографический и информационный «взрывы»…
Оба течения, - «экологическая волна» и «переоценка технологий», - как бы слились воедино. Появилось и третье направление – «апокалипсическое», его авторы подвергали сомнению совместимость социальных последствий НТР и дальнейшее существование человечества, спорными были только сроки грядущей катастрофы.
В рамках подобных представлений часть футурологов строит прогнозы будущего. Основанием для их позиции служит доклад Римского клуба «Пределы роста» в котором современная экономика, порожденная наукой и техникой, рассматривается как главная угроза человечеству. Основная опасность исходит от безудержной экспансии потребительского общества, уничтожающего экологию планеты. В качестве средства для предотвращения будущих катастроф выдвигается теория «нулевого прироста». То есть человечеству предлагается самоограничить потребности. Иными словами лимитировать свое развитие.
Естественно, что осуществить подобное в границах существующей системы нереально в виду слишком большого числа субъектов, заинтересованных в дальнейшем росте экономики. Заставить человечество вернуться вновь к своим истокам призывает экофашизм. Это движение ставит своей целью с помощью диктатуры ввести железные рамки, лимитирующее дальнейшее развитие техногенной цивилизации.
Очевидные методологические недочеты концепции «нулевого роста» вызвали к жизни идею «органического роста» с большой дифференциацией социальных норм в зависимости от района земного шара и различных аспектов общественной жизни. Основная посылка «органического роста» - компенсация продолжения роста там, где это будет признано целесообразным, его свертыванием в тех регионах и/или сферах, где это будет признано необходимым.
Автор термина «футурология» – Флехтхейм – предложил свой вариант выхода из кризиса, основанный на циклическом понимании истории. По мнению немецкого ученого необходимо отказаться от концепции линейной истории. Своим идейным предшественником Флехтхейм называет Шпенглера, который рассматривал историю как совокупность замкнутых в себе культур, проходящих цикл рождения, расцвета и смерти. Флехтхейм видит перспективы футурологии в продолжении изучения «горизонтальных явлений» таких культур. Он отказывается от примитивизма линейных прогрессистских концепций исторического развития.
Приблизительно с 1970-х гг. развивается направление по изучению личностно-индивидуальной перспективы человека в условиях меняющейся социальной и природной среды. Оно возникло под влиянием работ Э. Тоффлера, Бертрана де Жювенеля, Юнга, Кларка…
Преобладающим мотивом в настоящих концепциях общественного развития является акцентирование внимания на возможности и необходимости управление общественным развитием, моделирование общественного развития, концепции социального конструирования реальности А. Шюца, Т. Лукмана, П. Бергера[19], программирование развития общества[20], экономическое программирование[21]. Глобалистика и альтернативистика как динамично развивающиеся и в настоящее время направления, обозначая важные глобальные проблемы современности, обрисовывают их эволюцию не как предопределенное их собственной природой явление, а как управляемый процесс.
Глава 2. Социально-экономическое прогнозирование в системе научного знания
2.1. Зарождение и развитие современной прогностики
2.1.1. Управление и прогнозирование.
2.1.2. Исходный этап развития прогностики: конец ХIX – начало XX вв.
2.1.3. Современная социальная прогностика как отрасль науки.
2.2. Отечественная прогностика.
2.1. Зарождение и развитие современной прогностики
2.1.1. Управление и прогнозирование
Изучение человеком окружающего мира зачастую имело в своей основе явно выраженный практический момент: желание узнать, чего же хорошего или плохого можно ожидать, и как, избегая неприятностей, приобрести выгоду. Познавательная функция человеческого мышления всегда, так, или иначе, связана с целеполаганием, оценкой и прогнозированием, взаимосвязь которых можно рассматривать как с точки зрения их соотношения в рамках процесса познания, так и с точки зрения динамики человеческой деятельности. Первые два аспекта имеют дело с определением конечного и начального пунктов всякой деятельности, – желаемого и наличного, – с описанием ситуаций, состояний. Прогнозирование, в свою очередь, привносит в познание реальности динамический временной аспект. Оно связано с изучением не состояний, а событий. В формировании возможности эффективного прогнозирования и заключается «практический» смысл процесса формирование знаний.
Буквально слово «prognosis» с греческого переводится как «предзнание» (характеризуя, фактически, суть, смысл применения любого знания как такового), «предвидение», «предсказание»[22]. Первоначальный смысл слова – предсказание хода болезни, затем вообще всякое конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-либо явления в будущем (прогноз погоды, исхода выборов и т. п.). Таким образом, прогноз – вероятностное суждение о некотором явлении на основе оценки будущей тенденции его развития с помощью исследования и анализа доступной информации.
Познавательные мотивы предвидения носят двоякий характер: «теоретический» и «практический». «Теоретическое» значение прогноза для науки заключается в его использовании как метода проверки научных гипотез и теорий, (в качестве такового он и используется «естественными» науками). Однако, как бы велико ни было это значение прогноза, основной мотив предвидения (равно как и приобретения всякого знания) – настоятельные запросы практического действия.
Особенное значение прогнозирование приобретает в социально-экономической жизни. Здесь она непосредственно связана с проблематикой социальных изменений, общественного развития и управления социальными системами. Само по себе управление связано с изменением будущего, поскольку лишь на будущее и можно реально повлиять, пытаясь изменить реальность.
Управленческая деятельность в основе своей базируется на целях и ожиданиях. Цель – это образ желаемого будущего, к воплощению которого стремиться деятель. Ожидание – представление о том, что определенное событие приведет к некоторым последствиям. Цели и ожидания служат отправной точкой любого прогноза. В свою очередь, цели и прогноз определяют план как совокупность ориентиров, упорядоченных в зависимости от прогнозируемой ситуации, в процессе достижения которых будут реализованы поставленные цели. План является основой составления программы – совокупности действий, которые, основываясь на имеющейся информации, с высокой долей вероятности должны привести к достижению намеченных целевых ориентиров и, соответственно, сформулированных ранее целей. Составление программы предполагает, в том числе, и прогнозирование последствий предпринимаемых действий.
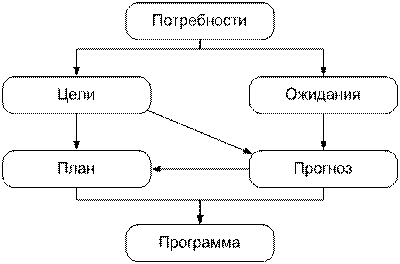
Рисунок 1. Логическая последовательность прогнозирование – планирование – программирование
Отсюда познавательной базой любого управленческого воздействия является прогноз, эффективное управление без прогноза попросту невозможно.
Уже в самом начале социальной истории, выходя за рамки сугубо индивидуальной познавательной деятельности, прогнозирование и планирование постепенно, с развитием общественной (функциональной) стратификации, становятся социальной функцией и сосредотачиваются, прежде всего, среди определенных членов человеческих объединений. При этом первой задачей, встававшей перед этими лицами, становилась задача селекции из всего объема окружающей информации данных, необходимых для продвижения к оптимальному варианту будущего. Если характеризовать функциональную принадлежность прогнозирования с точки зрения управления, то оправданно его относить к совокупности информационных функций управления, наряду с документационно-архивной, морально-правовой, оценочно-экспертной, познавательно-аналитической, целевой функциями.
Практические управленческие функции прогноза в государственном управлении:
Ø «прагматическая» – подготовка информации для принятия решений;
Ø «информативная» (на что следует обратить внимание, что считается важным по мнению исследователей, правительства);
Ø «идеологическая» (программирование общественного мнения).
2.1.2. Исходный этап развития прогностики: конец ХIX – начало XX вв.
Говоря о дисциплине (дисциплинах), которые концентрируют свое внимание непосредственно на проблематике прогноза и прогнозирования, можно, в первую очередь, обозначить ФУТУРОЛОГИЮ и ПРОГНОСТИКУ. Какие этапы можно выделить в развитии этих дисциплин?
Разработки в области социально-экономического прогнозирования, которые легли в основу ее оформления как относительно самостоятельной дисциплины, можно датировать последней четвертью XIX века. Они были связаны с попытками исследователей выявить будущие тенденции производства основных продуктов на основе анализа поведения находившихся в их распоряжении статистических данных. Главными методами прогнозирования тогда были экспертные оценки (на основе качественного анализа
рядов) и простая экстраполяция (перенесение прошлых тенденций в будущее).
В конце XIX – начале XX вв. были сделаны первые попытки определения экономических показателей-индикаторов (барометры Беннера, Брукмайера, Бэбсона…). Например, Брукмайер пробовал использовать для прогнозирования три хронолгических ряда следующих показателей: индекс банковских кредитов, индекс цен акций, индекс общей экономической активности. Схожий подход был опробован Бэбсоном: берется 12 серий статистических данных, из которых почти каждая является комбинацией нескольких элементарных рядов и которые в совокупности характеризуют динамику всех основных сфер хозяйственной жизни. Исключаются сезонные колебания, а затем полученные данные переводятся в совокупность базисных индексов, которые после взвешивания переводятся в один общий индекс. Строится диаграмма, через полученную кривую проводится линия, характеризующая направление «нормального развития» страны, так, чтобы площади всех фигур, образуемых в результате ее пересечения с кривой индекса, находящихся сверху этой линии, были равны площадям таких же фигур под этой линией на протяжении достаточно длительного времени.
Дальнейшее развитие этот подход получил в создании знаменитого Гарвардского барометра, внешне представляющего собой три кривые А, В, С, отражающее поведение показателей, признанных исследователями наиболее чувствительными к изменениям экономической конъюнктуры: индекс стоимости ценных бумаг на бирже (А), индекс деловых обстоятельств, отражающий положение на товарном рынке (В), и индекс нормы процента (С), отражающий положение на денежном рынке. Была выявлена определенная эмпирическая закономерность, связывающая эти кривые: перелом в движении А на 6 – 9 месяцев опережает В, которая, в свою очередь, на 2 – 8 месяцев опережает С. Анализ их поведения наряду с анализом сопутствующих данных можно использовать для прогноза.
Эти и подобные им исследования, фактически, дали жизнь такой отрасли экономической науки, как эконометрика, оформившейся в 30-е гг. XX века. В это же время свое развитие получает и прогностика в целом как наука о теории, методологии и методах прогнозирования. Хотя научное предвидение как таковое сформировалось гораздо раньше, самостоятельное значение прогностика стала приобретать только в последнее столетие, не в последнюю очередь в связи со все более частым использованием прогноза как средства проверки, подтверждения и практического применения научных теорий и гипотез.
В конце XIX – начале XX веков появились многочисленные публикации с преобладанием «научно-технического» характера предсказаний относительно будущего и лишь отчасти, как следствие развития науки и техники, описывающие социальные изменения. К их числу можно отнести работы Гартинга «Год 2066» (1866), Рише «Через 100 лет» (1892), Тарда «Отрывки из будущей истории» (1896), Говарда «Города-сады будущего» (1902), «Заветные мысли» (), «Этюды о природе человека» (1903) и «Этюды оптимизма» (1907) и др. В социальном аспекте заслуживают внимания работы Герберта Уэллса, например, «Предвидение о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизни и мысль» (1901). По оценкам исследователей подход автора к проблемам будущего и уровень изложения почти не отличаются от аналогичных работ более поздних периодов (20-х – 30-х годов, даже 50-х – 60-х годов XX века).
Тема размышлений о будущем в 20-е – 30-е годы была активно подхвачена многими авторами, что на Западе вылилось даже в издание известной серии брошюр (более ста) по перспективным проблемам науки, техники, экономики, культуры, политики, искусства – «Сегодня и завтра» (1925 – 1930).
К этому периоду на Западе стали появляться не только публицистические и научно-популярные труды, но и фундаментальные монографии, в числе которых можно назвать работы Лоу «Будущее» (925), «Наука смотрит вперед» (1943), Эрла Биркенхеда «Мир в 2030 году» (1930) и ряд других работ.
В Советском Союзе в это время также активно развивалась научная и научно-публицистическая мысль в сфере социально-экономического прогнозирования, в первую очередь, в связи с масштабными государственными проектами развития (ГОЭЛРО). Достаточно отметь вклад в развитие представлений о будущем, которыей внесли такие исследователи и ученые, как ((«космическая философия»), (историометрическая «солнечная» теория», 11-летние циклы Чижевского, историческая типология поведения масс), (ноосфера), и, конечно же, (в целом детальная проработка проблемы прогнозирования, теория длинных циклов экономической конъюнктуры).
2.1.3. Современная социальная прогностика как отрасль науки
Прогностические исследования на Западе вновь стали набирать силу в конце 40-х годов. Можно выделить три основные фактора, способствовавшие этому:
a) появление концепции научно-технической революции и ее социально-экономических последствий (Дж. Бернал, Норберт Винер);
b) разработка техники поискового и нормативного прогнозирвоания в целях повышения эффективности управления. В этой связи можно назвать известную работу К. Ландауэра «Теория национального экономического планирования» (1944), в которой автором предложена была система, позже ставшая известной как «индикативное планирование»;

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |





