Наконец, 20 февраля 1598г. он мог сказать:
«Наследую могущим Иоаннам-
Наследую и ангелу царю!...»
Борис Годунов стал первым в истории России не природным, но «земским царем». Собор выражал волю всей Русской земли, но прекращение прежнего царского рода, «неприродное царство» Бориса не могли пройти для страны бесследно.
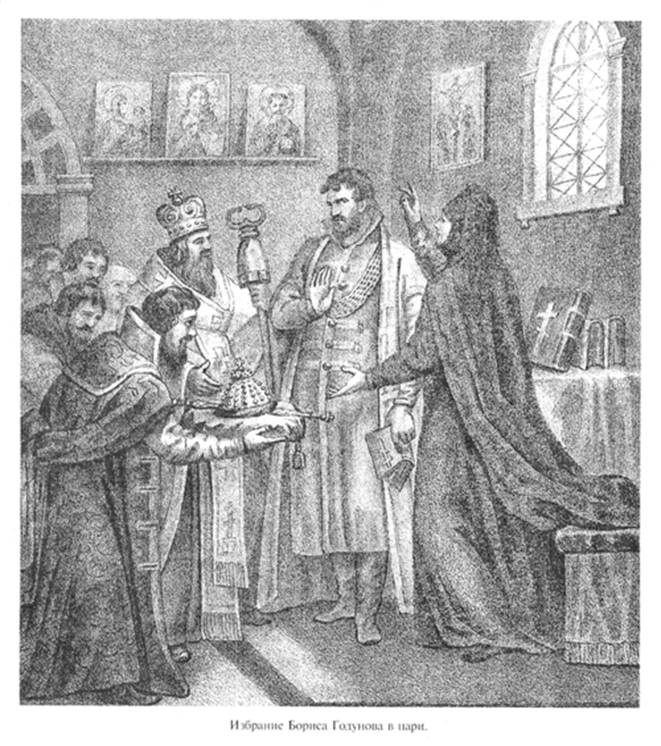
Борис Годунов (15гг.)
1 сентября 1598г. Борис Федорович Годунов венчался на царство. Во время торжественного обряда новый царь торжественно объявил патриарху высшую цель своего правления: «Бог свидетель, отче, в моем царстве не будет нищих и бедных» и обещал разделить с подданными последнюю рубаху.
Первые же указы царя Бориса были направлены на завоевание народного расположения и как бы подтверждали подлинность намерений, заявленных во время венчания на царство. Сельское население было на год освобождено от податей, торговые люди на два года получили право беспошлинной торговли, покоренные народы были на год избавлены от ясака (дани), служилые люди получили единовременное годовое жалование. Всемерно подчеркивался милосердный характер нового царствования. Были выпущены на свободу все преступники, прощены опальные, прекращены казни. Особая забота проявлялась о вдовах, сиротах, неимущих, получавших от казны воспомоществование. Начал Борис бороться и за укрепление народной нравственности, закрыв множество кабаков, бывших рассадниками пьянства. Новый царь, получивший шапку Мономаха от Земского собора, воплощавшего народную волю, казалось, на деле воскрешал времена великого князя Руси Владимира Всеволодовича.
Неуемной государственной деятельностью Борис как бы стремился увековечить свое правление в памяти потомков. назвал любимым делом Годунова постройку городов. Он действительно явился основателем таких городов как Царево-Кокшайск (Йошкар-Ола), Саратов, Царицын, Ливны, Архангельск. При нем стали городами Курск, Воронеж. С именем Бориса Годунова связаны крупнейшие каменные постройки Московии: Астраханский кремль, Смоленская крепость, стены Белого Города в Москве. Повелением царя Бориса Федоровича в Московском Кремле была воздвигнута колокольня Ивана Великого - самое высокое здание России.
Замечательно деятелен был Борис Годунов в делах внешних, поддерживая постоянные дипломатические связи с Англией, Польшей, Австрией. Подобно Ивану III он поддерживал отношения с итальянскими государствами и просил герцога Тосканы отправить в Россию искусных медиков, ученых, художников. Царь, очевидно, сознавал явную отсталость страны от более просвещенной Западной Европы и приложил немало усилий, пытаясь начать прививку в России западного просвещения.
«Никто из прежних московских царей не отличался такой благосклонностью к иностранцам, как Борис. Он пригласил в свою службу ливонских немцев, принимал к себе иностранцев, приезжавших из Германии, Швеции, Франции, составил особый отдел войска из иноземцев, дал всем ливонцам, поселенным еще при Грозном в Москве, льготы от податей и повинностей, а для некоторых из них предоставил право беспошлинной торговли, позволил построить в Немецкой слободе протестантскую церковь, пригласил к себе несколько иностранных врачей и аптекарей, впрочем для собственного обихода, запрещая лечить кого бы то ни было иначе как с царского дозволения.»- писал .
В последнем случае, думается, Борис шел на уступку московским нравам, весьма подозрительным к иностранцам- коренное отличие Древней Руси от Московии. Если домонгольская Русь вовсе не чуралась чужеземцев, не ощущая себя чуждой остальной христианской Европе, пусть и католической, то Москва видела в западном просвещении угрозу устоям православного «Третьего Рима». Потому не удалась попытка Бориса создать в Москве учебное заведение, подобное европейским университетам. Высшее духовенство решительно воспротивилось замыслу царя, опасаясь губительного воздействия зарубежных учителей на нравственность русских учеников. Тогда Борис отправил молодых русских дворян учиться за границу. Четверо выехали в Англию, позже четырнадцать человек выехали в Германию и Францию.
Как известно, «первый блин комом». Никто из восемнадцати молодых людей на родину не вернулся. То ли тамошняя жизнь слишком уж пришлась им по нраву, то ли возвращению в отечество помешали вести о начавшейся вскоре после их отъезда кровавой смуте, но так или иначе судьбы первых русских волонтеров западного просвещения нам неведомы. Известна лишь судьба одного из них - Никанора Олферьева Григорьева, ставшего в Англии священником англиканской церкви… В новой вере Никанор оказался более тверд нежели в отеческом православии. Во время Английской революции в 1643г. пуритане с ним расправились за его стойкость в англиканстве.
Действительных результатов просветительские попытки Бориса не принесли. Не лучше обстояли дела и внутренние. Внешне крайне привлекательные первые царские указы быстро привели к печальным последствиям. Доходы казны упали и их предстояло наверстывать. Милосердие к преступникам привело к немедленному умножению разбойничьих шаек, кабаки пришлось возобновить для восстановления доходов казны. Борис сумел снискать любовь значительной части дворянства и духовенства, сокрушить очередной боярский заговор, во главе которого стояли бояре Романовы, ближайшая родня по матери покойного Федора Иоанновича (старший из Романовых Федор был пострижен в монахи под именем Филарета), но в простом народе ему не могли простить закрепощения крестьян и холопов. Особое значение имело то обстоятельство, что Борис не был природным царем и никакая земская воля не могла в глазах народа искупить этот недостаток. Прекращение Рюриковой династии, да еще и связанное с трагическими происшествиями - убийство Иваном Грозным сына, загадочная гибель Дмитрия в Угличе - роковым образом подрывало законность власти царя Бориса Годунова в глазах народа. Отсюда неизбежность появления слухов о «чудесном спасении» последнего Рюриковича - царевича Дмитрия. Уже в 1600г. первые такие слухи достигли царского двора. В условиях растущей социальной напряженности из-за введения крепостничества опасность подобных слухов была особенной.
Для полноты несчастья сама природа ополчилась на правление царя Бориса. В течение двух лет подряд 1601 и 1602гг. летние дожди и ранние осенние морозы вызвали невиданные досель неурожаи, вызвавшие в стране смертный голод, унесший в одной только Москве по свидетельству современников 127 тысяч человеческих жизней. Надо отдать должное Борису Годунову. В годину тяжелейшего бедствия, поразившего страну, он со своей стороны сделал все возможное чтобы облегчить народные страдания. Царь велел изымать хлеб у богатых торговцев, придерживавших его ради больших барышей, и отдавать его неимущим. Были открыты для голодающих царские житницы, хлеб из которых продавался по низким, доступным для населения, ценам. Бедноте щедро раздавалась милостыня из казны. Наконец в 1602г. Годунов решился ослабить само недавно введенное крепостное право - крестьяне, проживавшие в поместьях и вотчинах дворян и бояр, не несших службу в Москве, получили вновь право свободного перехода (московскую знать, непосредственную опору трона, Борис не решился ущемить в крепостнических правах). Казалось, сделано все возможное. Но последствия оказались иными, нежели ожидал государь.
Царские люди легко находили общий язык (за мзду, разумеется!) с бесчестными хлеботорговцами и на продажу голодающим шел гнилой хлеб; раздача милостыни обогащала более плутов, чем нуждающихся; крестьяне поместий и вотчин московской знати не пожелали считаться с ограничениями царского указа, в результате Борис озлобил и крестьян, не получивших прежней воли, и дворян, особенно провинциальных, увидевших в его действиях подрыв и без того не устоявшихся крепостных порядков. Видя недейственность принятых мер, паче того, обратное их действие, Борис, спешно отменяя малоудачные указы, только усугубил их печальные последствия. Указ о милостыне был отменен месяц спустя, как раз тогда, когда огромная масса голодающих устремилась к Москве и отмена лишь вызвала вспышку злобы на царя; льготы крестьянам, отмененные год спустя, имели самые печальные последствия, ибо раздразнили крестьян и подорвали доверие дворян к Борису. В итоге к 1603г. всеобщее недовольство вылилось в жестокий крестьянский бунт, участие в котором приняли тысячи и тысячи крестьян во главе с неким Хлопко. Мятеж был подавлен. Но успокоения не наступило. В стране было тревожно.
«Народ ожидал чего-то необычайного. Давно носились рассказы о разных видениях и предзнаменованиях. Ужасные бури вырывали с корнем деревья, опрокидывали колокольни. Там не ловилась рыба, там не было птиц. Женщины и домашние птицы производили на свет уродов. В Москву забегали волки и лисицы; иным на небе стали видеться по два солнца и два месяца. Наконец, летом 1604 года явилась комета, и астролог-немец предостерегал Бориса, что ему грозят важные перемены»- так нарисовал картину состояния русского общества в самый канун «Смутного времени».
Россия первых лет XVII столетия явно напоминала открытую пороховую бочку и достаточно было искры, чтобы произошел страшный взрыв. Искра эта нашлась. Ею стал бывший служилый человек опальных бояр Романовых суздальский дворянин Юшка Отрепьев, после ссылки своих покровителей постриженный в монахи кремлевского Чудова монастыря под именем Григория. Пребывание в Чудовом монастыре - центре русского просвещения - сделало его человеком книжным, здесь он ознакомился с главными летописями, возможно и ознакомился с материалами темного Угличского дела. Не исключено, что там у него и возникли честолюбивые замыслы выдать себя за чудом спасшегося от убийц царевича Дмитрия Иоанновича - будь тот жив, был бы он ровесник Отрепьеву, а слухи о «чудесном спасении» последнего сына Грозного появились еще накануне опалы Романовых. В 1602г Григорий Отрепьев бежал из монастыря, затем покинул русские пределы и оказался в Польше. Пребывая в Киеве, принадлежавшем тогда польской короне, Отрепьев с помощью хитроумнейшего приема заставил говорить о себе, как о спасшемся от убийц Годунова царевиче Дмитрии Иоанновиче. Беглый монах притворно заболел и, находясь якобы при смерти, исповедался перед священником, пришедшим дать последнее отпущение грехов умирающему московиту. Исповедь столь потрясла бедного священника, что он и думать забыл о сохранении ее тайны. Он исповедал сына Иоанна Грозного! Так слухи о «царском происхождении» Отрепьева пошли как бы и не от него и совсем не по его воле. Да и как мог священник не поверить умирающему? Кто же решится на такую ложь, готовясь предстать перед Богом?
Григорий Отрепьев блистательно осуществил свой замысел. Он побывал в Запорожской Сечи, где встретил самый теплый прием. Дружба Отрепьева с казаками послужила основой многих легенд. Еще в конце XIXв. знаменитый журналист записывал казацкие предания о запорожском происхождении «царевича Дмитрия». Вскоре Отрепьев оказался на службе у князя Адама Вишневецкого. Прямой потомок основателя Запорожской Сечи прославленного Байды Вишневецкого князь Адам был уже католиком и верным слугою польского короля. Ему первому Отрепьев прямо открылся в своем «царском происхождении», о коем итак уже шла молва. Скоро удивительное известие достигло королевского двора, где немедленно увидели невероятную пользу его для польской короны и римско-католической церкви. Король Сигизмунд III (гг.) и представитель римского престола папский нунций Рангени были в упоении от внезапно открывшейся возможности поставить на московский престол во всем покорного им человека и через него политически подчинить Россию Польше и русскую церковь римскому папе.
Сигизмунд III «признал» царевича Дмитрия и, не оказывая ему официального государственного содействия, позволил польским панам помогать «царевичу» обрести «отеческий престол». От имени короля при Лже-Дмитрии состоял сандомирский воевода Юрий Мнишек, с чьей дочерью Мариной он обручился. Мнишек, блюдя интересы как польской короны, так и папской курии, заключил 25 мая 1604г. с «царевичем» тайное соглашение, согласно которому после обретения престола тот должен был уступить королю смоленские, черниговские и новгород-северские земли, а Марине Мнишек выделить в полное ее владение Новгород и Псков. Католицизм получал в России полную свободу и тайно принявший его Отрепьев легкомысленно обещал иезуитам и папскому нунцию привести в подчинение папе саму русскую церковь.
Не скупясь на обещания, Лже-Дмитрий обеспечивал себе надежнейшую поддержку Польши и Ватикана, но этим же он в будущем ставил себя в более, чем опасное положение. Не может царь и великий князь всея Руси отдавать иноземцам русские земли, не может владыка Третьего Рима ущемлять веру православную, да еще и в интересах исконного врага ее католицизма. Понимал ли сам Отрепьев явную несбыточность своих обещаний или был настолько легкомыслен? А может по принципу «цель оправдывает средство» полагал, что главное с чужой помощью въехать в Кремль. А там, дескать, посмотрим? В любом случае это была отчаяннейшая авантюра, но Отрепьев был не из тех, кого это могло смутить.
16 октября 1604г. Лже-Дмитрий с вооруженными отрядами поляков и запорожских казаков вступил в пределы России. Здесь он сразу встретил радушнейший прием. Города сдавались ему без боя, местные служилые люди - дворяне переходили к нему в войско, вымещая тем самым свои обиды Борису Годунову. В ноябре самозванец осадил Новгород-Северский, где обороной города ведал любимец Годунова боярин Петр Федорович Басманов. Тем временем вся Северская земля перешла на сторону самозванца. Лже-Дмитрий обнаружил замечательную гибкость. Придя на Русь из Польши, опираясь на вооруженную поддержку поляков, давних врагов Москвы, да еще и иноверцев, он на русской земле вел себя подобно действительно русскому царевичу. Все видели его усердие в православной вере. По его повелению из Курска ему доставили чудотворную икону Богоматери, перед которой он ежедневно совершал молитвы. Стекавшимся к нему толпами крестьянам он сулил восстановление старинного Юрьева дня, дворянам же наоборот обещал восстановить твердый государственный порядок и закрепить крестьян в их поместьях навеки. Раздавать невыполнимые обещания самозванцу было не впервой и это его нимало не смущало.
Царские войска значительно превосходили силы Отрепьева, но нравственное состояние их было по меньшей мере смущено необходимостью биться против возможно «законного царя». Вдруг мятежный предводитель никакой не расстрига Гришка Отрепьев, а действительно чудесно спасшийся сын Грозного царя? Тогда они служат беззаконному захватчику престола против своего истинного владыки? Подобные мысли не могли не рождаться в умах царских воинов и они, безусловно, никак не способствовали повышению их воинского духа.
Самозванец вскоре обнаружил и незаурядную отвагу, и немалые способности смелого военачальника. В декабре под Новгород-Северский подошла московская рать, возглавляемая знатнейшим боярином князем Федором Ивановичем Мстиславским. Борис, надеясь вдохновить князя на ратную доблесть, обещал в случае полного успеха выдать за него замуж свою дочь. «Приданым» к этому браку должны были быть Казань и Северская земля. Однако самые замечательные посулы не могли даровать князю Федору Ивановичу ни ума, ни воинского умения. 21 декабря 1604г. пятидесятитысячная царская рать была разбита Лже-Дмитрием, под началом которого едва было пятнадцать тысяч человек.
Вдохновленный таким успехом, самозванец решительно двинулся далее к Москве, но месяц спустя 21 января 1605г. был разбит царскими воеводами под Добрыничами. Изумительная отвага Лже-Дмитрия разбилась о слишком большое численное превосходство царских войск. Успех, однако, развит не был. Борис торопил воевод, но они не спешили даже не по неумелости или по неверности царю, но в виду явного сочувствия самозванцу населения. Военные силы Лже-Дмитрия были невелики - после несчастного для него боя под Добрыничами едва ли осталось более восьми тысяч. Но число сторонников его в стране множилось и множилось…
Чувствуя бессилие победить самозванца силой оружия, Годунов попытался прибегнуть к яду, но двое монахов, направленные в стан Лже-Дмитрия с целью его отравить, были там схвачены. О последней неудаче Борис не успел узнать. 13 апреля 1605г. его постиг внезапный удар и он тот же день скончался.
Новым царем был провозглашен сын Бориса Федор, но не его слабым рукам было удержать власть в такое время. В Москве присяга царю Федору Борисовичу прошла спокойно, но чем дальше от столицы, тем менее она значила… наконец, 7 мая Петр Федорович Басманов, стоявший во главе всего царского войска, объявил полкам, что истинный царь - Дмитрий. Что заставило изменить присяге этого мужественного воина, недавнего любимца царя Бориса? В трагедии Пушкина «Борис Годунов» верность Басманова сломили следующие слова, вложенные поэтом в уста своего предка боярина Григория Пушкина, обращенные к царскому воеводе:
«Я сам скажу, что войско наше дрянь.
Что казаки лишь только села грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские…да что и говорить…
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да, мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города.
А воевод упрямых чернь вязала?
Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? При Борисе!
А нынче ль?.. нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани:
Со всем своим умом и твердой волей
Не устоишь; не лучше ли тебе
Дать первому пример благоразумный,
Димитрия царем провозгласить
И тем ему навеки удружить?»
После измены войска во главе с Петром Басмановым дело Годуновых было безнадежно. В Москве скоро узнали о переходе Басманова со всеми полками на сторону самозванца. Теперь царя Федора Борисовича никто не принимал всерьез. 1 июня 1605г. в Москву боярин Григорий Пушкин и дворянин Плещеев привезли грамоту от «царя Дмитрия», князь Василий Иванович Шуйский, четырнадцать лет назад по поручению Годунова расследовавший «Угличское дело» и тогда подтвердивший случайную гибель царевича, теперь с Лобного места на Красной площади объявил народу: «Борис послал убить Дмитрия-царевича; но царевича спасли; вместо него погребен попов сын».
Разъяренная против Годуновых мятежная толпа ворвалась в Кремль, царя Федора, вдовствующую царицу и царевну Ксению взяли под стражу. 10 июня был сведен с престола патриарх Иов. В тот же день Федор Годунов и его мать по приказу прибывших от самозванца князей Голицына и Рубец-Масальского были убиты. 20 июня Лже-Дмитрий торжественно вступил в Москву и занял престол государства Российского. Беглый монах, самозванец, тайный католик стал государем всея Руси Дмитрием Иоанновичем. Россия вступила в «Смутное время».
Лжедимитрий I (гг.)
Падение Годуновых, приход к власти Лже-Дмитрия знаменовали собой вступление России в один из самых трагических периодов своей истории - «Смутное время». Смута, вспыхнувшая в последние месяцы правления царя Бориса, все разгоралась и разгоралась, разрушая государственный порядок, ставя под угрозу национальную независимость страны. У историков нет особых расхождений в определении причин наступления смутных времен. Историки XVIIIвека и полагали главной причиной смуты введение Борисом Годуновым крепостного права. Эту точку зрения подтвердили и все последующие поколения историков. Помимо этой, безусловно корневой причины «Смутного времени», и указывали на нравственное разложение общества, сделавшее возможным кровавую междоусобную брань. Нравственная основа народа была подрублена безумием неправых казней Иоанна, деяниями его опричников. как важный повод к Смуте, в коей он видел следствие крайнего несовершенства самих государственных порядков, порождающих общественную рознь, называл прекращение династии. И действительно, какова бы ни была социальная напряженность в государстве, сколь бы ни были хищными соседи, но наличие в стране законной, никем неоспариваемой, власти «природного» (!) царя никогда не позволило бы довести государство до той крайности, когда казалось, ему более уже и не быть. Введение крепостного права неизбежно вызывало крестьянские бунты, казачество было бы в любом случае питательной средой мятежей, соседи могли воспользоваться трудностями России, но если бы в глазах народа законность власти царя не вызывала сомнений, то неоткуда было бы появиться Лже-Дмитрию, и не стал бы царский трон игрушкой в руках сомнительных его искателей; сидел бы на троне «природный царь» Рюрикова, рода кто бы стал звать на престол чужеземного королевича? Какой был бы повод у поляков и шведов вторгаться в русские земли?
Безумное сыноубийство, свершенное Иоанном Грозным, загадочная гибель царевича Дмитрия в Угличе создали условия, при которых кровавая смута едва не смела с лица земли само Государство Российское.
«В таком совпадении государственного расстройства с расстройством династии надобно видеть главное условие открытой Смуты. Сильное правительство могло бы господствовать над положением дел, бороться с общественным брожением и искать выхода из государственных затруднений; ослабевшая власть становилась жертвой посторонних влияний и покушений, которые превращали ее в орудие беспорядка как в правительственной среде, так и в управляемом обществе.»-писал крупнейший исследователь истории «Смутного времени» .
Если царская власть Бориса Годунова при всей его неродовитости была освящена Земским собором 1598г., выражавшим волю народную «всей земли», то в основе власти Лже-Дмитрия лежало наглое самозванство, прямая помощь врагов России, лживые и наскоро всем подряд данные обещания. До поры до времени его спасала народная легенда о «чудесно спасшемся» царевиче и вера, что на трон действительно воссел последний сын Грозного царя… но не зря ведь сказано: «Сколько веревочке не виться…» Отрепьев в царском обличии сам сделал многое, чтобы разрушить представление о себе, как об истинном Дмитрии Иоанновиче. Поразительно сочетание в нем незаурядного мужества, немалого ума, уменья привлекать к себе людей, серьезных намерений провести в государстве глубокие преобразования, могущие его укрепить, просветить народ и улучшить его быт с поразительным безрассудством, легкомыслием, небрежением общественным мнением, безнравственностью. Что и предопределило его конечную погибель.
Венчавшись на царство 30 июля 1605г., Лжедимитрий немедленно приступил к державным делам, проявив здесь неуемную энергию. Прежде всего он постарался завоевать расположение подданных, объявив о милосердном характере своего правления и подкрепив его прощением всех приверженцев Годунова. Естественно, были помилованы все гонимые в царствование Бориса и прежде всего Романовы. Филарет Романов стал митрополитом Ростовским. Особую заботу новый правитель проявил о дворянстве и всех служилых людях. Помещичьи наделы были увеличены вдвое, вдвое же возросло содержание служилых людей и должностных лиц. Будучи обязан престолом поддержке прежде всего простого народа, зная отношение крестьян к крепостническим порядкам, заведенным Годуновым и будучи связан обещаниями восстановить прежний вольный выход в деревне, Лжедимитрий пошел на уступки низам. Он отменил потомственную кабалу холопов, запретил судить беглых крестьян по прошествии пяти лет. Не решаясь отменить крепостное право, что вызвало бы немедленное негодование дворянства, Лжедимитрий издал хитроумный указ, согласно которому помещики, не кормившие крестьян во время голода, теряли на них владельческие права. Многие ли из помещиков и вотчинников могли похвалиться тем, что спасали крестьян своих от голода? Указ, разумеется, был встречен дворянами без всякого восторга, да и крестьянам радости было мало, поскольку надо было доказывать бессердечность землевладельцев во время голода, а само крепостничество сохранилось, и помещики прав своих просто так отдавать не собирались. Так, подобно Годунову в 1602г. Лжедимитрий, не удовлетворив ни помещиков с вотчинниками, ни крестьян, и тех и других сильно разочаровал…
Ряд других мер, принятых новым правителем, был для государства безусловно благодетельным. Суд был объявлен бесплатным, общины получили право сами доставлять собранную подать в казну, что резко сокращало злоупотребления и мздоимство. Важнейшими надо признать указы о свободе промыслов и торговли, в течении полугода приведшие к изобилию на рынках и заметному удешевлению товаров, что народ, изголодавшийся в последние годы правления Годунова, не мог не оценить. Были отменены всякие ограничения на въезд в государство и выезд из него, на переезды внутри страны, что также способствовало развитию промыслов и торговли. Лжедимитрий, будучи сам человеком образованным, поощрял развитие просвещения и был намерен подобно Годунову отправить русских юношей учиться за границу. Католикам и протестантам была предоставлена свобода вероисповедания, но вопреки данному в Польше обещанию Лжедимитрий не предоставил права строить костелы. К огорчению Польши и римской курии скоро стало очевидно, что новый правитель Московии, столь им обязанный и столько обещавший, отнюдь не склонен держать свое слово. Ни о каком введении в России католичества, ни о каких уступках польской короне русских земель он и не помышлял. Охотно ведя с римским папой переговоры о военных действиях против турок и татар, Лжедимитрий и думать забыл о своих легковесных обещаниях обратить русский народ в римско-католическую веру. Решительно пресек он попытки польского короля обращаться с ним как со своим вассалом: « Увидевши, что Сигизмунд хочет обращаться с ним как с вассалом, он принял гордый тон и требовал, чтобы его называли цезарем.» (). В пику королю Сигизмунду Лжедимитрий принимал в Москве сына его злейшего врага шведского короля Эрика принца Густава.
Тем не менее его непродуманные обещания, данные в Польше ради поддержки в борьбе против Годунова сыграли в судьбе Отрепьева роковую роль. Пусть он не исполнял их, но слухи о них множились, и распространению их способствовало неосторожное поведение самого правителя. Вопиющее, с точки зрения московита, небрежение нового царя старинными русскими обычаями, явно выраженное благоволение иноземцам, предпочтение их соотечественникам - все это вызывало растущее против него раздражение. Поначалу уважительно относясь к церкви, подтвердив монастырям прежние жалованные грамоты и даровав новые, но затем в виду нехватки средств на задуманный им поход против крымских татар и турок объявив о своем намерении отобрать в казну монастырские земли и большую часть имущества монастырей, он настроил против себя духовенство. Речи в защиту прав католиков и протестантов, сами по себе разумные с точки зрения веротерпимости, только утвердили иерархов русской церкви в отступничестве правителя от истинного православия.
Заговор против Лжедимитрия не заставил себя ждать. Во главе его стоял князь Василий Иванович Шуйский. Подтвердив «подлинность» царевича перед его вступлением в Москву, он, почти не сделав перерыва, стал говорить о нем как о самозванце, изобличая злодея Гришку Отрепьева. Будучи схвачен и осужден к казни, он затем был великодушно прощен правителем, внешне раскаялся. Но деятельности заговорщической не прекратил, лишь повел ее искуснее.
Надо сказать, что самозванец, будучи человеком отчаянной храбрости - несмотря на свой малый рост он в одиночку ходил с рогатиной на медведя - не отличался осторожностью, пренебрегая постоянными предупреждениями о заговорах против него. Презрение к доносительству, постоянно им проявляемое, качество нравственно достойное. Но правитель едва ли вправе недооценивать происки своих врагов. Тем более, давать им пищу. Пристрастие Лжедимитрия ко всяческим увеселениям, порочные связи с женщинами - не будучи настоящим сыном Иоанна IV, он в этих пороках немало походил на своего названного «отца»- едва ли способствовали укреплению его престижа в Москве, но не обязательно еще могли иметь трагические последствия, на «батюшке» его грехов подобных было куда поболе… В чем, собственно, был повинен он перед старинными московскими нравами?
«Он ввел за обедом у себя музыку, пение, не молился перед обедом. Не умывал рук в конце стола. Ел телятину, что было не в обычае у русских людей того времени. Не ходил в баню, не спал после обеда, а употреблял это время для осмотра своей казны, на посещение мастерских. Причем уходил из дворца сам-друг, без всякой пышности; при обычной потехе тогдашней, бою со зверями, он не мог по своей природе оставаться праздным зрителем. Сам вмешивался в дело, бил медведей; сам испытывал новые пушки, стрелял из них чрезвычайно метко; сам учил ратных людей, в примерных приступах к земляным крепостям лез в толпе на валы, несмотря на то, что его иногда палками сшибали с ног, давили. Все это могло показаться странным; отступление от старых обычаев могло оскорблять некоторых; трудно сказать, что оно могло оскорблять всех, потому что пристрастие к иноземным обычаям начало распространяться еще при Годунове. Могли оскорбляться некоторые приближенные люди, большинство не было свидетелем уклонения самозванца от старых обычаев; молодечество его, видное для всех, конечно, не могло оскорблять большинства.»- писал .
Самым сильным доводом против Лжедимитрия было обвинение его в переходе в католицизм, но и для этого почвы было мало. Правитель не дал воли иезуитам, не позволил строить костелы, оказал покровительство и поддержал богатыми денежными дарами русское православное братство во Львове - оплот православия в Речи Посполитой, всемерно защищавшее русское население от происков папизма, особенно усилившихся после 1596г., когда в Бресте была под давлением Ватикана провозглашена церковная уния, отдававшая православный люд Польши и Литвы под власть католической церкви. Веротерпимость Лжедимитрия вовсе не была отступничеством от православия, хотя именно в этом враги более всего его обвиняли. Подлинно роковым его поступком, давшим заговорщикам немало сторонников в Москве, явилась злосчастная свадьба с Мариной Мнишек. Новоявленная царица - полячка, католичка - не могла вызвать добрых чувств у русских людей. Приехавшие в ее свите поляки, в основном своевольные шляхтичи, знаменитые своими буйствами, почему их из польских владений охотно отправили в Москву, своим наглым поведением оказали Лжедимитрию наихудшую услугу. Высокомерие пришельцев в отношении москвичей, насилия над их женами и дочерьми, оскорбления в адрес русских людей и самого царя, о коем они презрительно говорили: «Что ваш царь! Мы дали царя Москве!»- вызывали справедливый гнев. Лжедимитрий, упоенный свадьбой с горячо любимой Мариной, воистину потерял голову и не желал замечать оскорбительного для себя поведения польских «гостей» и тех последствий, кои оно могло для него иметь. Более того, всех их он взял к себе на службу, после чего те заявили московским боярам: «Вот вся ваша казна перейдет к нам в руки!» Понятно, долго терпеть такие выходки в Москве не могли. Заговорщики во главе с Василием Ивановичем Шуйским поняли, что настал их час. Лжедимитрий сам помог его приблизить. Свадьба его с Мариной Мнишек была сыграна вопреки церковному уставу 8 мая на пятницу. Более того, он не настоял на ее переходе в православие и новом крещении, которого требовали митрополит Казанский Гермоген и коломенский архиепископ Иоасаф. Отправив Гермогена в его епархию на заключение в монастырь, Лжедимитрий окончательно оттолкнул от себя церковных иерархов. Теперь заговорщики решили действовать. Не полагаясь на москвичей, среди которых несмотря на последние безобразия заезжих «польских друзей» царя число его сторонников было все еще велико, Василий Шуйский сделал ставку на находившееся близ Москвы восемнадцатитысячное войско, составленное из новгородцев и псковичей, которое сам Лжедимитрий готовил к походу на Крым. Своим сторонникам из числа москвичей и представителям войска Шуйский объявил, что царь - самозванец, Гришка Отрепьев, его признали Дмитрием лишь для того, чтобы избавиться от Годунова, что царь любит только иноземцев (явное преувеличение), презирает святую веру (опять натяжка), оскорбляет храмы Божии, выгоняет священников, отдает их дома иноверцам (прямая ложь), женился на польке и католичке Марине (а вот это настроило против него многих).
Об опасности, грозящей ему, Лжедимитрия пытались предупредить верные ему люди, но он, верный себе, брезгливо пренебрег доносом.
В ночь с 16 на 17 мая войска заговорщиков вошли в Москву. Утром Шуйский велел открыть тюрьмы и выпустить всех преступников, раздав им оружие. Они и стали самыми верными приверженцами заговорщиков. Ударил набат…мятежные толпы устремились в Кремль… кровью завершилось недолгое царствование Григория Отрепьева под именем царя Димитрия Иоанновича.
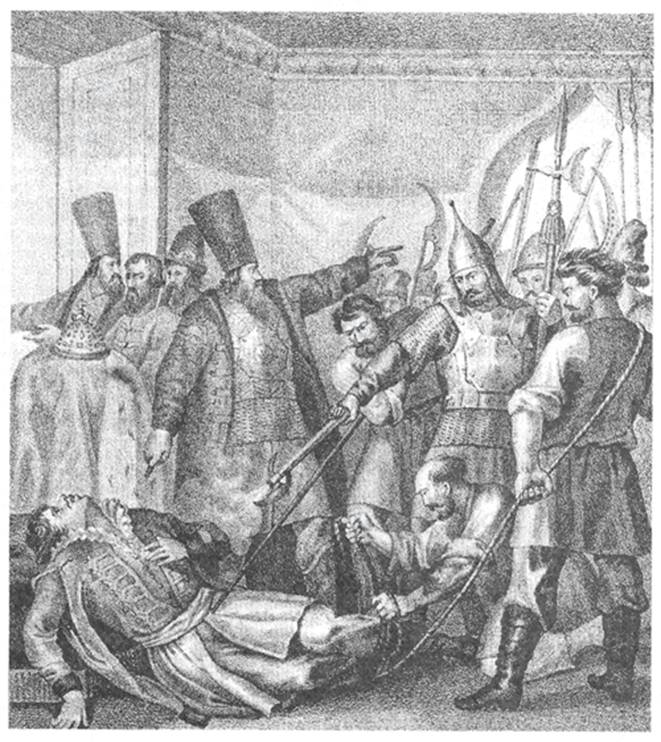
Василий Шуйский (гг.)
19 мая в Москве на Красной площади был провозглашен новый царь - Василий Иванович Шуйский. Собравшуюся, в основном случайную, толпу сочли «Земским собором» и главу заговорщиков, виновного в кровопролитии 17 мая, когда погибло около полутора тысяч заезжих поляков (вот и расплата за наглость и бесчинства) и две тысячи москвичей, объявили законным царем. В народе мало кто воспринял воцарение Шуйского как праведное, сразу стали говорить, что он не выбран, а «выкрикнут» царем, что и было чистой правдой. Годунов был законнейшим образом истинным Земским собором провозглашен царем - ему не прощали отсутствия «природности»; Лжедимитрий представлялся «природным царем»- его погубила дружба с поляками и несоответствующий достоинству православного государя брак; Шуйский, пусть и знатнейшего рода, но никак не царского, и не избран Земским собором, а «выкрикнут» простой толпой…и какое уважение может быть к человеку столько раз менявшему свое слово? При Годунове свидетельствовал: случайно погиб царевич Дмитрий; после смерти Годунова: царевич жив, схоронили попова сына; затем вновь: царевич погиб, а на троне Гришка Отрепьев… Нетрудно было увидеть одно: не будет счастья этому правлению. Так оно и случилось. Гибель Лжедимитрия, нелепый «выкрик» царем Василия Шуйского сильнейшим образом подорвали всякое почтение к верховной власти. Переход Смуты в кровавую междоусобицу стал неизбежен. В стране было крестьянство, люто ненавидевшее крепостнические нововведения, было казачество, не любившее бояр московских и преданное любимому «царю Димитрию», из-за западных рубежей с хищным вниманием за Российской смутой следили польские паны и иезуиты, многие дворяне, бояре и иные князья не пылали желанием служить на сей раз воистину самозваному царю, пример же Григория Отрепьева, воцарствовавшего над Москвой, многих отчаянных честолюбцев прельщал возможностью удачи…
И стало лето 1606г. в России началом «открытой общественной борьбы». ().
Казалось, тень погибшего в Угличе царевича никак не желает успокоиться. Не успело страну обойти известие о гибели того, кого принимали за Димитрия Иоанновича, как пошли слухи, что он жив и вскоре в Польше объявился новый самозванец, коего принято именовать Лжедимитрий II. Кто был он - осталось неизвестным, сколь либо заметными личностными достоинствами он не обладал, почти никто не верил в его подлинность, но суждено ему было произвести на Руси страшные потрясения. Имя Дмитрия, принятое им, устраивало многих. Принимая его сторону, они как бы становились под знамя законного государя. Незаконность Шуйского была столь вопиющей, что число противников его царствования не могло не возрастать. Да и в личностном плане крайне малопривлекательная особа Василия Ивановича Шуйского была ничем не лучше любого самозванца. Нельзя забывать, что имя Дмитрия много значило для казачества, и оно готово было поддержать того, кто им назывался. Крестьяне, верившие, что царь Дмитрий может вернуть им утраченную волю (от Шуйского-то ждать ее не приходилось), охотно поддержали нового самозванца. Дело было вовсе не в нем самом - на Лжедмитрия II работало принятое им имя. Ему даже не понадобилось поначалу появляться в России. От его имени невиданный досель мятеж, потрясший до основания все государство, произвел человек, действовавший от имени «царя Димитрия Иоанновича», а сам носивший имя Ивана Исаевича Болотникова.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |




