Власть в Москве оказалась в руках бояр, и более всего в руках матери Василия Васильевича Софии Витовтовны.
В 1426 г. Витовт повел войско в Псковскую землю, но потерпел жестокую неудачу под укрепленным городом и принужден был отступиться от Пскова, вытребовав с псковичей откуп в 1450 рублей серебром. Успешней ему удавалось распространять свою власть мирным путем. В следующем 1427 году под руку Витовта перешли князья Твери, Рязани, Пронска. Теперь литовские владения, глубоко вклинившись в русские земли, с трех сторон окружали Москву. Костомаров объяснял переход Рязани и Твери под власть Литвы их желанием обеспечить тем самым свою независимость от Москвы: «Эти так называемые великие князья (Тверской и Рязанский), будучи старейшими над подручными князьями, сами должны были признавать над собой старейшинство московских великих князей и, видя со стороны Москвы дальнейшее посягательство на свою независимость, естественно, искали противовес в Литве».
Витовт, вдохновленный своими успехами на востоке, не прочь был распространить свою власть и на Москву. Он уже уверенно сообщал иноземцам, что дочь его с внуком отдали все великое княжество московское под его опеку и он является правителем всей Руси. Литовский князь был глубоким стариком, возраст его приближался к 80 годам, но честолюбие его играло как и в молодости. Стремясь к полной независимости и понимая, что дальнейшее упрочение в русских землях его власти, ее дальнейшее распространение сдерживаются вассалитетом Литвы от Польши. Витовт замыслил разорвать польско-литовскую унию и намеревался провозгласить себя самостоятельным королем Литвы и Руси. Он сумел даже заполучить поддержку черманского императора Сигизмунда, охотно поддерживавшего притязания Витовта, поскольку они вели к ослаблению польского могущества. Литовские послы были отправлены в Рим, дабы доставить оттуда в Вильно королевскую корону и благословение папы на коронацию Витовта, но здесь удача от престарелого князя отвернулась. Поляки, крайне обеспокоенные королевскими амбициями Витовта, сумели убедить папу, что независимость новоявленного Литовского королевства явится угрозой для судеб католицизма в Восточной Европе, учитывая громадное преобладание русского православного населения в Литве. Папа, вняв уговорам поляков, отказал Витовту. Литовский князь намеревался сделать еще одну попытку добыть себе королевскую корону, но смерть положила предел его честолюбивым замыслам.
После Витовта в Литве начались многолетние междоусобицы и ее влияние на русские дела не замедлило резко упасть. Властные возможности Софьи Витовтовны после смерти ее могущественного отца стали явно меньшими, чем не замедлил воспользоваться Юрий Дмитриевич, в своем дальнем уделе в Галиче Северном отнюдь не оставивший мыслей о великом столе в Москве.
Галицкий князь в 1431 г. вновь восстал на племянника и потребовал себе великого княжения. Василий Васильевич сумел уговорить с помощью своих бояр Юрия Дмитриевича ехать в Орду, где хан Улу-Мухаммед должен был решить их спор. Соперники отправились в ханскую ставку и в 1432 г. их спор разрешился в пользу Василия Васильевича. Великий князь, казалось, мог торжествовать, но своими же стараниями он вскоре свое благополучие разрушил. Толи будучи лишен чувства благодарности, то ли просто по недомыслию он нанес своему благодетелю Ивану Дмитриевичу Всеволжскому жестокую обиду, нарушив данное слово жениться на его дочери. Василий предпочел взять в жены внучку знаменитого князя Владимира Андреевича Серпуховского Марию Ярославну. Оскорбленный боярин немедленно принял сторону Юрия Галицкого и стал настойчиво побуждать того к продолжению борьбы за великокняжеский престол и насильственному отстранению Василия Васильевича от власти.
Тот в то время и не подозревал сколь быстро собираются над его головой тучи. Князь Василий в Москве в присутствии ордынского царевича Улана, представлявшего хана, торжественно принял великое княжение, узаконенное ярлыком хана Улу-Мухаммеда. Впервые великий стол принимался в Москве, тем самым она окончательно признавалась стольным градом всея Руси взамен утратившего свое значение Владимира. Предстояла свадьба великого князя, но пир оказался омрачен происшествием. Вдовствующая великая княжна Софья Витовтовна на пиру заметила, что на старшем сыне Юрия Галицкого Василии надет драгоценный пояс, ей хорош знакомый. Некогда он принадлежал Дмитрию Донскому. Семья Юрия Дмитриевича с точки зрения Софьи владела этим поясом не по праву. Властная и несдержанная нравом княгиня своей рукой решила немедленно восстановить справедливость и сама сорвала с Василия Юрьевича драгоценное наследие Дмитрия Донского.
 . Софья Витовтовна на свадьбе Василия второго темного.
. Софья Витовтовна на свадьбе Василия второго темного.
Такого оскорбления Галицкого князя вынести уже не могли и на Руси вновь начались кровавые междоусобицы. Юрий Дмитриевич, собрав войско пошел на Москву и великий князь не нашел никаких сил ему противостоять. Князь Юрий вступил в Москву, провозгласил себя великим князем, низложенного же племянника отправил в Коломну. Тут и произошло самое неожиданное. Слово Карамзину: «Сын восходя на трон после отца, оставлял все, как было, окруженный теми же боярами, которые служили прежнему государю: напротив чего брат, княживший дотоле в каком-нибудь особенному уделе, имел своих вельмож, которые переезжая с ним в наследованную по кончине брата землю, обыкновенно удаляли тамошних бояр от правления и вводили новости, часто вредные. Столь явные выгоды и невыгоды вооружили Юрия. В несколько дней Москва опустела: граждане не пожалели ни жилищ, ни садов своих и с драгоценнейшим имуществом выехали в Коломну, где недоставало места в домах для людей, а на улицах для обозов».
Юрию Дмитриевичу не оставалось ничего, как со стыдом удалиться в Галич, возвратив столицу племяннику. В следующем 1434 г. Юрий тем не менее вновь навел свои полки на Москву и вновь овладел ею. На сей раз он не стал предоставлять Василию Васильевич удела блин стольного града, а постарался прогнать его как можно далее. Князь Василий принужден был укрыться в Нижнем Новгороде откуда собирался отправиться в Орду, но вскоре получил известия о благоприятных для себя переменах в Москве. Старый князь Юрий Дмитриевич, не успев насладиться своим пребыванием на великокняжеском престоле, вскоре умер, завешав свою власть старшему сыну Василию, но два других его сын Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный не пожелали служить брату, а предпочли перейти на сторону Василия Васильевича. Скорее всего оба Дмитрия понимали, что Василий Юрьевич в Москве не удержится, а Василий Васильевич в глазах москвичей законный князь.
Вновь князь Василий вернулся в свою столицу, заключив договор с Василием Юрьевичем, по коему тот обязался не искать великого стола. В 1436 г. Галицкий князь, нарушив данное слово, вновь попытался овладеть Москвой, но был разбит. Чтобы навсегда отвадить двоюродного брата от устремлений на великокняжеский престол Василий Васильевич жестокосердно велел ослепить его. Так сын Юрия Дмитриевича стал Василием Косым.
После расправы с Василием Косым Василий II ряд лет княжил в Москве мирно. Император византийский Иоанн Палеолог, видя бессилие свое в борьбе с турками, сделал отчаянную попытку добиться помощи со стороны католической Европы. Он обратился к римскому папе с предложением объединить римско-католическую и Греко-православную церкви под главенством римской курии, за что просил действенной военной помощи. Рим проявил живейший интерес к предложению и было решено созвать в 1439 г. в итальянском городе Ферраре церковный собор для заключения унии, долженствующей воссоединить две великих ветви христианства. Русь должна была быть представлена на этом соборе своим митрополитом и в сентябре 1437 г. митрополит Исидор выехал из Москвы в Италию. Начавшийся в Ферраре собор вскоре был перенесен во Флоренцию. Главным днем его стало 24 марта 1439 г. когда Исидор вступил в поддержку унии на условиях римского папы, что означало подчинение православия католицизму.
По возвращении в Москву Исидор был немедленно схвачен и брошен в темницу за измену православию. Позже ему предоставили возможность бежать из Москвы. Суздальский дьякон Симеон составил повесть «Исидоров собор и хождения его», где резко осуждались действия митрополита. Как смел грек подчинить русскую церковь римскому папе? Мало того, что католические Польша и Литва владеют западными и южными землями, так теперь и всей Руси идти под властью католиков? Нет, не могли в Москве одобрить унии, на подписание которой столько сил положил Исидор. Отныне церковь зависела от власти великого князя московского и всея Руси. Не спасла уния и Константинополя. Спустя 14 лет 29 мая 1453 г. он был взят турками.
В год флорентийской унии произошли и немаловажные события в Золотой Орде, отразившиеся в дальнейшем и на судьбах Русской земли. Хан Улу-Мухаммед был свергнут в 1438 г. Кичи-Мухаммедом и с верной ему частью Орды откочевал к рубежам Руси. Памятуя о поддержке, сказанной им в свое время Василию Васильевичу, Улу-Мухаммед обратился в Москву за поддержкой, но московский князь выразил открытое пренебрежение низвергнутому владыке, не видя от союза с ним для себя никакой пользы. Кроме того, представлялся случай показать свою верность новому хану. Улу-Мухаммед отошел от московских рубежей на Волгу и Каму, где в 1439 г. на месте бывшего здесь некогда Болгарского ханства основал новое татарское государство, независимое от Золотой Орды – Казанское ханство, военную силу коего не слишком дальновидному московском князю вскоре довелось испытать.
Улу-Мухаммед, не простивший Василию Васильевич его неблагодарности и неумного высокомерия, вскоре начал беспокоить набегами московские владения. Особенно страдали земли нижегородские, непосредственно граничившие с Казанским ханством. В 1445 г. большое татарское войско во главе с ханом Улу-Мухаммедом вторглось в русские пределы и подступило к Суздалю. Василий Васильевич собрав свои полки выступил навстречу татарам и дал им бой у стен Суздаля. Увы, полководческого дара у внука Дмитрия Донского не оказалось и он потерпел бесславное поражение, сам попав в член. В Москве известие о разгроме русской рати и пленении великого князя вызвало сильнейшее волнение, горожане стали немедленно готовиться к осаде, но осторожный Улу-Мухаммед отошел к Великому Новгороду. Казанский хан решил подарить Василию Васильевичу свободу, но при этом не забыть о выгоде для себя. Великий князь тут же продемонстрировал еще и низменность своей натуры и очевидную недалекость. Он согласился купить свою свободу у татарского хана за невиданную цену: он обещал дать выкуп «сколько может». В Москву он вернулся вместе с татарскими сборщиками дани, которые стали собирать столько, сколько только было можно, грабя подчистую. Князь утратил всякое доверие к себе в народе, чем воспользовались Галицкие князья. Дмитрий Шемяка неожиданно овладел Москвой и захватил в плен великого князя. Тут-то он и припомнил Василию – князь был ослеплен и получил прозвище Василий Темный.
Дмитрий Юрьевич провозгласил себя великим князем московским и всея Руси и воссел в Москве на княжеский престол. Василий Васильевич должен был доживать свой век в темнице. Слепой, заточенный, низвергнутый князь, перед тем еще и позорно разбитый заклятыми врагами Руси, нанесший жестокую обиду своему народу – на что он теперь мог надеяться? Казалось, Дмитрий Шемяка, наконец-то добился того, о чем так долго мечтали Галицкие князья. И вновь успех его оказался недолговременным.
Нельзя сказать, что на Москве очень уж любили Василия Васильевича, да и цену его военным и державным дарованиям знали, но был он в глазах народа законным князем, по праву, освященному установившимся обычаем, завещанному отцом и дедом, занимавшими свой великокняжеский престол. И ханский ярлык был лишь у него. Дмитрий Шемяка уже был беззаконным князем и ничего здесь уже не изменить. Свергнутого Василия стали жалеть, и Шемяка решил явить к родичу милосердие. По просьбе рязанского епископа Ионы Дмитрий решился освободить Василия Темного, при этом постаравшись закрепить за собой великокняжеский престол «проклятой грамотой», в коей подписавший Василий клялся под угрозой проклятия никогда более не искать великого стола. Но не стала эта грамота указом для многочисленных сторонников законного в их глазах московского князя. А они проявили свое неприятие Шемяке.
Окруженный верными ему боярами слепой князь прибыл в Тверь, где вступил в союз с тверским князем Борисом Александровичем. Княжеская дружба была скреплена и родством. Сын Василия Васильевича, юный князь Иван Васильевича князь Иван Васильевич был обручен с Тверской княжной Марией Борисовной.
В Твери число сторонников Василия Темного непрестанно возрастало. Прибывали бояре и дети боярские из Москвы, из Литвы возвращались те, кто умел туда, не желая признавать Дмитрия Шемяку великим князем. Вскоре перевес Василия стал столь очевидным, что небольшой отроду, посланный им, обошел полки Шемяки, стоявшие у Волоколамска и занял Москву. Москвичи радостно встретили своего законного правителя, Шемяка и верный ему князь Можайский бежали в родной Галич Северный. Всего год Шемяка княжил в Москве и оставил о себе не самую добрую память.
Князь Дмитрий пытался еще бороться за великокняжеский престол, хотя теперь уже его принудили подписать «проклятую грамоту». Духовенство обратилось к Шемяке с увещательной грамотой, но князь не сдавался. Тогда войско московское двинулось походом на Галич. Великого князя сопровождал его сын Иван – это был его первый воинский подход. Побежденный Шемяка бежал в Новгород, где ему дали приют. Даже лишенный всех своих владений Дмитрий Юрьевич продолжал отчаянную борьбу с московским князем. Он пытался поднять на Москву Новгород, но его правительство не решилось на открытую войну с великим князем. Шемяка со своими отрядами, оставшихся ему немногих верных, нападал на великокняжеские города. На время ему даже удалось захватить Устюг, но оттуда он был изгнан московской ратью. Митрополит Иона отлучил Дмитрия Шемяку от церкви и в Москве решились на крайнее средство. В 1453 г. дьяк Степан Бородатый подговорил повара Шемяки отравить его. Со смертью Шемяки Василий обрел покой и правление его с того времени шло без потрясений. Поразительно, но слепой великий князь правил куда более достойно, нежели зрячий.
Духовные власти всегда благоприятствовали стремлению к единодержавию. Во-первых, оно сходилось с церковными понятиями: церковь русская, несмотря на политическое раздробление Русской земли, была всегда единая и неделимая и постоянно оставалась образцом для политического единства. Во-вторых, духовные составляющие единственную умственную силу страны, необходимые для защиты от внешних врагов: только при сосредоточении верховной власти в одних руках представлялась им возможность безопасности для страны и ее жителей».
Иона стал достойнейшим продолжателем дела «русского Ришелье» - митрополит Алексия. На деле стоя во главе великого княжества Московского с 1448 г. и до самой своей смерти в 1461 г., он подготовил почву дл объединения Москвой русских земель в единой державе Российской.
В 1456 г. Москва, используя как предлог помощь новгородцев Дмитрию Шемяке и нежелание их платить наложенную великим князем на Новгород дань в 8000 рублей, нанесла жесточайший удар по могуществу и независимости древней северорусской республики. Новгородское ополчение под городом. Великий князь со своей ратью стал под Новгородом и принудил гордую столицу северной Руси к смирению перед Москвой. Отныне Новгород Великий терял право издавать грамоты от имени своего веча, но лишь от имени великого князя, чья печать также должна была заменить новгородскую. Это всё прямо говорила о политической зависимости Новгорода Москвы. Помимо признания новгородцами новых прав московского князя они вынуждены были обещать не принимать у себя никаких противников Москвы и уплатить еще 8500 рублей. Немалыми были и земельные уступки. Василий Темный закрепил за Москвой Вологду, Волоколамск. Москва заметно укрепляла свое господство в северо-русских землях.
В 1460 г. к Москве за помощью против немецких рыцарей Ливонского Ордена обратился Псков. В Пскове вскоре появился московский наместник, хотя внешне он пока сохранял независимость и приглашенным псковским вече князем оставался выходец из .
Два последних больших русских княжества – Тверское и Рязанское – также все более и более склонялись перед Москвой, утверждавшейся решительно в качестве стольного града всея Руси. Общерусское значение Москвы в XV в столетии после Куликова поля становилась неоспоримым. Когда в 1408 Едигей пытался привлечь себе в союзники тверского князя, то тот не решился открыто пойти против москвичей с татарами. По словам Карамзина князь , когда предводитель ордынцев потребовал от него явиться под стены Москвы со стенобитными орудиями, без которых татары не решались на приступ, «поступил в сем случае как истинный россиянин и друг отечества: он гнушался мыслию способствовать гибели московского княжения, хотя и весьма опасного для независимости тверского».
В предшествующем столетии до Куликовской битвы какой князь чурался содействия Орде для достижения своего успеха? Угождали татарам и московские князья, и тверские, и суздальские, и рязанские нимало не скорбя об участии Русской земли, разоряемой при их содействии иноплеменными завоевателями. Новое столетие знаменовалось иными отношениями.
В 1454 г. тверской князь по настоянии митрополита Ионы заключил с Москвой договор, по которому Тверь обязалась всегда находиться в союзе с великим князем. В 1456 г. князь Рязанский перед смертью завещал свое княжество попечению Москвы. Юный новый рязанский князь, коему исполнилось едва 8 лет, был отвезен великокняжескими боярами в Москву, в Рязани же появились московские наместники.
Укреплялось и внутреннее единство Московского княжества. Удельные князья, подозреваемые в мятежных настроениях, иной раз просто оговоренные завистниками либо оказывались в заточении подобно князю Василию Ярославичу Серпуховскому, либо вынуждаемы были, спасая себя, бежать в Литву как князья Суздальские.
Скончался великий князь Василий Васильевич, получивший в истории из-за ослепления его по повелению Дмитрия Шемяки прозвание «Темный» 5 марта 1462 г. Если оценивать значение его правления для истории России, то его немалые достижения находятся в родительном контрасте с ничтожной личностью Василия II. «Василий Васильевич был человек ограниченных дарований, слабого ума и слабой воли, но вместе с тем способный на всякие злодеяния и вероломства». – характеристика Костомарова, с коей нельзя не согласиться. И именно в правление такого незадачливого князя Москвы утверждение свое главенство в русских землях, предрешая их скорое объединение. Заслуга в этом в первую очередь Русской православной церкви, митрополита Ионы (если Алексий – Ришелье, то Иона – Мазарини), сподвижников великого князя Патрикеева, Оболенского и других. Главное же в самом значении Москвы – заступницы Русской земли и времен Куликова поля и положением Василия Васильевича как законного его князя, что и даровало ему полное преимущество над любым противником.
Часть 2.
Государи всея Руси.
Иван III.
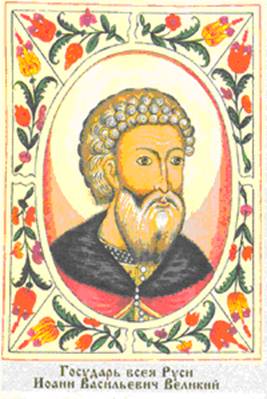
Великий князь Иван Васильевич, вступив на престол, имел уже опыт управления, поскольку в последние годы жизни отца был привлечен ко всем делам государства, а по смерти митрополита Ионы, главного советника Василия Темного, случившейся 31 марта 1461г., на деле взял в свои руки верховную власть. Будучи причастным к важнейшим делам конца правления Василия II Иван III уверенно повел державный корабль уже выверенным курсом. Основные задачи княжения были ему очевидны: в первую очередь собирание русских земель вокруг Москвы, во вторую - избавление от Орды, прекращение всякой зависимости Русской земли от чужеземных ханов. Обе цели были вполне достижимы, и Иван Васильевич с самого начала своего единодержавного правления начал последовательно бороться за их полное осуществление. Личные качества великого князя немало способствовали успехам его державных начинаний: «Иван был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с черствым сердцем, властолюбивый, неуклонный в преследовании избранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный; во всех его действиях видна постепенность, даже медлительность; он не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами; он никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен»,- писал о нем .
Итак, во многом походившему нравом на пращура своего Ивана Калиту ИвануIII предстояло завершить дело прадеда своего Дмитрия Донского.
Уже через год после вступления на престол Иван Васильевич присоединил к Москве Ярославское княжество. С Тверью, Рязанью, Псковом и Новгородом новый московский князь держался вполне уважительно, но не забывая давать знать время от времени, что Москва стоит выше всех. Вскоре ИванIII повел активную политику на востоке против Казанского ханства, как бы подготавливая грядущий вызов самой Орде. В 1468г. Он впервые попытался посадить на трон послушного Москве хана и, хотя попытка эта, поддержанная двумя походами русского войска на Волгу и Каму не удалась, в 1470г. Иван Васильевич заключил с казанским ханом Ибрагимом договор «по своей воле». Казанцы были вынуждены освободить всех русских пленников. Впервые Москва диктовала свои условия татарам. А ведь Казань по силе немногим уступала Золотой Орде, вернее, тому, что от нее оставалось после обособления Казанского, Крымского, Сибирского, Астраханского ханств и орд Узбекской, Казахской и Ногайской.
Политическое значение Москвы возросло и в связи со вторым браком ИванаIII. Овдовев в 1467г.- жена его тверская княжна Мария умерла во время эпидемии чумы, опустошившей в том году многие русские земли- великий князь в 1469г. отправил посла своего Ивана Фрязина в Рим к папе ПавлуII для сватовства к племяннице последнего погибшего при захвате турками Константинополя византийского императора Зинаиде-Софье Палеолог. Гордая византийская принцесса, твердая в православии, решительно отказывалась выйти замуж за католика, отвергнув даже руку короля Франции. Великий князь Московский и всея Руси, правитель крупнейшей православной страны, представительницу династии Палеологов устраивал. Брак этот, однако, налагал на ИванаIII и новые обязательства. Новая великая княгиня императорского рода – брак Ивана с Софьей Палеолог состоялся в Москве 12 ноября 1472г. – не желала мириться с тем, что над ее новой родиной царем все еще считался ордынский хан. Пусть зависимость эта реально была не слишком чувствительна, но она существовала, даже монету свою Москва чеканила от имени хана - царя Русской земли. Супруг византийской царевны сам должен был стать царем. Иван Васильевич прекрасно это понимал. Но прежде, чем бросить вызов Орде, должно было объединить по крайней мере большую часть русских земель и, прежде всего, подчинить Москве Новгород.
В правление Василия Темного перевес Москвы над Новгородом стал очевиден. Новгород вынужденно признал себя «отчиной» московского князя и отсюда недолго было и до полного его подчинения Москве. В Новгороде не могли не видеть неизбежности такого исхода в близком будущем и потому там вскоре сложилась сильная и влиятельная партия независимости, решившаяся всеми возможными способами древнюю новгородскую вольность от покушений московского князя. Главой ее была боярыня Марфа Борецкая. Заодно с ней были знатнейшие бояре Новгорода Арбузовы, Астафьевы, Афанасьевы, Григоровичи и многие другие. Борецкая и ее сторонники пользовались широкой поддержкой в народе и имели безусловное влияние на новгородское вече.
Понимая, что только своими силами Новгороду не одолеть Москвы, Борецкая и ее соратники решили искать себе сильного союзника, какового и нашли . Поначалу новгородцы на вече нанесли жестокое оскорбление Ивану Васильевичу, заявив на его напоминание о том, что Новгород - отчина великого князя: «Новгород не отчина великого князя. Новгород сам себе господин!». В конце 1476 г. новгородцы пригласили себе на княжение как в былые годы новгородской вольности князя по своему выбору. Им оказался киевский князь Михаил Олелькович, подданный великого князя Литовского и короля Польши КазимираIV. Вслед за этим был заключен договор Новгорода с самим Казимиром, согласно которому король польский и великий князь Литвы становился гарантом независимости Новгорода от Москвы.
Обращение новгородцев за помощью к католическому монарху и, пусть и формальный, переход Новгорода в литовское подданство давали в руки Ивана Васильевича сильнейший козырь: Новгород изменил православию! (на деле, разумеется, никакой угрозы православию из-за союза с Казимиром IV в Новгородской земле не возникало и возникнуть не могло).
Надо сказать, что при подготовке военного похода на Новгород Иван III проявил поистине чудеса дипломатического искусства. Он совершенно, казалось, не замечал явно оскорбительного по отношению к себе и Московскому княжеству поведения буйного новгородского вече, боярам же своим, изумленным странным смиренным долготерпением князя, говорил: «Волны бьют о камень и ничего камням не сделают, а сами рассыпаются пеною и исчезают как бы в посмеяние. Так будет и с этими людьми - новгородцами.» вещие слова…Помимо княжеских кротких увещеваний теперь к новгородцам с тем же обращался митрополит Филипп, уговаривая новгородцев не отступать от православия (чего, впрочем, новгородцы и не мыслили). Таким образом Иван III с помощью митрополита представил Новгород изменником делу православия, себя же его защитником; московский князь - кроткий увещеватель, лишь до поры напоминающий новгородцам о своих правах «отчинника» их земли со времен святого Владимира, они же - дерзкие мятежники, оскорбители великого князя, изменники русской вере.
Весной 1471 г. Иван Васильевич узнал, что Михаил Олелькович со своей дружиной из Новгорода ушел в виду недовольства новгородцев буйным поведением его людей. Стало ясно, реальной военной поддержки Новгороду из Литвы нет и не будет. Москва могла смело начинать войну, не опасаясь стороннего в нее вмешательства. Новгородская рать значительно числом превосходила московскую, но состояла в основном из людей, к военному делу непривычных - ремесленников, крестьян. Московское же войско, не столь многочисленное, состояло из воинов, ведомых испытанными воеводами. Вследствие этого 13 июля 1471 г. На берегу реки Шелони, близ места впадения в нее реки Дряни (вот уж воистину дрянное место), москвичи наголову разгромили новгородцев. Потрясенное сокрушительным поражением своего войска и отсутствием надежд на литовскую помощь, новгородское вече вынуждено было принять условия Москвы.
Иван III добился от Новгорода его разрыва с Литвой, подтверждения прежнего договора с Василием II, где Новгородская земля признавалась «отчиной» великого князя, уплаты контрибуции в 14 с половиной тысяч рублей, а также территориальных уступок: земли по Северной Двине отходили к Москве. В 1472г. Москва отняла у Новгорода и Пермь. Новгородская земля была жесточайше разорена и разграблена московским войском, чего вообще никогда не было в истории Новгорода. Силы его были сломлены и полное присоединение Новгородской земли к Москве стало делом ближайшего будущего. И оно не заставило себя ждать. Хитроумный Иван III как бы сам подталкивал новгородцев к возмущению. Дабы иметь повод для окончательного уничтожения видимой самостоятельности Новгорода, внешне признавая сохранение древних новгородских обычаев, значение вече для внутренних дел Новгорода, на деле великий князь целиком подчинил новгородцев своему княжескому суду. Он нарушил древнейшее право новгородцев быть судимыми только в своей земле. Великий князь суд свой вершил в Москве и, не считаясь с вольностями новгородскими, направлял в Новгород своих приставов. В то же время сторонники великого князя в Новгороде повели дело о признании Ивана III не просто «господином», но «государем» Новгородской земли. Это означало бы полный конец даже видимым новгородским вольностям. Казнь явных сторонников Ивана III в Новгороде 31 мая 1477г. по воле веча, вспыхнувшее там явно антимосковское восстание дали повод Москве покончить с Новгородской республикой.
В начале октября 1477г. московское войско, в союзе с которым выступали войска Твери и Пскова, двинулось на Новгород. Сил сопротивляться у новгородцев не было. Боярство новгородское не отваживалось брать в руки оружие, надеясь покорством московскому князю сохранить свои вотчины - надежду на это боярам дал сам Иван III. Что же касается простого народа, то у него не было достаточно оружия для защиты своих вольностей. Новгород сдался на милость победителя и 15 января 1478г. все новгородцы были приведены к присяге великому князю. Вече новгородское прекратило свое существование, вечевой колокол, символ вольности новгородской, был вывезен в Москву, Новгородская земля была разделена на четыре наместничества. Были схвачены и отправлены в Москву в заточение Марфа Борецкая с внуком и их ближайшие соратники, триста возов с награбленной в Новгороде добычей люди Ивана III вывезли в Москву. Последняя попытка восстановить новгородскую вольность произошла в 147 г. Новгородцы, воспользовавшись разладом в великокняжеской семье, когда против Ивана выступили его братья Андрей и Борис, недовольные тем, что им не досталось должной доли в новгородской добыче, изгнали московских наместников, восстановили вече, избрали посадника и тысяцкого и вновь возложили (и вновь напрасно) надежду на помощь Казимира IV. Осенью 1479г. Иван Васильевич совершил новый поход на Новгород и на сей раз окончательно его усмирил. Около 150 человек было казнено, был смещен и заточен архиепископ Новгорода, около семи тысяч семей знатнейших бояр и богатейших купцов были из Новгородской земли переселены в Московскую, на их же место в Новгород были поселены бояре и купцы из Москвы. Таков был конец древней вольности новгородской, северорусского народоправства. Вместе с Новгородской республикой уходила в прошлое Древняя Русь с ее вечевыми традициями, где князь лишь первый среди равных, делящий власть свою с дружинным советом, зависимый от воли своенравного веча. Кончались вольности горожан, лишившихся права избирать своих посадников и тысяцких (в Москве должность тысяцкого упразднил еще Дмитрий Донской), полностью теперь подчиненных назначаемым князем наместникам. Да, за государственное объединение Русская земля заплатила дорогую цену: утрату древнерусской политической традиции, державные устои Москвы были куда ближе к Золотой Орде, нежели к Киевско-Новгородской Руси. Но это была и цена освобождения Руси от ордынского ига, избавить от коего могла только Москва, возглавившая русское объединение.
Власть Орды не могла уйти сама по себе, ее можно было только свергнуть. Тем более. Что когда ханом Золотой Орды стал Ахмед с 1465г., то при нем была сделана последняя попытка восстановить былое могущество Батыевой державы. Для этого Ахмеду было необходимо нанести сильнейший удар по русским землям. о событиях тех лет пишет: «Приближалась решительная схватка с завоевателями, которая должна была решить, попадет ли Россия снова под ордынское ярмо «паче Батыева» или окончательно свергнет его.
Намерения Ахмед-хана прослеживаются достаточно ясно: он стремился, добившись объединения под своей властью значительной части территории и военных сил бывшей Золотой Орды, путем опустошительного нашествия полностью восстановить ордынское иго над Русью, обескровить завоеванную страну, чтобы исключить в будущем попытки с ее стороны освободиться от зависимости. Речь шла о судьбе русского народа, о том, удастся ему или нет сохранить условия для самостоятельного исторического развития. Если бы Россия не выстояла в этой борьбе, она была бы отброшена назад на столетия.»
Россия не только выстояла, но и сокрушила Орду, и в том великая заслуга ее объединителя великого князя Ивана Васильевича.
Ахмед-хан внимательно следил за происходящим на Руси и, явно беспокоясь очевидным усилением Москвы, в начале 70х годов решил нанести по ней удар. В 1470г. в Москве ожидали нападения Ахмеда и великий князь пребывал в Коломне, бывшей традиционным местом сбора русской рати против татар со времен Дмитрия Донского. В 1471г. вновь ожидался ордынский набег. На сей раз Ахмеда к нему побуждал Казимир IV, надеявшийся, что нападение татар отвлечет Ивана III от Новгорода, но и на сей раз беда миновала московские земли. Парадоксально, но выручили Москву от татарской угрозы татары же - Крымское ханство, враждебное намерениям Ахмед-хана восстановить в прежнем виде Золотую Орду. Враждебность Крыма Орде была замечена Иваном Васильевичем и он сумел это использовать в интересах Москвы.
Летом 1472г. давно задуманный поход Ахмед-хана на Москву, наконец, состоялся. ИванIII ждал прямого удара ордынцев на свою столицу и потому двинулся к Коломне. Но татары, предприняв обходной маневр, неожиданно подошли к Оке под городом Алексиным. Где был лишь малый гарнизон, который Ахмед в расчет, видно, не брал, а зря. Взять Алексин «С налета» не удалось. Первый штурм алексинцы успешно отбили и сумели тем самым задержать ордынское войско. Эта задержка в итоге сорвала все планы хана. Русские войска, рассредоточенные между Серпуховым и Коломной, быстро двинулись к Алексину и, когда ордынцы наконец сожгли городок, прикрывавший переправу через Оку, то она уже была прикрыта русской ратью. Попытки ордынцев переправиться на левый берег Оки были успешно отбиты, и когда Ахмед узнал о подходе главных полков великого князя, то, не решаясь на большое сражение, предпочел отступить.
Фактическое поражение Ахмед-хана под Алексиным имело далеко идущие последствия. Иван III немедленно уменьшил размеры дани, посылаемой в Орду, с 7 тысяч рублей до 4200 рублей, а вскоре и вообще перестал посылать в Орду какую-либо дань. В 1480г. Ахмед-хан упрекнул московского князя в том, что тот не бьет ему челом и не дает дани уже девятый год.
Когда в конце 70х годов в состав Московского княжества вошли новгородские земли, Ахмед понял, что либо он сейчас восстановит власть Орды над Русью, либо с надеждами на это придется расстаться навсегда. В 1480г. Орда стала самым серьезным образом готовить большое нашествие на Русь. Ахмед-хан попытался воспользоваться и непростым международным положением Москвы. В том же году на Псковскую землю напали ливонцы, но были под Псковом и Изборском. Тем не менее немецкая угроза Пскову отвлекла часть сил Ивана III от войны с татарами.
Куда более опасным для Руси союзником Орды мог стать Казимир IV, правитель Польши и Литвы, но здесь дипломатия Ивана III взяла верх. Установленные сразу после Алексина дружеские отношения между Москвой и Крымом сыграли здесь решающую роль. Крымский хан Менгли-Гирей, враждебно воспринимавший стремление Ахмед-хана покончить с независимостью Крыма от Орды, охотно заключил союз с другим злейшим врагом Ахмеда Иваном III. Пять лет с 1474г. по 1479г. оформлялся московско-крымский союз. С самого начала обе стороны брали на себя обязательства «в братской дружбе и любви против недругов стоять за одно», но Ивану Васильевичу общих слов было мало. Он желал такого договора, где недруги были бы конкретно обозначены в лице Ахмед-хана и Казимира IV. В 1479г. такой договор к торжеству московского князя состоялся. Для недругов Москвы это был сильнейший удар. Военная мощь Крымского ханства, которое с 1475г. опиралось еще и на необъятную Османскую империю, чьим вассалом себя Менгли-Гирей признавал, была столь велика, что война с ним даже для соединенных сил Польши и Литвы представлялась делом достаточно рискованным. Потому, хотя Менгли-Гирей в 1480г. предпринял лишь небольшой набег на польские владения в Подолии между Южным Бугом и Днестром, КазимирIV не решился оказать помощь золотоордынскому хану, шедшему со своей ратью на Москву. А ведь все надежды Ахмед-хана на успешное завершение своего похода были связаны именно с расчетом на польско-литовскую помощь. Не случайно ордынцы двинулись не на Коломну, где ждали их нападения русские войска и сам Иван III, а вторглись во владения Великого княжества Литовского и подошли к реке Угре, бывшей рубежом между московскими и литовскими землями.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |




