Когда войско расположилось на поле битвы великий князь объехал ряды своих воинов, обращаясь к ним: «Братья, удалые русские молодцы, все мы братья, от мала до велика, умрем в этот час за Русскую землю!».
Битва пришлась на субботу на праздник Рождества святой Богородицы и это давало православному русскому воинству уверенность в победном ее исходе. Были русские войны «все как один готовы головы свои положить за землю за Русскую и за веру христианскую. Словно живые трепещут стяги, жаждут войны себе чести добыть и имя своё прославить» - сказано в «Задонщине».
Перед боем князь Дмитрий совершил неожиданный поступок: он сошел со своего коня, снял блестящие великокняжеские латы и велел в них переодеться боярину Бренку, одному из ближних своих бояр. Бренко воссел на коне Дмитрия Ивановича в его доспехах под черным великокняжеским знаменем. Смысл переодевания очевиден: татары, безусловно, ударив в середину русского войска, попытались бы сразить великого князя и гибель его внесла бы смятение в ряды русских воинов. Поскольку теперь местонахождение великого князя во время боя было бы неизвестно большинство войска, оно продолжило бы сражаться независимо от его судьбы.
Сражение началось с поединка двух богатырей. Орду представлял гигантского роста и могучего сложения воин Челубей, от русской рати выехал монах Пересвет. Он был один из двух воинов – иноков – второго звали Осляба – присланных великому князю Сергием Радонежским. Благословляя на бой богатырей – монахов, преподобный Сергий напоминал о святой правоте русского воинства в битве с иноземными завоевателями.
С копьями в руках, верхом на конях богатыри устремились навстречу друг другу и насмерть друг друга поразили. Такой исход поединка сулил кровопролитнейшее, упорнейшее сражение. Оба войска двинулись в бой и началась величайшая битва в русской истории.
«Уже ведь те соколы и кречеты и Белозерские ястребы за Дон скоро перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и лебединым. То ведь были не соколы и не кречеты, - то обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копья каленые о доспехи татарские, загремели мечи булатные о шлемы хановские на поле Куликовом, на речке Непрядве.
Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вмести и растоптали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились. Кликнул Див в русской земле, велит послушать грозным землям. Понеслась слава к Железным Вратам… к Царьграду на похвалу русским князьям: Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на речку Непрядве.
На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспрерывно молнии сверкали и гремели громы великие. То ведь сошлись русские сыновья с погаными татарами за свою великую обиду. Это сверкали доспехи золоченые, а гремели князья русские мечами булатными о шлемы хановские.
А бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой Богородицы» - так воспета великая битва в Задонщине.
К полудню стало очевидно: наступил решающий час сражения. Орда добилась немалых успехов. Множество тел русских воинов устилало поле боя, погиб боярин Бренко, пало черное великокняжеское знамя, татары на левом фланге обходили русское войско, прижимая его к Непрядве. Волновался западный полк. Воины его опасались, что татары сомнут русских и вступление полка в бой может оказаться запоздалым. «Что нам принесет это наше стояние, какой успех будет у нас, какую помощь и кому мы принесем, уже легли мертвыми наши русские полки» - волновался князь Владимир Андреевич Серпуховской, но Дмитрий Боброк оставался спокоен и отвечал: «Великая, княже, беда, но не пришло еще время для нашего нападения, потерпим немного». Хладнокровный многоопытный воевода дождался часа, когда торжествующая ордынская конница, тесня русские полки, протекла мимо дубравы, где стоял западный полк и обернулась к нему тылом. Вот тогда-то Боброк Волынец и воскликнул: «Братья! Пришло уже наше время!».
«И, кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей ратью на полки поганых татар, золоченным шлемом подсвечивая. Гремят мечи булатные о шлемы хановские».
Вступление в битву западного русского полка, ведомой князем Владимиром Андреевичем Серпуховским и воеводой Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынцем решил ее исход.
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хановские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. Уже встал тур на бой!».
Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и начали их бить, и сечь беспощадно. И князья их попадали с коней, а трупами татарскими поля усеяны и кровью их реки потекли. Тут рассыпались поганые в смятении и побежали в Лукоморье, приговаривая: «Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а целовать нам зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у русских князей не прашивать». Вот уже застонала земля татарская, бедами и горем наполнившись; пропала охота у царей и князей их на Русскую землю ходить.
В шатре Мамая победителям досталась удивительная добыча: золотая, изукрашенная драгоценными камнями чаша с русской надписью гласившей, что принадлежала она князь Мстиславу Киевскому… тому князю Мстиславу, павшему в битве на реке Калке. Чаша эта в числе прочей добычи попала сначала в руки Субедея. Тот преподнес ее Чингисхану, решившему одарить ею Джучи, старшего сына, коему предстояло завоевать «вечерние страны». После смерти Джучи перешла она Батыю и с того времени передавалась в Золотой Орде от хана к хану, пока не вернулась к русскому князю – победителю Орды. Куликово поле стало отмщением и за Калку.
Печальней оказалась участь самого Мамая. Бежав с поля боя, он попытался вскоре вновь собрать войска, но у берегом Азовского моря был разбит ханом Тохтамышем, захватившем владения Мамая. Не нашел поверженный властитель убежища и в Крыму в генуэзской крепости. Сокровища Мамая явились для итальянцев великим соблазном и они убили его.
Победа на Куликовом поле, погибель Мамая означали великую перемену в судьбах Руси. Произошел величайший перелом в сознании народном. Победа русской рати была воспринята как великая победа христианства над «погаными». Не случайно в Задонщине говорится о славе русской, пошедшей после битвы на Дону и Непрядве в главные святочи христианской веры Рим и Константинополь (Царьград). Важнейшим было ее значение для Русской земли. «Если некогда у Батыя царя было четыреста тысяч латником, и полонил он всю Русскую землю от востока до запада. Наказал тогда Бог Русскую землю за ее согрешения,» то после Куликовской битвы «Как милый младенец матери своей земля Русская: его мать ласкает, а за баловство розгой сечет, а за добрые дела хвалит. Так и Господь Бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрий Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве».
Отныне над сознанием народа не довлела горестная мысль, что ордынское иго наведено на Русскую землю за грехи ее и избытия ему потому и нет. Конечно полное освобождение от ордынского ига пришло лишь через 100 лет, полное объединение государства свершилось даже позднее, но именно победа на Куликовом исторически предрешила и первое и второе.
Великая победа далась русскому народе величайшей ценой. На поле боя осталась большая часть русских воинов, вышедших на битву. Восстановить такие потери в ближайшие годы было просто невозможно и потому, когда два года спустя хан Золотой Орды Тохтамыш подошел к Москве, Дмитрий Иванович вынужден был, оставив столицу, отправиться на Верхнюю Волгу для сбора новой рати. Великий князь полагался на мощь укреплений каменного московского кремля, но ордынцы сумели совладеть Москвой хитростью. Тохтамыш уговорил москвичей открыть ему порота, обещая горожанам полную неприкосновенность и жизни, и имущества, прося взамен лишь царских почестей и достойных даров. Хан уверял, что он не воюет с москвичами, а лишь с Дмитрием Ивановичем. Сыновья нижегородско - суздальского князя уверяли московских бояр и литовского князя Остея, оставленного Дмитрием главным московским всеведою, что татары свое слово сдержат, ибо в Нижнем Новгороде после выражение его жителями его покорности Тохтамышу они никого действительно не тронули. Москва открыла ворота Тохтамышу. «И тот час начали татары сечь их всех подряд. Первым из них был убит князь Остей перед городом, а потом начали сечь попов и игуменов, хотя и были они в ризах и с крестами, и черных людей. … И была внутри города сеча великая и вне его также»
Тохтамыш овладел Москвой 26 августа 1382 года. Теперь он надеялся вернуть Русь в прежнее состояние, о оказалось, что это не столь просто. Татарские отряды, направленные ханом для опустошения русских земель как в былые времена не везде достигли успеха. Герой Куликовской битвы князь Владимир Андреевич Серпуховской напомнил ордынцам, что уже не те времена. «Князь же Владимир Андреевич стоял с полками близ Волока (Волоколамска), собрав силы около себя. И некие из татар, не ведая о нем и не зная, наехали на него. Он же, помыслив о Боге, укрепился и напал на них, и он же помыслив о Боге, укрепился и напал на них, и так Божьей милостью одних убил, а иных живыми схватил, а иные побежали и прибежали к царю (Тохтамышу), и поведали ему о случившемся. Он же того испугался и после того начал понемногу отходить от город».
Отход Тохтамыша от Москвы был далеко не безобидным для русских земель: «И когда шел он от Москвы, то подступил с ратью к Коломне, и татары приступом взяли город Коломну и отошли. Царь же переправился через реку Оку и захватил землю Рязанскую и огнем пошел, и людей посек, а иные разбежались».
Нашествие Тохтамыша во многом напоминало по своим разорительным последствиям ордынские походы на Русь времен Батыя или Узбека, но не повторяло их. Хан не решился задержаться в русской земле и отступил узнав о первой неудаче. Он даже не пытался отстранить мятежного великого князя, но лишь добивался от него возобновления уплаты дани и признания себя «царем». И все же последствия татарского похода 1382 г. сказались для Русь весьма печальными. Жестоко были разорены земли московские и рязанские, великий князь Дмитрий Иванович принужден был признать над Русью власть хана Золотой Орды и возобновить выплату дани. Почему два года спустя после столь блистательной победы на Куликовом поле Москва не смогла противостоять Орде? Здесь две причины: во-первых, русское войско понесло невосполнимые потери на берегах Дона и Непрядвы, во-вторых, если Мамай располагал силами только Белой (западной) Орды, чьи владения простирались между Днепром и Волгой, то у Тохтамыша помимо остатком побитого воинства Мамая были еще немалые силы Синей (восточной) Орды, чьи просторы охватывали земли от Волги до Иртыша.
Московское княжество ослабело после 1382 г. Вновь иные князья – тверской, суздальский, рязанский – стали оспаривать у Дмитрия великое княжение, всячески заискивая перед Тохтамышем. Хан не решался лишить Дмитрия «великого стола», памятуя о Куликовом поле и судьбе Мамая. Дабы обеспечить «верность» Дмитрия Тохтамыш взял в заложники в орду старшего сына московского князя Василия. Дань теперь стала даже выше прежней, вновь татарские баскаки стали наезжать на Русь, но прежнего безысходного ужаса перед ними у русских людей не было. Ордынцы превратились в обычных, пусть грозных, жестоких, даже страшных, но просто иноплеменных врагов, коих можно в конце концов побеждать, о чем явственно говорила память о Куликовом поле.
Дмитрий Иванович, вынужденно смиряясь, порой скрепя сердце, и унижаясь перед ханом, старался постепенно восстановить свое княжество, наладить отношения с соседями. Удалось вернуть сына: с помощью приехавших в Орду московских бояр Василий бежал из Орды и путем через Молдавию и Литву вернулся в Москву. Сложными оставались отношения Москвы с Рязанью. В 1385 г. рязанский князь Олег напал на московские владения и захватил Коломну. На помощь Дмитрию в скорее с Олегом пришел Сергий Радонежский. Он явился в Коломну и уговорил князя Рязани прекратить междоусобицу и вернуть великому князю его город. Для закрепления восстановленного мира между Москвой и Рязанью князья решили породниться. Была сыграна свадьба между сыном Олега Федором и дочерью Дмитрия Софьей. Последствия этого брака не исчерпываются московско-рязанскими отношениями ибо ранее к Софье Дмитриевне сватался куда более знаменитый жених – великий князь литовский Ягайло, правитель сильнейшего и крупнейшего в то время после Золотой Орды государства Восточной Европы. Ягайло был сыном Ольгерда и русской княжны Ульяны. Ульяна склоняла сына к православию и поддерживала его в сватовстве к московской княжне. Дмитрий расстроил брачный планы Ягайло, предпочел сделать своим зятем сына рязанского князя. Возможно, его привлекала здесь и немедленная выгода: примирение с Рязанью; возможно он не забыл, как в 1380 г. Ягайло со своим войском шел на помощь Мамаю и в день битвы находился лишь в дневном переходе от Куликова поля, отступив только после известия о разгроме Орды… Каковы бы ни были мысли Дмитрия Ивановича, но роковой выбор его сделал возможными события, решительным образом изменившие всю политическую карту Восточной Европы. Ягайло не надолго остался холостым. Вскоре он получил брачное приглашение из Польши, принял католичество, стал супругом польской королевы Ядвиги и польским королем. В 1386 году Польша и Литва вступили в унию, предрешившую впоследствии создание единого польско-литовского государства, в состав которого вошли принадлежавшие Литве с XIV столетия южные и западные русские земли.
Разумеется, история не знает сослагательного наклонения, но попробуем представить развитие событий в Восточной Европе в случае брака Ягайло с Софьей Дмитриевной:
Ø Литва вся становится православной (9/10 ее населения и так составляли православные русские);
Ø Ввиду брака Ягайло с московской княжной он не может стать претендентом на руку прекрасной королевы Ядвиги, как бы того не хотелось польским панам, понимающим все выгоды Польши от унии с Литвой, и папскому престолу в Риме, стремившемуся посредством этой унии привести к католичеству не только собственно литовцев, но и иные народы, населяющие великое княжество, не исключая православных русских подданных Литвы.
Ø При торжестве в Литве православия едва ли государственное обособление западных и южных русских земель могло бы быть продолжительным… возможно, тогда бы русский народ и не раскололся на три ветви…
Но, что свершилось, то свершилось.
Последние годы правления Дмитрия Ивановича прошли мирно. В мае 1389 года он смертельно заболел. Был он далеко не стар, не исполнилось великому князю и 40 лет, но здоровье оказалось безнадежно подорванным. Дмитрий, осознавая свой смертельный час, оставил 16-летнему сыну Василию завещание, в котором наказывал ему держать в чести своих бояр, оказывать им всяческое уважение и никаких дел не решать без совета с ними. Знаменательные слова, говорящие о значении московского боярства и его влиянии на государственные дела. Но самыми важными представляются следующие слова Дмитрия Ивановича, обращенные в завещании к наследнику: «А если Бог Орду переменит, то дани ей не давать». Князь Дмитрий, за победу на Куликовом поле поименованный Донским не сомневался в конечном торжестве Руси на Ордой и в неизбежном конце ненавистного Ига. Впервые же Дмитрий сам завещал великое княжение сыну, предрешая таким образом ханскую волю и лишний раз показывая Орде, что времена изменились.
Подведя итоги правления великого князя Дмитрия Ивановича, нельзя не отметить что оно пришлось на время тяжелейших испытаний для русского народа. Русь продолжала страдать и от княжеских кровавых междоусобиц, разоряли ее вторжения литовцев, набеги и нашествия татар, не раз случались неурожаи из-за засух, влекущие за собой голодные годы. И в такое-то тяжелое время нашлись в Русской земле силы, вдохновляемые преподобным Сергием Радонежским и ведомые князья Дмитрием Ивановичем, которые на Куликовом поле заложили основу будущей великой России.
Дмитрий Донской проявил себя и умелым дипломатом в отношениях с соседними княжествами и с Ордой, в битвах на Воже и на Дону выдающимся военоначальником. Бывали у него и времена тяжелых неудач. Мог он проявить растерянность как в 1382 г. при нашествии Тохтамыша, мог расстроить брачные планы Ягайло. Уважал права боярства, ограничил права горожан, упразднив в Москве должность выборного тысяцкого, возглавлявшего городское ополчение. Вмешивался великий князь и в дела церкви, порой даже пренебрегая мнением преподобного Сергия. Та по смерти в 1377 г. митрополита , не желая признавать новым митрополитом всея Руси грека Киприана, выдвинул на митрополичий престол своего любимца бывшего коломенского священнослужителя Митяя, хотя Сергий Радонежский выбора княжеского не одобрял. Позднее, после неожиданной смерти Митяя, великий князь всё же признал митрополита Киприана.
Но главное, что дает право великому князю московскому и всея Руси Дмитрию Ивановичу, получившему прозвище Донской право на вечную благодарность потомков, это победа на Куликовом поле, победа, положившая начало возрождению Руси, рождению России.
канонизирован Русской православной церковью.
Василий 1 ( гг.)
Новому великому князю при вступлении на престол едва исполнилось 16 лет и опыта державного управления он не имел, но малоопытность молодого князя искупалась знаниями его окружения – боярского совета, править в полном согласии с которым ему завещал Дмитрий Донской. Василий Дмитриевич всю жизнь свою соблюдал советы отца и потому успехи его правления очевидны.
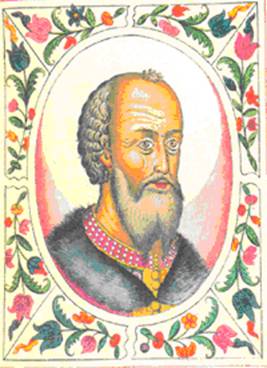 Василий I Дмитриевич
Василий I Дмитриевич
даже полагал что князь Василий «превосходил отца своего умом». Важнейшие задачи государственного управления, стоявшие перед молодым великим князем и то, описаны в «Истории государства российского» :
«Три предмета долженствовали быть главными для политики государя Московского: надлежало прервать или облегчить цепи, возложенные ханами на Россию; удержать стремление Литвы на ее владения; усилить великое княжение присоединением к оному уделов независимых. В сих трех отношениях Василий Дмитриевич действовал с неусыпным попечением, но держась правил умеренности, боясь излишней торопливости и добровольно оставляя свом преемникам успехи в славном деле государственного могущества».
«Великий стол» был прямо передан Василию Дмитриевичу Дмитрием Донским, минуя волю хана. Тем не менее новый князь, сообразуясь в действительном положении дел и внимая советам осторожных бояр постарался избежать столкновения с Ордой. На престол он вступил во Владимире в присутствии Шахмата. Спустя долгое время князь сам отправился в ханскую ставку на поклон Тохтамышу, дабы законным, с точки зрения ордынцев образом закрепить за собой великокняжеский престол, получив их рук хана ярлык. Тохтамыш, приятно удивленный смиренным поведением московского князя, от которого он вправе был ожидать своеволия, а то и прямого непокорства, принял Василия Дмитриевича с подчеркнутым дружелюбием. По словам : «ОН был принят в Орде с удивительною ласкою. Еще никто из владетелей российских не видал там подобной чести».
Ласковым обращением Тохтамыш поощрял великого князя и к дальнейшему такому поведению выражая ему благодарность за смирение и готовность к покорству. Способствовали тому и внешние обстоятельства. Золотая орда готовилась к войне с могущественнейшим правителем мусульманского мира правителем Самарканда Тимуром и нуждалась в мире со стороны Руси, опасаясь, что русские князья могут воспользоваться затруднениями Орды на юге и вспомнить Куликово поле.
Великий князь и его бояре блистательно использовали доброжелательность Тохтамыша с великой выгодой для Москвы. Ордынский хан согласился признать Василия Дмитриевича преемником князя Бориса Городецкого на княжеском престоле Суздальско-Нижегородской земли. Более того, Василий получил от Тохтамыша ярлык на присоединение к московскому княжеству Тарусы, Мещеры, Городца и Мурома. Все земли по нижней Оке теперь были по владении Москвы. Недолго ждал Василий Дмитриевич и престола Нижегородского. Подкрепив свою просьбу богатыми дарами ордынским вельможам и пользуясь выступлением Тохтамыша с войском против Тимура, московский князь добился ярлыка на Нижегородско-Суздальское княжество немедленно, не дожидаясь смерти князя Бориса.
Нижегородский князь, недавно сам получивший ярлык на своё княжение, был в полном недоумении, получив известие об утрате им своих только что обретенных прав и о передаче их князю Московскому. Он попытался сопротивляться, но сами бояре его во главе со знатнейшим по имени Румянец, дружина княжеская явно сильнейшего правителя Москвы. Случилось это в 1393 г. Владения Москвы значительно расширились и она теперь превосходила все прочие русские земли. показал себя достаточным правнуком хитроумного Ивана Калиты, два года спустя он проявил себя достаточным наследником отца своего Дмитрия Донского.
В 1395 г. в битве на реке Тереке войска Золотой Орды во главе с ханом Тохтамышем потерпели сокрушительнейшее поражение от войск самаркандского Тимура. Такого разгрома Орда за всю свою историю не знала. Среднеазиатские завоеватели сокрушили не просто отдельный отряд ордынцев, даже не рать половины Золотой Орды как Дмитрий на Куликовом, но была повержена вся военная мощь державы, созданной некогда Батыем.
XIV столетие, вообще, оказалось роковым для монгольских государств, преемников империи Чингисхана. В середине 30-х гг. рухнуло господство монголов в Иране и Ираке, в 1368 г. грандиозное восстание в Китае покончило с полуторавековым монгольским игом. В 1370 монголы были изгнаны из Средней Азии. Тимур поначалу поддерживал Тохтамыша, оказывал ему помощь в борьбе с Мамаем, но когда Тохтамыш стал ханом единой Золотой Орды, то ее возрождаемое могущество стало казаться самаркандскому эмиру опасным. Тимур готовился к завоеванию Индии и не желал при этом иметь на севере мильного соседа. Так началась эта роковая для Золотой Орды война.
Разгромив ордынские рати на Северном Кавказе, непобедимое воинство Тимура устремилось на Волгу, где находились жизненные центры Золотой Орды. Сарай, столица золотоордынских ханов, досель не видевшая у своих стен неприятеля, подверглась полнейшему разгрому. Золотая Орда некогда державшая в страхе всех своих соседей и разорявшая их земли своими непрестанными набегами, а то и нашествиями, наконец-то на себе познала все ужасы вражеского вторжения. Богатейшие земли в ордынских владениях были совершенно опустошены, большинство городов превращено в руины. Тохтамыш из могучего властителя огромной державы превратился в жалкого беглеца с кучкой немногих оставшихся верными приближенными. Тимур, разграбив нижневолжские земли Орды двинулся на север и вскоре его передовые отряды достигли уже русских рубежей. Не делая различия между городами ордынскими и русскими воины Тимура разгромили и сожгли город Елец на южной окраине Рязанского княжества. В Русской земле возникло великое волнение, ибо никто не ведал, куда идет Тимур, каковы цели его похода. Страх русских людей был вполне понятен. Лишь 13 лет назад Тохтамыш сжег Москвы и жестоко разграбил русские земли, а теперь идет куда более могучий завоеватель, сокрушивший самого Тохтамыша. К чести русского народа, великого князя Василия Дмитриевича никто и не помышлял смириться перед новым завоевателем. Подобно отцу своему князь Василий стал собирать общерусское войско для отражения неприятеля. Московская рать во главе с великим князем стала близ Коломны на берегу Оки. Сюда как и 13 лет назад должны были собираться русские войска из всех городов. В то же время в Москве во всех храмах беспрестанно совершались молитвы о князе и русском воинстве: враг шел страшнее Мамая и Тохтамыша. Митрополит Киприан почти не выходил из церкви, то благословляя идущих на войну за веру православную и землю русскую, то поддерживая крепость духа оставшихся в столице. Великий князь дабы укрепить нравственное состояние народа московского обратился из Коломны к митрополиту с просьбой послать священнослужителей во Владимир и доставить в Москву главную святыню русской земли – икону Владимирской Богоматери, некогда перевезенной туда из города близ Киева князем Андреем Боголюбским.
15 августа священники, посланные во Владимир митрополитом, торжественно приняли в руки свою святыню. Перенесение иконы Владимирской Богоматери в Москву стало событием, поразившим воображение современников. По свидетельству летописца, народ в бесчисленном множестве, по обеим сторонам дороги, преклоняя колена с воплями и слезами взывал: «Матерь Божья! Спаси землю Русскую!». В этом бесчисленном множестве народа нельзя было видеть человека, который бы не плакал и не воссылал с упованием молений к Пресвятой Владычице. Митрополит, епископы и все духовенство в ризах, с крестами и кадильницами, в сопровождении великокняжеского семейства и бояр, торжественно встретили святыню вне города и, поставив в соборном храме Успенья Пресвятой Богородицы, в радостном предчувствии благодарили Бога, даровавшего им в святой иконе залог мира и утверждения.
Позднее на месте встречи иконы Владимирской Богоматери москвичи возвели Сретенский монастырь, и улица, к нему ведущая из центра города, получила название Сретенка.
К счастью для Москвы и вся Руси русской рати не довелось сразиться с воинством Тимура. От Ельца войско завоевателей неожиданно повернуло на юг. Тимур двинулся в Северное Причерноморье, где разграбил богатые города Крыма. Столь поразивший русских людей внезапный уход Тимура от рубежей Руси объясняется просто отсутствием у самаркандского эмира намерения завоевывать Русскую землю. Главной целью похода Тимура в Восточную Европу было сокрушение Золотой Орды, опасного северного соседа его державы. Цель была полностью достигнута. Совершенно разгромленная орда надолго утратила способность кому-либо угрожать, тем более державе Тимура. Поход на север в русские земли для Тимура был совершенно бессмысленным. Он не сулил особо богатой добычи сравнительно с той, что досталась в Орде, да и ослабление Москвы было бы не к выгоде правителя Самарканда. Наоборот, усиление Москвы, тревожа ослабевшую Орду, избавляло бы Тимура от всяких возможных беспокойств со стороны северного соседа.
На Руси уход войск Тимура от русских был воспринят как чудесное заступничество Богоматери. Разгромленная Золотая Орда, естественно, ни малейшего сочувствия не вызывала. Более того ее поражение сразу напомнило Василию Дмитриевичу слова завещания его отца Дмитрия Донского: «А если Бог Орду переменит, дани ей не давать». События 1395 года нетрудно было истолковать как ту самую желанную для Русской земли перемену Золотой Орды, потому великий князь Московский и всея Руси Василия Дмитриевич с того времени всякую выплату дани в Орду прекратил. Спустя несколько лет ордынцы сумели оправиться от поражения. Сам Тохтамыш, безуспешно пытавшийся найти поддержку в Литве, в конце концов погиб в сражении с войсками еще одного претендента на ханский трон, но скоро в Орде выдвинулась незаурядная фигура полководца Едигея, сумевшего на время восстановить ордынское единство. В 1399 г. на берегах реки Ворсклы Едигей разбил литовско-русско-польское войско литовского князя. В этом сражении погиб один из героев Куликовской битвы князь Андрей Ольгердович Полоцкий. Тимур Золотой Орде более не угрожал, он совершил большой поход в Индию, принесший завоевателям невиданную по богатству добычу и теперь готовился к войне с могущественным турецким султаном Баязетом. Правители Орды осмелели и в 1403 и в 1405 гг. их послы вновь появились в Москве с напоминанием об уплате дани. Василий Дмитриевич принимал послов без особого почета и в требовании дани отказывал, ссылаясь на бедность Москвы и нехватку у нее серебра. Отговорка эта выглядела явной издевкой и напоминала татарам об оскудении самой Орды после Тимура. решительно отказывался ехать в ханскую ставку или же посылать туда кого-либо из братьев или ближних бояр. В эти годы великий князь был более обеспокоен взаимоотношениями с Литвой, где с 1393 г. великим князем был Витовт, двоюродный брат Ягайло. Ягайло с 1386 г. стал польским королем и Литва с Польшей были под одной короной. Витовт признавал себя вассалом Ягайло. Василий Дмитриевич был зятем нового князя Литвы. Вскоре после восшествия на московский престол в 1390 г. он обвенчался с его дочерью Софьей Витовтовной, но родственные отношения с московским князем не умеряли аппетитов Витовта в отношении русских земель.
Витовт значительно расширил пределы Литвы, отодвинув ее южные рубежи к берегам Черного моря, не забывал он и о движении на восток. В 1404 г. литовцы подчинили себе Смоленское княжество, впрочем, достаточно мирным путем. Как заметил Костомаров, «последний смоленский князь Юрий был злодей в полном смысле слова и смольняне предпочитали лучше отдаться Витовту, чем повиноваться своему князю. Вдохновленный такими успехами литовский князь вознамерился подчинить своей власти заодно Псков и Новгород, но это было уже слишком угрожающим для будущего Руси и Москва решительно воспротивилась. Оставив всякую почтительность к тестю, Василий Дмитриевич открыто грозил ему войной, собирал войско, дабы пресечь дальнейшие захваты Литвой русских земель. До настоящей войны дело не дошло и в 1408 г. Москва и Литва заключили мирный договор, согласно которому река Угра стала рубежом между их владениями. Притязания на Новгород и Псков Витовт временно прекратил.
Конец 1408 г. принес Москве тяжелые испытания. Едигей возглавил новое ордынское нашествие на русские земли. Правитель Орды, не только искусный полководец, но и хитроумный дипломат, сумел ввести московского князя в заблуждение, передав в Москву ложные сведения о подготовке своего похода якобы на Литву. В действительности татары вторглись в русские пределы и 30 ноября 1408 г. подошли к Москву. Василий Дмитриевич не готовый к битве с Едигеем подобно отцу своему отъехал в Кострому. Москва была поручена заботам героя Куликовской битвы князя Владимира Андреевича Серпуховского. Москву удалось отстоять, но татары разграбили и сожгли Владимир, Нижний Новгород, Ростов, Переяславль Залесский, Серпухов, Городец. Это стоило нашествия Тохтамыша.
События конца 1408 г. показали Василию Дмитриевичу, что Москва еще недостаточно сильна, чтобы низвергнуть окончательно власть Золотой Орды. Хотя Едигей на Руси не задержался – отступить его заставили междоусобицы в самой Орде – и напоминал московскому князю о необходимости уплаты дани очень мягко, едва ли не смиренно, великий князь решил не искушать судьбу, и вновь признал себя подданным хана и согласился на возобновление уплаты дани. Самый отход Едигея от Москвы был куплен за 3000 рублей серебром. В 1412 г. Василий Дмитриевич съездил в Золотую Орду к хану Джелал-ад-Дину, поклонился ему и заплатил дань и принял ханский ярлык на великое княжение.
После этой поездки в более с ней осложнений не имел. И благополучно правил до самой своей кончины в 1425 г. Скончался он в возрасте 53 лет.
Важнейшими успехами его княжения следует признать значительное расширение владений Московского княжества. Он укреплял международные связи Москвы. В 1398 г. он отправил большое количество серебра в Византию для поддержки императора Мануила. С императором Мануилом позже породнился. В 1414 сын Мануила Иоанн обвенчался с дочерью Василия Анной.
Время правления Василия Дмитриевича особо знаменательно для русской культуры. Великий духовный подъем, вызванный подвигом Сергия Радонежского и его последователей – не случайно XV столетие стало веком «расцвета русской святости» - и народным подвигом, свершенным на Куликовом поле, породил изумительное явление миру Русского Возрождения. Высшим проявлением его стал «золотой век» русской иконописи, достигшей совершенства в творчестве Феофана Грека, Даниила Черного, Андрея Рублева.
Замечательный русский ученый начала XX века князь Евгений Николаевич Трубецкой в своей работе «Россия в ее иконе» писал:» Подъем нашего великого религиозного искусства с XIV на XV в. определяется прежде всего впечатлением великой духовной победы Россию последствия этой победы необозримы и неисчислимы. Она не только изменяет отношение русского человека к родине: она меняет весь его духовный облик, сообщает всем его чувствам невиданную дотоле силу и глубину.
Народный дух приобретает несвойственную ему дотоле упругость, небывалую способность сопротивления иноземным влияниям. Именно в XV веке наша иконопись, достигая своего высшего расцвета, впервые освобождается от ученической зависимости, становится вполне самобытною и русскою… Но духовная победа русского народного гения выражается еще в углублении и расширении его творческой мысли.
Для России в XV веке есть прежде всего век великой радости… Скорбные иконы XV века уже сами по себе представляют великую победу духа. В них чувствуется тот молитвенный подъем, который в дни святого Сергий исцелил язвы России и вдохнул в нее бодрость. Такие иконы понятны именно как выражение настроения душа народной, которая подвигом веры и самоотвержения только что освободилась от величайшей напасти. Воспоминание о только что перенесенной муке еще свежо: оно необычайно живо и сильно чувствуется. Но с другой стороны, в этом стоянии у креста есть безграничная уверенность в спасении: оно приобретает достоверность свершившегося факта.
Тут опять-таки икона – верная выразительница духовного роста русского народа с XIV на XV столетие.
… Но главное и основное в иконе XV века – не эти глубины отражения, а та радость, в которую претворяется скорбь; то и другое в ней неразделенно: в ней чувствуется состояние духа народа, который умер и воскрес. Мы знаем, что многие иконописцы, например Рублев, писали свои иконы с молитвой и со слезами. И точно, во многих иконах сказывается то настроение жены, которая, после выстраданной предродовой муки, не помнит себя от радости; это – радость духовного рождения России. Она выражается прежде всего в необыкновенности богатства и в необыкновенной яркости красок. Никакие подражания и никакие воспроизведения не в состоянии дать даже отдаленного понятия об этих красках русской иконы XV в. И это, конечно, оттого, что в этой радости небесной радуги здесь сказывается неведомая нам красота и сила духовной жизни»
Так шло духовное возрождение России в конце XIV-XV вв.
Василий II Темный. гг.
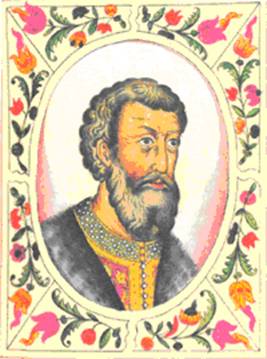
Василий Дмитриевич завещал великокняжеский престол своему сыну Василию, коему едва исполнилось 10 лет. Вновь как и в 1389 г. «великий стол» переходил от великого князя его наследнику по собственной его воле, как бы предрешая и волю ханскую. В Орде никто против перехода великого княжения в детские руки Василия Васильевича и не возражал, противники были в Москве, в самой великокняжеской семье. Хотя на Руси уже устоялся обычай передачи власти от князя старшему его сыну, но многие помнили, что некогда был обычай перехода власти к старшему в роде. Этот-то древний обычай и вспомнили брат Василия Дмитриевича Юрий, по смерти великого князя оставшийся старшим в семье. Он отказался несмотря на обращение к нему митрополита признать племянника великим князем и решился бороться за престол силой. Поддержки в семье он не получил. Юрий был вынужден удалиться в свой удел в Галиче Северном, но намерений добыть себе «великий стол» не оставил, а только ждал выгодного для себя момента, благоприятного поворота событий.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |




