Болотников был человеком удивительнейшей судьбы, жизнь его являет собой воистину приключенческий роман с совершенно невероятными поворотами сюжета. Происходил он из рода мелких дворян- «младших детей боярских», как установил историк, специалист по истории становления в России крепостничества и социальным движениям начала XVIIв. . В молодости был он служилым человеком - «воинским холопом» у князя Телятевского (подобно как Отрепьев служил Романовым). Для деятельной натуры его служба эта, должно быть, показалась ему скучной, и вскоре оказался он на Дону среди вольных казаков. Здесь на него обрушился страшный удар судьбы: в одной из стычек с крымскими татарами он угодил к ним в плен и был продан в рабство туркам, обратившим его в галерного гребца. Отсюда, казалось, выхода уже нет: галерный раб либо погибал от истощения сил, будучи прикован цепями к скамье и тогда шел «на корм рыбам», либо отправлялся на дно вместе с галерой, если вражескому кораблю удавалось ее потопить. Галера, на которой одним из гребцов был Болотников, оказалась в Средиземном море, где турки вели постоянные войны с венецианцами. И вот однажды военный корабль Венецианской республики взял на абордаж турецкое гребное судно. Турок венецианцы перебили, гребцов, коих большинство было пленными христианами, освободили. Тем, кто был покрепче, предложено было поступить на воинскую службу Венеции. Болотников вновь вернулся к привычному для него делу - ратному. Побывав в казаках на своей родине, он в Западной Европе пополнил ряды тех, кого называл «западноевропейским казачеством»- наемников, для которых профессией было военное дело, а «кому служить», определяло «за сколько служить».
«Кондотьером»- наемным воином- Болотников побывал и в Венецианской республике, и в Австрийской империи, сражался с турками, с коими имел старые счеты. В императорском войске служили многие поляки, от них-то и мог он узнать о смуте в своем отечестве. Тогда он загорелся мыслью вернуться в Россию, где в смутные времена для человека его склада и опыта открывался невиданный простор. В Польше его приветили, был он принят на самом высоком уровне - «панами рады», членами королевского совета. Быстро освоившись в новой обстановке, он вступил в свое отечество как главный воевода «царя Димитрия», попросту говоря, Лжедимитрия II. В пограничных с польскими владениями северских землях и так было сильнейшее брожение в пользу самозванца, появление же воинских отрядов во главе с многоопытным и решительным воеводой, каковым являлся Болотников, произвело немедленный социальный взрыв, быстро принявший всероссийский характер. Движение Болотникова, стремительно нарастая, объединило в себе все силы, недовольные правлением Шуйского. Его в первую очередь поддержали казаки, верные памяти «первого Димитрия», крестьяне, коим Болотников не просто обещал волю, но призывал побивать бояр, дворян и воевод царских (не всех, однако, но лишь тех, кто не идет за «царя Димитрия»), поддержали его и дворяне, недовольные Шуйским, среди них особо известны Истьма Пашков, поднявший за Болотникова и Лжедмитрия II Тулу, Венев и Кошкору, рязанский воевода Григорий Сунбулов и рязанский же дворянин Прокопий Ляпунов, возмутившие против царя Василия Рязанскую землю. Были в войске Болотникова и знатные бояре, даже князья: князь Шаховской, князь Рубец-Мосальский, князь Телятевский, чьим служилым человеком Болотников некогда был. Польские ротмистры, также бывшие в окружении Болотникова, помогали организовать воинский порядок в его разношерстной рати.
В течение осени 1606г. Болотников разбил многих царских воевод, занял обширнейшую территорию и к зиме подходил уже к Москве. Шуйский предпринял попытку подкупить самого предводителя восстания, предложив Болотникову знатный чин, но тот отказался, поскольку рассчитывал вступить в Москву победителем. Однако в решительном сражении близ подмосковной деревни Котлы он был разбит царскими войсками, успех которых был предопределен переходом на их сторону дворян во главе с Пашковым и Ляпуновым. В отличие от Болотникова Пашков и Ляпунов приняли тайные предложения Шуйского, жаловавшего им чины думных дворян и богатые вотчины.
Отступление Болотникова из-под Москвы не означало еще конца движения, но перевес был уже не на его стороне. Крайняя разнородность рядов бунтовщиков с одной стороны делала их очень многочисленными, но она же придавала им внутреннюю непрочность. Уж больно разошлись цели окружения Болотникова и его самого, мечтавших, искоренив с помощью мятежных низов старое боярство, самим занять его место, князей, бояр и дворян, принявших сторону Болотникова лишь потому, что шел тот против ненавистного им Шуйского, казаков, желавших сохранить и расширить свои вольности и вовсе неравнодушных к грабежу боярских имений и, наконец, крестьян, мечтавших покончить с ненавистным крепостничеством и бывших не только наиболее многочисленными в войске Болотникова, но и наиболее чуждыми его предводителям.
Весной 1607г. междоусобная война шла с переменным успехом. Поначалу мятежники отступали, но после того, как верный Болотникову князь Телятевский разбил большой отряд войск Шуйского у Пчельни близ Калуги, восстание как бы обрело второе дыхание. Болотников сосредоточил свои силы в Туле, намереваясь оттуда угрожать Москве. Но силы Шуйского превосходили повстанцев. Страшная разрушительная сила движения Болотникова, грозившая государству погибелью, сплотила многих дворян, бояр, служилых людей, земских, посадских вокруг какого-никакого, а все же царя. В конце мая царские войска разбили болотниковцев на реке Восме и предводитель мятежа с главной своей ратью был осажден в Туле. Болотников рассчитывал на помощь Лжедимитртя II, собравшего уже в Польше у русских рубежей немалое войско, но тот не спешил помогать своему воеводе. Не имея поддержки, Болотников решил сдаться, выговорив предварительно себе и своим сторонникам у Шуйского помилование. Свой поход против царя Василия он объяснял верностью «царю Дмитрию», в подлинности которого он не мог усомниться, ибо прежде его не видел.
Шуйский явил поначалу великодушие, и Болотников ко всеобщему изумлению разъезжал по царскому стану, многие из его войска перешли на царскую службу, но длилось это недолго… вскоре мятежного вождя сослали на север в Каргополь, где, ослепив, утопили. Князь Рубец-Мосальский еще ранее погиб, князя Шаховского сослали на Кубанское озеро в монашескую пустынь, судьба Телятевского неизвестна. Сдавшийся с Болотниковым казацкий предводитель, выдававший себя за «царевича Петра» был повешен.
Болотниковское возмущение, едва не разрушившее государство, не только не подорвало крепостничество, но в ходе его царская власть издала 9 марта 1607г. указ, по словам , установивший «твердо начало крестьянской крепости».Срок сыска беглых крепостных был установлен в 15 лет.
Победа над Болотниковым вовсе не означала успокоения Смуты. Все причины, породившие ее, оставались, и теперь ими пользовался сам Лжедмитрий II. В августе 1607г. в городе Стародубе в Северской земле самозванец объявил себя «царем Димитрием Иоанновичем» и начал свой поход на Москву. К сентябрю у него уже собралось немалое войско. В октябре его отряды приближались к Туле, где еще сопротивлялся главный воевода самозванца Болотников, но, узнав о сдаче города, отступили вновь в Северскую землю. В начале ноября Лжедимитрий II возобновил постепенное движение на Москву. В январе 1608г. он вступил в Орел, где и пребывал до весны. Силы его возрастали. Второму самозванцу Польша оказывала прямую помощь войсками, оружием, предводителями, среди которых выделялись такие лихие вояки как Лисовский, Заруцкий, Рожинский. Хотя мало кто в России верил в то, что «царь Дмитрий» жив, а нового самозванца прямо называли «Вором», войско воровское все возрастало. К нему сходились толпы участников болотниковского выступления, подходили казацкие и польские отряды. «В Орле получила окончательное устройство разноплеменная рать Вора: Рожинский был избран ее гетманом, а Лисовский и Заруцкий стали во главе московского казачества. Весною должны были начаться решительные действия.» ().
В двухдневном бою под Болховым 30апреля и 1мая 1608г. рати Шуйского были разбиты, и самозванец двинулся к столице. В начале июня он уже стоял под Москвой, расположив свой стан в Тушине. Даже его пребывание там дало ему в народе прозвище «Тушинского вора». Однако, легко достигнув Москвы, он не смог ее взять. Другая часть его войска также безуспешно осаждала сильно укрепленный Троицко-Сергиев монастырь. Но и у царя Василия Шуйского не было сил отогнать воровские войска от столицы. Сложилось безрадостное для страны двоевластие: часть ее подчинялась по-прежнему царю Василию, в другой царил «Тушинский вор» под именем «царя Димитрия Иоанновича». В государстве было два царя, два патриарха (Гермоген в Москве и Филарет Романов в Тушине), две Боярские думы, два царевых войска….
«Тем временем Московское государство пришло в ужаснейший беспорядок. Одни стояли за Димитрия, другие за Василия. Жена первого бродяги, Марина Мнишек, признала нового Димитрия за одно лицо с прежним своим мужем, и это много расположило к нему народ. «стало быть,- говорили,- он и впрямь тот, кто царствовал и кому мы присягали.» Были и такие, которые не верили, чтоб он был Димитрий, а стояли за него оттого, что не любили царя Василия и не хотели, чтобы он, неправильно севший на престол, утвердился на нем своим родом. Они хотели через Дмитрия свалить с престола Шуйского, а потом извести самого вора и выбрать нового царя всей землей. Сперва Димитриева сторона брала верх над Василиевой, но скоро поляки, которых разослали из тушинского стана по разным городам и уездам сбирать продовольствие для войска, наделали народу русскому оскорблений и насилий и так его озлобили, что он повсеместно поднялся и стал приставать к Шуйскому.»- писал .
Справедливое негодование народа против произвола иноземцев было на руку Василию Шуйскому. Подарком судьбы для него были и воинские дарования его племянника Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, уже отличившегося в сражениях с болотниковцами. Для большей уверенности в победе царь Василий заключил союз со Швецией и в январе 1609г. король Карл IX направил в Россию пятнадцатитысячное войско во главе с военачальником Яковом Делагароги, весной прибывшее в Новгородскую землю.
Союз с шведским королем обошелся России в немалую цену: Шуйский уступал Швеции город Корелу с уездом и отказывался от всяких притязаний на Ливонию. В этом смысле такой союз представлялся более, чем сомнительным благом.
Военные последствия, правда, поначалу были благотворны. В течение 1609г. тушинцы потерпели полное поражение. 7января Лжедимитрий II бежал в Калугу. «Тушинский лагерь» распался. 12марта 1610г. Михаил Скопин-Шуйский, победитель второго самозванца, торжественно въехал в Москву. Москвичи радостно пировали, празднуя победу над тушинцами, но был это скорее «пир во время чумы». Надвигался куда более страшный враг. Встревоженный русско-шведским союзом и видя очевидное поражение Лжедимитрия II, польский король Сигизмунд III перешел к прямой агрессии против России. Выдвинув весьма запоздалый предлог - избиение поляков в Москве 17мая 1605г.- он в сентябре 1609г. вторгся в русские пределы и осадил Смоленск. Смоляне, возглавляемые мужественным воеводою Шеиным, не пожелали покориться захватчикам и героически, подобно псковичам против войск короля Стефана Батория в Ливонскую войну, отражали все приступы польских войск. В королевский стан из-под Тушина перешли и поляки, ранее служившие Лжедимитрию II. Стало очевидно, что Речь Посполитая начала завоевательную войну против России.
Ликование москвичей действительно оказалось непродолжительным. 24апреля на пиру у князя -Шуйский внезапно заболел и вскоре умер. Скорее всего, он был отравлен, но кто виновник - осталось невыяснено. Молва обвиняла самого царя Василия Шуйского, но для него гибель племянника была утратой последней надежды на спасение.
Тем временем в среде бывших тушинцев, настроенных про-польски, созрело решение низвергнуть Шуйского, пригласив на русский трон польского королевича Владислава, сына Сигизмунда. 4февраля король дал на это согласие и был подписан договор, согласно которому Владислав становился русским царем. Было оговорено, что в основном в стране останутся прежние порядки и королевич примет православие, но в Польше никто эти условия не брал всерьез - там готовились к порабощению России.
Весной 1610г. поляки захватили Чернигов и Новгород-Северский, к самой Москве двинулись польские войска во главе с выдающимся полководцем гетманом Жолкевским. Неожиданно напомнил о себе Лжедмитрий II, его войска из-под Калуги также двинулись к столице. Правление Василия Шуйского явно терпело полный крах… Не будучи способным ни отразить внешних, ни подавить внутренних врагов, жалкий царь вызывал всеобщее осуждение. Наконец, против него восстала сама Москва. 17июля 1610г. москвичи под предводительством дворянина Захара Ляпунова низложили Василия Шуйского, а через два дня он был насильно пострижен в монахи. Свои действия Ляпунов и его сподвижники обосновали тем, что Шуйский не был законно избран государем, а попросту «выкрикнут» толпой, вовсе не являвшей собою Земского собора.
К Москве тем временем подходили войска Жолкевского, еще 24июня под Клушином разгромившие последние русские рати… после этого поражения шведские союзники потеряли всякий интерес к царю Шуйскому и стали оттягиваться на север России, издревле их привлекавший.
Созданное в Москве по свержении Василия Шуйского правительство из семи бояр во главе с князем Федором Мстиславским и не помышляло о защите столицы, но надеялось умилостивить поляков приглашением на престол королевича Владислава, следуя пагубному примеру бояр-тушинцев.
17августа 1610г. близ Москвы на Девичьем поле «Семибоярщина» заключила с поляками договор о вступлении на русский престол сына Сигизмунда III королевича Владислава. В Москве надеялись, что после этого договора Сигизмунд прекратит осаду Смоленска, Жолкевский отойдет от стен русской столицы, а королевич, приняв православие, будет, согласно подписанным условиям его приглашения, поддерживать в России твердый государственный порядок.
Увы… единственным достижением сговора с Польшей явилось лишь то, что поляки помогли отогнать от Москвы давно уже не нужного им Лжедимитрия II. Тот вновь бежал в Калугу, где 10декабря 1610г. был убит служившими ему татарами, которым он задолжал плату.
Поляки тем временем начали осуществлять задуманное ими: в ночь с 20 на 21 сентября 1610г. гетман Жолкевский по сговору с жалкой, бессильной семибоярщиной ввел польские войска в Москву и занял Кремль.
Таков был конец незадачливого царствования Шуйского. Сама столица России была в руках поляков, над страной нависла страшная угроза иноземного порабощения.
Междуцарствие.
Утверждение поляков в Москве по свержению Василия Шуйского являло собою сильнейшую угрозу самому существованию Российского государства. Если у кого и были надежды, что Польша не имеет захватнических намерений и утверждение Владислава русским царем только поспособствует установлению дружбы между русскими и поляками, то они быстро развеялись. Польские войска вели себя в русской столице как в завоеванном городе, король Сигизмунд предложил осаду Смоленска, отряды захватчиков жестоко разоряли русские земли. Поляки и поддерживавшие их разбойные казаки, остатки болотниковских и тушинских шаек в поисках добычи захватывали селения, города, предавая их полному разграблению. Из окрестностей Москвы они проникли на Верхнюю Волгу вплоть до Ростова Великого и Вологды. Но бесчинства завоевателей не оставались без ответа. Преданный государственной властью народ не желал покоряться иноземцам. На местах стали ополчаться жители сел и городов, отряды вольных людей – «шишей» - повели против поляков и их союзников партизанскую войну. У народа стали появляться и достойные вожди. Воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский отогнал захватчиков от города Пронска и очистил Рязанскую землю от шаек воровских казаков. К концу года народное сопротивление врагу настолько усилилось, что появилась возможность создания ополчения всей земли для освобождения столицы и изгнания завоевателей из русских пределов. Духовных вождем народа стал патриарх Гермоген. Будучи заточенным в Чудовом монастыре Московского Кремля, глава Русской Православной Церкви сумел обратиться к русским людям с воззваниями, в которых призывал их подняться на врага за Землю Русскую и Веру Православную.
Прокопий Ляпунов, получив грамоту патриарха, окончательно понял, каковы истинные намерения поляков и решился возглавить народное движение против них. Он разослал в разные города грамоты с призывом спасти от иноверцев и иноземцев царствующий град и православные святыни. Призыв Ляпунова был услышан на родной его Рязанщине, на Верхней Волге, во Владимире, в Нижнем Новгороде, в Вологде, Галиче. Народу в ополчение стекалось множество и Ляпунов охотно принимал всех без разбора. По словам Костомарова: «Ляпунов не разбирал людей, лишь бы шли к нему; всех готов был принимать: он одно конечное дело видел впереди и хотел совершить его как можно скорее». Это и было его крупнейшей ошибкой. Да, против поляков поднялись все слои русского народа, но не у всех был единый взгляд на будущее… здесь дворяне, и казаки, и крестьяне сильно разошлись во мнениях. Крайней недальновиден оказался союз Ляпунова с казацким атаманом Иваном Заруцким, человеком «без роду, без племени», «перекати-полем» Смутного времени, готовым служить любому делу, лишь бы оно принесло ему удачу и, паче того, добычу. «Для Заруцкого Московское государство было чужое, ему лишь бы в мутной воде рыбу ловить» - справедливо характеризовал его Костомаров.
К весне 1611 г. многотысячное воинство стало приближаться к Москве. В самой столице приближение русских войск, сулившее скорое освобождение от захватчиков, подняло ратный дух жителей и 19 марта в городу вспыхнуло восстание против поляков. На помощь восставшим москвичам подошел отряд Дмитрия Пожарского. Москва стала полем сражения, особенно яростные бои шли на Лубянке, где предводительствовал Пожарский. Поляки, дабы не подпустить повстанцев к Кремлю и Китай-городу, подожгли деревянную Москву. Столица превратилась в огромный костер. Поскольку главные силы ополчения были еще далеко – Ляпунов не успел выступить из Коломны – поляки сумели взять верх. Тяжело раненный Пожарский был вывезен повстанцами из горящей Москвы. Но торжество завоевателей было недолгим. К апрелю десятки тысяч ополченцев подошли к захваченной поляками столице России. Силы Ляпунова численно намного возросли после присоединения к нему казаков Ивана Заруцкого. Казачьим же войском предводительствовал и другой их вождь – князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Этот родовитейший боярин собирая свое воинство, призывал в него людей, обещая им богатое жалование, а главное, что находило особый отклик в сердцах крепостных крестьян так было записано в его призывных грамотах: «А которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли безо всякого сомнения и боязни, всем им воля и жалование будет, как и другим казакам, и грамоты им от бояр и воевод и от всей земли дадут». Дворяне, бывшие в ополчении, и сам Прокопий Ляпунов не могли разделять такого взгляда своего союзника… Это и обусловило роковую внутреннюю слабость огромного войска, насчитывавшего десятки тысяч вооруженных людей. Осажденные поляки, прознав о противоречивом войске Ляпунова, нашли способ устранить предводителя ополчения руками казаков. Была подброшена в казацкий стан поддельная грамота якобы от имени Ляпунова, где тот обещался дворянам после изгнания поляков из Москвы «извести казачество». «Где поймают казака – бить и топить, а когда, даст Бог, государство Московское успокоится, то мы весь этот злой народ истребим».
Казаки, поверив грамоте, взбунтовались. Ляпунов, бесстрашно явившийся на казацкий круг был убит. Ополчение, оставшись без предводителя, распалось. Только казацкие отряды Трубецкого и Заруцкого остались осаждать поляков в Москве, но у них не было сил для освобождения города. Тем временем положение страны ухудшалось до немыслимых пределов. Новгород и вся Новгородская земля были захвачены шведами. Недавние «союзники» Шуйского превратились в завоевателей. В Пскове власть захватил очередной самозванец, наконец, 2-го июня после восьмимесячной осады пал Смоленск. В Поволжье бунтовали против русской власти черемисы, отряды крымских татар хозяйничали южных областях страны, доходя в своих разбойничьих набегах вплоть до Коломны… Казалось государство российское погибло.
В этот роковой для Отечества час не умолкли голоса великих радетелей его спасения патриарха Гермогена и Авраама Палицына, бывшего душой героической обороны Троице-Сергиева монастыря от захватчиков. Грамоты из подземелья Чудова монастыря и Троице-Сергиевой обители русские города и встречали отклик в сердцах русских людей. Одна из грамот Авраама Палицына достигла осенью 1611 г. Нижнего Новгорода. Тамошний воевода Алябьев созвал лучших людей города, дабы решить, как должно действовать нижегородским. Зачитали грамоту в соборе св. Спаса после чего на соборной площади перед собравшимся народом выступил выборный городской староста Кузьма Минин. Он сказал: «Православные люди! Коли нам похотеть подать помощь Московскому государству – не пожалеем животов наших, да не токма животов, дворы свои продадим, жен, детей в кабалу отдадим, будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную веру и был бы у нас начальный человек. Дело великое мы совершим, если нам Бог благословит, слава нам будет от всей Земли Русской, что от такого малого города произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы это на дело подвигнемся, - многие города к нам пристанут и мы вместе с ними дружно отобьемся от иноземцев».
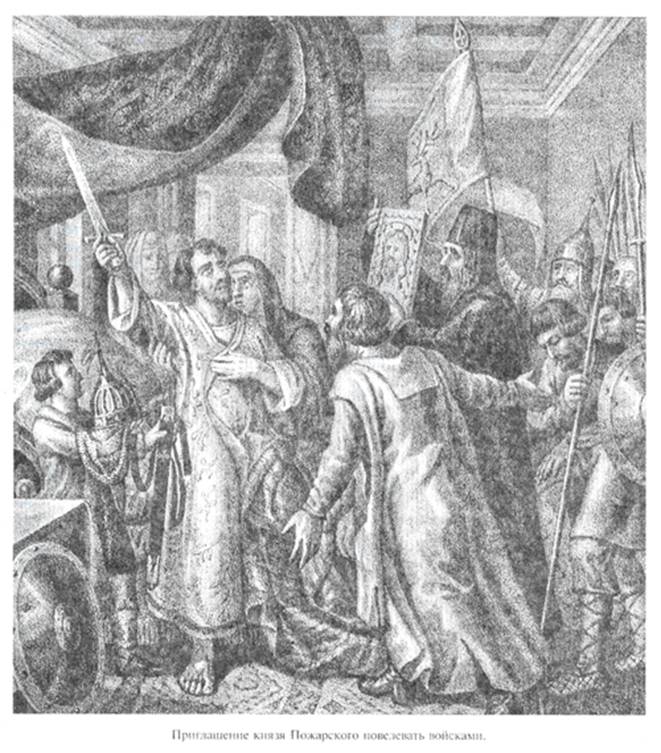
Минин объявил, что отдает на общее дело треть своих денег и шлет на бой своих сыновей. Он же предложил избрать воеводой нового ополчения князя Дмитрия Пожарского, «мужа честного, кому знакомо ратное дело, который в такой деле искусен и который во измене не явился». Действительно, князь Дмитрий Михайлович за все Смутное время ни разу не уронил своей чести изменой – службой самозванцам, Болотникову, полякам; он доблестно сражался в Москве в марте 1611 года, и потому предложение Минина было единодушно поддержано. Сам князь, оправившийся от рано, принял руководство новым ополчением. О создании его были посланы грамоты во все города страны и вскоре «все города Московского государства утвердились крестным целованием, чтобы быть всем в любви и соединении, прежнего междоусобия не начинать, и Московское государство от врагов, от польских и литовских людей очищать неослабно до смерти своей». Новое ополчение качественно отличалось от войска Прокопия Ляпунова. В основном оно состояло из дворян и служилых людей – воинов. Потому-то оно, будучи сословно относительно однородным, было внутренне куда крепче первого ополчения, хотя численность его не превышала 20-25 тысяч человек, а у Ляпунова под Москвой было до ста тысяч.
В феврале 1612 г. второе ополчение выступило в поход. Осторожный Пожарский двинулся верхней Волгой к Ярославлю, где был создан «совет всея рати», по сути новое правительство страны. К лету у Пожарского было уже сильное, хорошо вооруженное войско, состоявшее в основном из числа искуснейших в воинском деле людей. К этому времени в Ярославль пришли сведения, что из Польши для окончательного овладения Москвой, что должно было обеспечить и скорое покорение всей России, движется отборное королевское войско во главе с испытанным военоначальником гетманом Ходкевичем. Слабые отряды Трубецкого - Заруцкий к этому времени отошел со своими казаками на Рязанщину, где занялся грабежами и разбоями – едва ли могли дать достойный отпор войску гетмана. Дабы не допустить окончательного утверждения поляков в Москве, ополчение во главе с Мининым и Пожарским в начале августа 1612 г. подошло к Москве. 21 августа к русской столице стали приближаться польские войска гетмана Ходкевича. На следующий день началось сражение.
22 августа поляки пытались пробиться на помощь своим, осажденным в Кремле и Китай-городе по левому берегу Москвы-реки через Хамовники. Польский гарнизон из Кремля сделал вылазку навстречу наступающему гетману, но, к счастью, и наступления Ходкевича и вылазка осажденных были отбиты. Тем не менее из-за бездействия казаков Трубецкого, не желавших помогать «дворянам и детям боярским», из коих в основном и состояло войско Пожарского, гетману удалось через Замоскворечье переправить в Кремль отряд в 600 человек и припасы продовольствия.
24 августа Ходкевич начал новое наступление на сей раз на правом берегу Москвы-реки. На сей раз казаки поддержали ополченцев. Заслуга в этом Авраама Палицына. Он обратился к казакам со столь пламенными словами, что они бросились в бой, крича: «Пойдем, пойдем, не воротимся назад пока не истребим вконец поляков!»
Бой был очень тяжелым, одно время поляки брали верх и уже было, прорвавшись по Пятницкой улице к Москве-реке, начали наводить плавучие мосты к Кремлю. Тогда свое слово сказал Кузьма Минин. Возглавив конный отряд в несколько сот человек он ударил по полякам с тыла. Неожиданный удар решил исход битвы, войско Ходкевича было разгромлено.
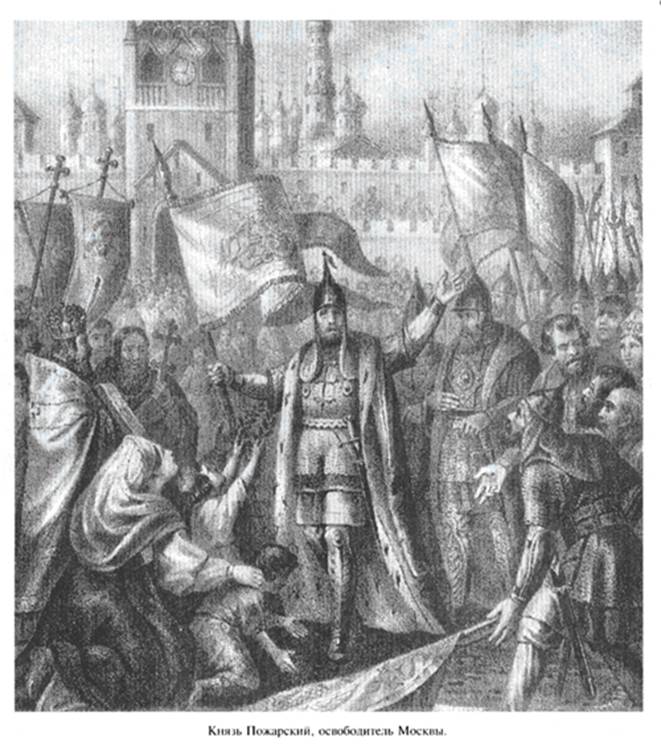
22 октября ополченцы овладели Китай-городом, а 26 октября сдались поляки, сидевшие в Кремле. Москва была свободна. Минин, Пожарский, Палицын спасли Россию от угрозы иноземного порабощения «заслужив вечную благодарность потомков».
Михаил Романов гг.
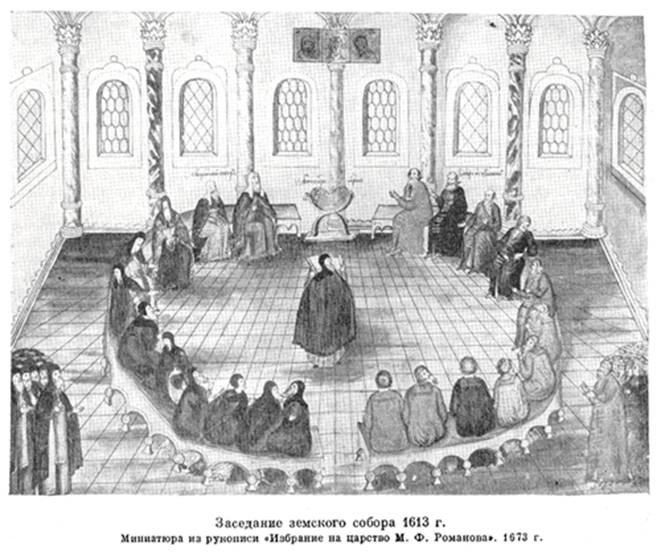
Освобождение столицы положило начало восстановлению российской государственности. Вожди ополчения Пожарский, Минин и Трубецкой разослали по всем городам страны грамоты, призывавшие в Москву выборных людей от всех чинов и духовных для избрания нового государя. В начале 1613 г. выборные стали съезжаться в Москву и вскоре стало очевидно, что важнейший для судеб отечества Земский собор непременно состоится. Он приобрел совершенно особое значение, являя собою подлинный глас всей многострадальной Русской земли. По словам Ключевского «это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители Русской земли хотели очиститься от грехов смерти перед совершением такого важного дела. По окончании поста начались совещания».
Собор шел нелегко. Если почти без споров было решено не выбирать царя из числа иноземцев и иноверцев, а также сына Мнишек от Лжедмитрия II, то по вопросу избирания на царство природного русского государя мнения разошлись. Искателями престола были князья Голицын, Мстиславский, Воротынский, Трубецкой. Вскоре было названо и имя сына находившего в польском плену «тушинского патриарха» Филарета Михаила Федоровича Романова. «В то время как собор разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в него вдруг пошли одно за другим «писания», петиции за Михаила от казаков; последние и решили дело» - писал Ключевский. В пользу Михаила говорило и его родство с прекратившейся династией по женской линии – он был племянник Федора Иоанновича Романова по матери. Важно, что и сами Романовы были очень уважаемы в московском обществе. Учли и личные качества молодого Романова: доброта, незлобивость и кротость его обещали спокойное царствование и искупали кажущеюся недалекость его ума. По всем этим «статям» Михаил Федорович Романов выглядел удобнейшим, пусть и далеко не способнейшим.

7 февраля Земской собор избрал Михаила царем, 21 февраля состоялись окончательные выборы. В июне 1613 Михаил Федорович Романов венчался на царство. Началось трехсотлетнее царствование Романовых в России.
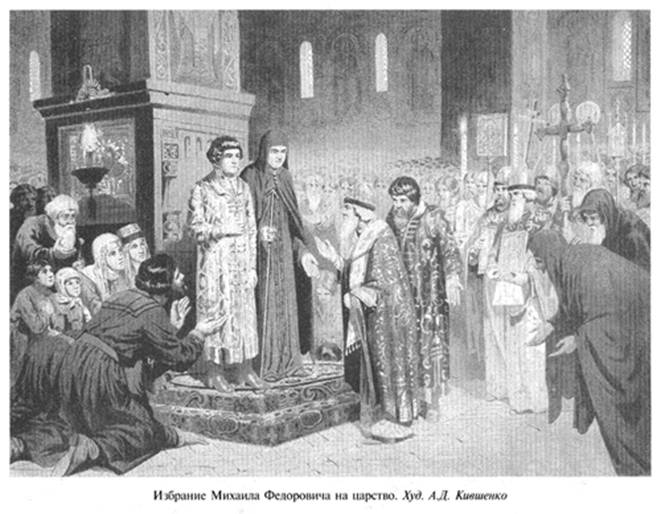
Первые годы правления молодого царя пришлись на тяжелейшее время. Смута была еще далеко не завершена. Разбойные казаки Заруцкого хозяйничали на Нижней Волге, татары подходили к Коломне и Арзамасу, шведы не желали возвращать Новгород и готовили наступление на Псков, поляки, удерживая Смоленск и Чернигов не оставили надежд повторить поход на Москву. Но наличие в Москве утвержденной волей всей Русской земли царской власти, опиравшейся на победоносное воинство, созданное Мининым и Пожарским позволило преломить ситуацию. Постепенно центр страны был очищен от разбойных шаек, отогнаны татары. В 1614 г. освобождена Астрахань, где были захвачены Иван Заруцкий, Марина Мнишек и четырехлетний сын Марины и Лжедмитрия II. Марина была заточена и вскоре умерла, Заруцкий и четырехлетний мальчик, повинный лишь в том, что был сыном ненавистной многим Марины и Тушинского вора, были повешены. Разбойный атаман заслужил свою петлю, но безжалостная казнь несчастного ребенка не может не ужаснуть. Гибель безвинных детей – как бы символ кровавого безумия Смутного времени. Вспомним царевича Дмитрия, Федора Годунова…
Постепенно стали приходить в порядок и дела внешние. Шведы, потерпев поражение под Псковом, оставили Новгородскую землю. Перемирие, заключенное с ними в Столбове, лишило Россию Карельского перешейка и земель по течению Невы, включая древнюю новгородскую крепость Орешек. Страна оказалась отрезанной от Балтики. Поляки под предводительством королевича Владислава в 1618 г. подошли вновь к Москве, но будучи отбитыми под стенами Троице-Сергиевой обители, согласились на перемирие, которое и было заключено в селе Деулине. Россия была вынуждена уступить Польше Смоленскую и Северскую земли. Потери были велики, но, как справедливо заметил Костомаров, «Московское государство много потеряло от этого перемирия, но выигрывало нравственно, отстоявши свою независимость. Теперь уже недоразумения могли возникать только о тех или о других границах государств, но уже Московское государство решительным заявлением своей воли отразило всякие поползновения Польши на подчинение его тем или иным путем».
В июне 1619 г. в Москву возвратился Филарет и стал патриархом всея Руси. Во времена Тушинского вора он был патриархом в его стане, противостоя патриарху московскому Гермогену. Гермоген мученически погиб будучи заточен поляками в подземелье Чудова монастыря. Но отдадим должное Филарету. Прежние грехи его были искуплены достойнейшими деяниями по возвращению в отечество. Возвратившись, патриарх возглавил управление страной и стяжал в этом труднейшем деле немалые успехи.
Филарет глубоко вникал во все дела государства, проявляя неусыпную заботу об его укреплении, дабы изжить страшные разрушения Смутного времени и привести страну и народ к процветанию. Он переменил должностных лиц во всех ведомствах, беспощадно изгоняя нерадивых, взяточников, злоупотреблявших властью. Правительство запретило воеводам, приказным брать подарки (По-сути взятки), вымогать для себя дополнительные поборы, применять насилие в отношении посадских людей и крестьян. Писцам, производившим перепись всех земель для установления размеров податей, крестным целованием вменялось делать опись так, чтобы богатые не могли ничего утаить, а тяготы для бедных не усиливались. Земли, особо тяжко пострадавшие в Смуте, получили податные листы. В то же время тяжелейшее положение разоренного государства принуждало правительство и введению новых налогов для пополнения пустой государевой казны. Служилые люди в городах должны были нести тягло наряду с посадским населением, увеличились таможенные пошлины, торговые сборы. Важнейшим средством пополнения казны стали государевы кабаки, ставшие с того времени распространенным явлением на Руси. Через них правительство нашло способ выкачивания из народа дани таким образом, чтобы и последний грош человек с пьяных глаз отдавал «с удовольствием». Царевы кабаки пополняли казну, но при этом крушили народную нравственность и без того потрясенную бедами Смутного времени. Пьянство с того времени стало приобретать в России печально знаменитый размах.
Крайне трудно было покончить со злоупотреблениями должностных лиц. Нещадно борясь с ними, правительство одновременно создавало для них благоприятную погоду. На местах все дела от земских и губных старост перешли к назначаемым царем воеводам. Воеводы, облегченные властью царским указом и независимые от местного общества получали возможность чинить произвол, чем и пользовались, хотя назначали их именно для устранения произвола на местах.
Тем не менее постепенно жизнь народа и страны налаживалась. Наступившие мирные годы, усилия правительства, труд народный медленно, но верно восстанавливали государство. Писцовые книги переписи земель 1626 г. показали, что хозяйство страны восстанавливается. Села, числившиеся пустыми в гг. вновь заселялись, быстро росли размеры пашен, постепенно приближаясь к временам правления Годунова.
Стремление изыскать новые источники доходов для государевой казны ускорило русское движение на восток на земли недавно завоеванной Сибири. Сибирь становилась важнейшим источником ценных мехов, выручавших казну при нехватке денег. Добыча мехов была делом государевых людей и частных добытчиков не жаловали. Все царствование Михаила Федоровича шло неудержное продвижение русских людей на восток, ставились все новые и новые остроги. Исключительную роль сыграло казачество, из которого и вышли самые знаменитые русские землепроходцы.
В 1632 г. сотник Петр Бекетов по поручению воеводы Енисейского края поставил на реке Лене острог, на месте которого впоследствии возник город Якутск. прошел по Лене до ее владения в Ледовитый океан. Так Россия овладела Якутией. В 1640 г. было образовано Якутское воеводство. Отсюда освоение Сибири пошло по четырем направлениям: на север – к Ледовитому океану, на восток – к Тихому океану, на юг – к Байкалу, на юго-восток – к Приамурью.
В 1640 г. служилые люди из Якутска достигли Байкала и поставили близ его Баргузинский острог. Отсюда был открыт путь по реке Шилке к Амуру.
В конце 30-х гг. казацкий атаман Дмитрий Копылов, пройдя по рекам Мае и Улье, достиг побережья Охотского моря. Россия вышла к Тихому океану.
В 1643 г. с отрядом служилых людей из с притока реки Алдана Умура перешел на верхнее течение реки Зеи, плывя по которой он достиг Амура. Пройдя все течение Амура, он достиг Тихого океана. Плывя вдоль морского берега на север, он достиг реки Ульи, ранее открытой Копыловым, он сумел после трех лет странствий возвратиться в Якутск.
Казачество способствовало закреплению за Россией и южных земель, будучи щитом России от татарских набегов. Более того донские казаки в 1637 г. сами вторглись в турецкие владения и овладели турецкой крепостью Азовом. Земский собор 1642 г. постановил вернуть Азов во владения турецкого султана.
Не принесла успеха России и война против Польши. В 1632 г. Москва решила воспользоваться возможным бескоролевьем в Польше по смерти Сигизмунда III и вернуть утраченные смоленские и северские земли. Россия действовала в союзе со Швецией, также бывшей врагом поляков, поскольку шведы в это время вели войну в Германии против австрийского императора, союзника Польши.
Вступление России в войну произошло после прихода в Москву известия о победе шведов над войсками при Люцене, что означало невозможность получения поляками помощи от императора. Были увеличены стрелецкие войска, численность которых довели до 40 тысяч человек, в русском войске появились иностранные наемники, во главе армии поставили боярина Шейна, но итоги войны оказались печальными.
Смоленск взять не удалось. Владислав, ставший королем Польши, проявил себя энергичным полководцем и сумел окружить русские войска под Смоленском. В 1634 г. в селе Полянове был заключен мир между Россией и Польшей, согласно которому Владислав отказывался от титула московского царя. Со своей же стороны Россия признавала польскими владениями Смоленск и Чернигов и сверх того выплачивала Польше 20 тысяч рублей. Во время этой войны в 1633 г. скончался патриарх Филарет. «Когда 1 октября 1633 г. патриарх Филарет умер, он оставил Московское государство окрепшим настолько, что ни тяжелая борьба с соседями, ни внутренние язвы народного хозяйства и государственного быта уже не могли расшатать воздвигнутого из развалин политического здания. С кончиной патриарха ничто по существу не изменилось несмотря на несомненное ослабление правительственного центра. В Москву вернулись опальные члены придворной знати и приказной среды, но никто не заменил Филарета в преобладающем государственном влиянии. Московское правительство плыло по сложившемуся течению, не проявляя сколько-нибудь крупного почина» - писал известный русский историк .

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |




