За годы своего правления Иван Данилович сумел заметно расширить свой Московский удел. Он закрепил за Москвой Владимирскую землю, не получив, правда, права свободного распоряжения ею – собственно великокняжеские земли передавались по ханской воле. Ряд земель Калита сумел приобрести, используя свои немалые богатства. Так он приобрел города Углич, Белоозерск, Галич Северный.
Москва при Иване Даниловиче стала приобретать черты подлинно стольного града. Помимо Успенского собора, освященного митрополитом Петром, был построен еще один каменный собор Михаила Архангела, ставший впоследствии усыпальницей московских князей, затем и царей. Первым в нем был погребен, согласно своему завещанию, сам Иван Калита.
В 1339 г. Москва была окружена новыми дубовыми стенами после очередного пожара (всего при Калите дважды деревянный город становился жертвой огня).
Великий князь немало сделал для укрепления внутреннего порядка в княжестве. приводит сведения одного древнего памятника о том, что Калита избавил Русскую землю от «татей» - воров и разбойников.
отмечал, что «Тишина Иоаннова княжения способствовала обогащению России северной. Новгород, союзник Ганзы, отправлял в Москву и в другие области работу немецких фабрик. Восток, Греция, Италия; (чрез Кафу и нынешний Азов) присылали нам свои товары. Уже купцы не боялись в окрестностях Владимира или Ярославля встретиться с шайками татарских разбойников: милостивые грамоты Узбековы, данные великому князю, служили щитом для путешественников и жителей».
Таковы незаурядные итоги правления московского, а с 1328 г. великого князя всея , прозванного Калитой. Сохранилась духовная грамота (завещание), составленная великим князем. Это древнейший из дошедших до нас подлинных документов московских князей. Грамота является ценнейшим источником, позволяющим судить о достоянии великого князя.
Скончался Калита в 1340 г.
Симеон Гордый. 1340 – 1353 гг.
Старший сын Ивана Калиты Симеон после смерти отца немедленно отправился в Орду, дабы сохранить за Москвой великое княжение и, несмотря на соперничество с двумя Константинами – князьями Тверским и Суздальским, довольно быстро добился успеха.
Отыскивая ханскую милость, Симеон Иванович более ссылался ан преданность Орде отца своего и сам клялся быть не менее верным слугою ханским. Однако, как несомненно справедливо заметил , «не красноречие юного Симеона и не дружба ханова к его родителю произвела сие действие, но другая сильнейшая для варваров причина: корысть и подкуп…любимцы Узбековы требовали взяток и продавали его милости; а князья московские, умножив свои доходы приобретением новых областей и новыми торговыми сборами, находили ревностных друзей в Орде, ибо могли удовлетворить алчному корыстолюбию ее вельмож…»
Не зря Иван Данилович заслужил прозвище «Калита».
Став великим князем, Симеон Иванович следовал во всем примеру отца. В отношениях с Ордой, по словам Карамзина, «ласкал ханов до уничижения», с русскими же князьями держал себя иначе, что было дозволено ему ханским расположением. Униженный перед ордынцами Симеон был столь спесив с русскими, что заслужил в истории прозвище «Гордого». Можно, конечно, усомниться в действительной гордости того, кто лежал на брюхе перед татарским владыкой, но сам Симеон и его современники в том греха не видели. Хан – законный царь русской земли, власть Орде над Русью дана Богом за грехи русских людей, да иного поведения князя ордынцы бы и не потерпели. Для русских же князей Симеон Гордый стал подлинно великим князем. С ними он заключил особый договор, согласно которому младшие князья должны были почитать великого как отца, иметь с ним общих друзей и врагов. В грамоте этой Симеон, подобно отцу своему, назван «великим князем всея Руси». Не случайно в летописи о его правлении было записано: «Всех князей держал в руке своей».
Доверие ордынских ханов к Симеону Гордому (в 1342 г. хана Узбека после кратковременного воцарения Тинибека сменил хан Джанибек, правивший до 1357 г.) и политика твердой руки в отношении русских князей позволили великому князю упрочить завоевания правления Калиты, прежде всего главное – «тишину великую» в Русской земле. Татарские «кровопускания» Руси уходили в прошлое... Северо-восточная Русь, наслаждаясь мирным временем, постепенно восстанавливала свои силы, крепла.
Иное положение складывалось в то время на северо-западе, где новгородцы отбивали нападения шведов на Неве и Ладоге, а псковичи противостояли Ливонскому Ордену. Новгород после нелегкой войны ( гг.) с немалыми потерями, изведав ряд поражений, в конце концов, отстоял свои пределы. При этом новгородцы так и не дождались никакой помощи от Симеона, не исполнявшего по отношению к Новгороду своего долга великого князя всея Руси, помимо этого псковичи, давно уже тяготившиеся зависимостью от «старшего брата», с 1348 г. стали совершенно независимы от Новгорода. Псков чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы стать самостоятельной республикой. Ещё в прошлом веке при князе Довмонте ( гг.), выехавшем в Псков из Литвы, псковичи нанесли ряд тяжелых поражений ливонским рыцарям и отстояли свои рубежи. Пограничные столкновения продолжались, но угроза независимости Пскова миновала.
В то же время утрачивали независимость русские княжества на западе и юге Руси. В 1340 г. скончался отравленный боярами последний князь Галицко-Волынского княжества Болеслав-Юрий II. После его смерти в княжестве наступила смута, затеянная местным боярством, которой не замедлили воспользоваться сильные соседи – Венгрия, Польша, Литва. Польский король Казимир III вторгся в Галицкую Русь и захватил город Львов, основанный некогда Даниилом Галицким и названный им в честь своего сына Льва. Галицкие бояре немедленно объединились и в союзе с татарами изгнали поляков, но долгой борьбы с тремя хищными соседями Галицко-Волынская земля не выдержала. В 1347 г. поляки все же сумели овладеть Карпатской Русью, но окончательно утвердились в ней лишь к 1369 г. В 1349 г. земли Волыни вошли в состав Великого княжества Литовского, Закарпатская Русь осталась за Венгрией. Галицкое Понизье – земли между Днестром и Карпатами до Нижнего Дуная и Черного моря к концу XIV в. вошли в состав образовавшегося в 1369 г. в Восточном Прикарпатье Молдавского княжества.
Западные русские земли в XIV стали переходить под власть Литовского княжества, заметно усиливавшегося со времени правления князя Гедимина ( гг.). В 1318 г. Гедимин, женив своего сына Ольгерда на дочери Витебского князя, приобрел Витебскую землю. К концу своего правления Гедимин подчинил Литве Минское княжество. В правление великого князя Литвы Ольгерда () литовцы начали наступление на земли Южной Руси. Овладев сначала Чернигово-Северской землей, в 1362 г. Ольгерд совершил поход на Киев и занял его. Установление власти Литвы над Южной Русью не могло не обеспокоить Золотую Орду, но в том же 1362 г. в битве на Синих Водах (совр. река Синюха, приток Южного Буга) Ольгерд наголову разгромил татарское войско. Это было первое большое военное поражение Орды в Восточной Европе и исторические последствия его оказались колоссальными. Южная Русь прочно вошла в состав Литовского княжества, Золотая Орда была вынуждена постепенно оставить свои владения к западу от Днепра, включая бывшее Галицкое Понизье. В начале XV в. литовцы, продвигаясь на юг, расширили пределы своего государства до самого Черного моря, овладев всеми землями между Днестром и Днепром.
В чем секрет столь удивительного на первый взгляд стремительного превращения маленького Литовского княжества в великую державу, простирающуюся от Балтики до Причерноморья? Это тем более важно, что произошло таковое превращение именно за счет присоединения к Литве западных и южных русских земель. В большинстве случаев русские княжества присоединялись к Литве на добровольных началах путём заключения «ряда» - договора. В этом была взаимная выгода: Литва расширяла свои владения, усиливалась, русские земли избавлялись от ордынского подданства. Орда, правда, не желала этого признавать и продолжала считать русские земли, отошедшие к Литве и Польше своими данниками, и за право владения ими требовала теперь дань с литовских князей и польских королей. Учитывая сохраняющуюся мощь Орды, короли Польши и князья Литвы соглашались на выплату этой дани. Для русских земель она всё-таки была меньше предшествующей и, что немаловажно, данническая зависимость всё же не подданническая, власть Польши и Литвы всё же предпочтительнее золотоордынской. При этом, однако, происходило государственное обособление западных и южных русских земель от Владимирской и Новгородской Руси. Государственное обособление предопределило и национальное – грядущий распад единого ранее русского народа на три: великороссов, малороссов (украинцы) и белорусов. Национальные последствия ордынского ига оказались для русского народа неизбывными. Впрочем, в середине XIV в. это не осознавалось на Руси.
Последние годы правления Симеона Гордого в Москве совпали с трагедией всеевропейского масштаба. В 1346 г. на восток Европы пришла эпидемия чумы, в течение нескольких лет распространившаяся вплоть до Британии. «Черная смерть» - так назвали ее в странах Западной Европы, где она унесла до половины всего населения. С весны 1352 г. чума стала распространяться на Руси. Жертвой ее стал и великий князь Симеон Иванович, прозванный Гордым. Чума унесла двух его сыновей, брата великого князя Андрея Ивановича, митрополита Феогноста. Князь Симеон успел оставить завещание, в коем наказывал своему преемнику сохранять установленный им порядок в делах государственных, особо подчеркивая, что завещан он был отцом его Иваном Калитой. Завещал великий князь всё брату своему Ивану Ивановичу, поскольку умирал бездетным. Его и просил он во всем слушаться совета старых бояр и, особенно, владыки Алексия, коему суждено было стать во главе Русской церкви. В её истории при Симеоне произошло знаменательнейшее событие: был основан Сергием Радонежским Троицкий монастырь близ Москвы.
Иван II Красный. 1353 – 1359 гг.
Младший сын Ивана , за свою внешнюю красоту прозванный Красным, оказался на великокняжеском престоле ввиду того, что Симеон Гордый умер бездетным. Все современники и историки последующих времен отмечали кротость, добросердечность нового великого князя, но и его малоспособность к делам государственным.
 Князь Иоанн II Красный
Князь Иоанн II Красный
вообще характеризовал Ивана Ивановича как личность и по уму, и по характеру совершенно ничтожную. Но ничтожность личных качеств последнего сына Калиты вполне искупалась даровитостью его окружения, которое составляли многоопытные бояре московские, служившие Симеону и помнившие ещё хитроумнейшего Ивана Даниловича. Они продолжили политику по объединению русских земель: в состав московского княжества вошли Дмитровские, Стародубские, Костромские и Калужские земли.
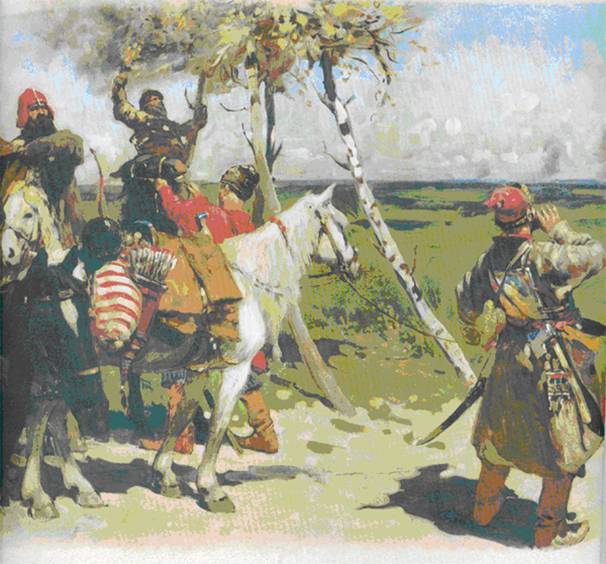
. На сторожевой границе Московского государства
Благоволил к роду Калиты и хан Джанибек, без каких-либо колебаний давший Ивану Ивановичу ярлык на великое княжение.
Особую роль в окружении Ивана Красного играл новый митрополит Алексий, человек, обладавший подлинно выдающимися качествами пастыря церковного и государственного мужа. Алексию пришлось выдержать нелегкую борьбу за митрополичий стол, когда константинопольский патриарх Филофей, очевидно недовольный тем, что Алексий стал митрополитом на Руси по воле великого князя, поставил рядом с ним ещё одного митрополита всея Руси грека Романа. Алексий, не смирившись с таковым двоевластием в Русской церкви, вторично отправился в Константинополь и добился, что патриарх объявил его митрополитом Киевским и Владимирским, а Романа митрополитом Литовским и Волынским. Тем самым патриарх как бы узаконил свершившееся государственное обособление западных и русских земель, вошедших при Гедимине в состав Литвы.
Алексий сумел завоевать особое расположение правителя Золотой Орды Джанибека. Жена великого хана была тяжело больна и теряла зрение. Джанибек, узнав о великих достоинствах русского митрополита, чьи молитвы излечивали тяжкие недуги, прислал в Москву грамоту с требованием его приезда в Орду для испрошения здравия болящей ханше. Приезд Алексия оказался счастливым для больной - Тайдула, жена Джанибека, стала выздоравливать. С этого времени митрополит пользовался в Орде большим почетом, что сыграло немалую роль в отведении от Русской земли угрозы татарского нашествия, когда в 1357 г. хан Джанибек был убит своим сыном Бердибеком.
Новый ордынский владыка направил русским князьям своего посла с требованием большей дани, грозя беспощадным нашествием. Алексий немедленно отправился в Орду, где предстал перед Бердибеком и, пользуясь расположением матери хана Тайдулы, чудесно им исцеленной, сумел отвести от Руси татарскую грозу.
В самих русских землях в годы правления Ивана Ивановича Красного положение по сравнению с временами Ивана Калиты и Симеона Гордого изменилось не к лучшему. Новый князь отнюдь не держал князей «в руке своей», подобно старшему брату, и междоусобия в его правление стали делом обычным. Новгород чувствовал себя совершенно свободным от власти великого князя, происходили в нем и мятежи, страдали от усобиц Тверь, Муром, рязанский князь Олег дерзко нападал на московские владения…
В самой Москве меж боярами не было единства. Видного воеводу Алексея Петровича Хвоста, бывшего московским тысяцким, подозревали в заговоре. Однажды утром он был найден убитым на городской площади… Молва винила в убийстве ближних бояр князя, но убийцы так и не были найдены, а подозреваемые вскоре прощены.
Такова была общая картина состояния Руси в правление Ивана II Красного в Москве.
Дмитрий Константинович Суздальский гг.
Иван Красный скончался после шести лет правления тридцати трех лет отроду, приняв перед смертью иноческий чин, что становилось традицией в Московском княжеском роду. Преемником его на московский престол стал сын Дмитрий Иванович, которому было лишь девять лет. Когда русские князья явились в Орду к новому хану Наврузу, то к всеобщей неожиданности ярлык на великое княжение был вручен суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Новый великий князь, возвратившись на Русь, попытался покончить с преобладанием Москвы. Он торжественно въехал во Владимир как в столичный град всея Руси, восстановив его прежние значения. Для упрочения этого и для низвержения завоеванного Калитой и его потомками положения Москвы князь Дмитрий пригласил митрополита Алексия также избрать своей резиденцией Владимир. Алексий, благословивший суздальского князя на великое княжение, от переезда во Владимир отказался, оставшись в Москве, выразив тем самым явное сомнение в прочности положения нового великого князя всея Руси и не признав за Владимиром, таковых действительных прав. Это всё предсказывало Дмитрию Константиновичу недолгое правление. И действительно, когда в Орде произошла очередная смена хана - с 1357 г. поле убийства Джанибека Золотая Орда вступила в долгий период дворцовых переворотов и смут – московские бояре, поддержанные митрополитом Алексием вернули навсегда великий стол в Москву.
Дмитрий Донской гг.
Новый великий князь всея Руси имел лишь 12 лет отроду – родился Дмитрий Иванович 12 октября 1350 года – и успехом своим целиком был обязан московским боярам, сумевшим купить богатыми дарами расположение ордынцев. Особую значимость имела поддержка митрополита Алексия, справедливо названного историками «русский Ришелье». Именно его стараниями в первую очередь Москва сохранила за собой великое княжение. Без твердой приверженности главы Русской церкви Москва кто знает, сохранила бы она за собой великий стан несмотря на все ухищрения и богатства князей и бояр московских. Всегда найдутся и более хитроумные, и более богатые… Русская православная церковь была единственной общерусской силой и местопребывание ее главы неизбежно обретало статус главного града Русской земли.
Дмитрий Донской 
Для получения ярлыка на великое княжение юный Дмитрий съездил в Орду и затем торжественно был посажен на «Великий стол» во Владимире, где он, однако, не задержался, а отбыл в Москвы – истинный столичный город северо-восточной Руси. Дмитрий Иванович, в чьем воспитании немаловажную роль сыграл митрополит Алексий – подлинно духовный отец князя – всё более и более вникал в дела государственные и осваивал нелегкое, но необходимое ратное дело. Любимым другом, впоследствии соратником, Дмитрия стал его двоюродный брат серпуховской удельный князь Владимир Андреевич. Ратное дело постигали они вместе. Молодые князья своевременно позаботились о дисциплине великокняжеской столицы. Москва стала превращаться из деревянной в белокаменную. На смену старому Кремлю, срубленному из дубовых бревен, пришел Кремль из белого камня. Камень этот добывали в каменоломнях в нескольких десятках верст от города в селе Мячкове на берегу Москвы-реки и на повозках доставляли к месту строительства. Новые каменные стены стали надежной защитой Москвы. В то же время начинается сооружение близ города укрепленных монастырей, таких как Спасо-Андронниковский, создававших вокруг столицы оборонительный пояс. Вдохновителем этого великого дела был митрополит Алексий.

. Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Конец XIV века.
Крепостное строительство было для Москвы жесткой необходимостью ибо, хотя не было пока татарских нашествий, но свое великокняжеское положение ей приходилось отстаивать в нелегкой борьбе. Отношения с прочими русскими князьями у Дмитрия Ивановича складывались непросто. Если с Суздальско-Нижегородским княжеством Москва сумела установить мирные отношения, что было закреплен браком Дмитрия с суздальской княжной Евдокией, заключенном в 1366 г. в Коломне, то с тверским князем Михаилом Александровичем – сыном Александра Михайловича, погубленного в Орде лживым доносом Ивана Калиты – вражда была упорной и временами для Москвы опасной. Печально, но вражду Москвы и Твери усугубил митрополит Алексий. Выступив в роли примирителя, митрополит пригласил Михаила Александровича в Москву, уверив его в полной безопасности. Не смея усомниться в пастырском слове, Михаил приехал, но намеренно был схвачен и заточен. Из темницы тверского князя и сопровождавших его бояр вызволили лишь прибывшие в Москву ордынские послы. Вернувшись в Тверь, Михаил стал искать способ отомстить Москве и скоро таковой нашел. Сестра его Ульяна была замужем за великим князем литовским грозном и славном Ольгердом, подчинившем Литве Южную Русь и бывшим первым победителем Орды в битве у Синих Вод в 1362 г. Ольгерд оказался не прочь помочь шурину, имея в виду и собственную выгоду: расширение владений Литвы за счет русских земель. Литовский князь был искуснейшим военоначальником. Современники говорили о нем: «Никто не знал, куда он замыслил идти войною и для чего собирает большое войско. Даже его собственные войны не знали, куда он шел, ни свои, ни чужие; делал все тайно и мудро, чтобы не подошла какая-либо весть до той земли, на которую он хочет идти войною; и такою хитростью он победил многие земли и пленил многие города и страны». И на сей раз поход Ольгерда стал неожиданностью для его противников. Дмитрий Иванович не сумел собрать все свои войска, а высланная навстречу литовцам московская рать была ими разгромлена 21 декабря 1368 г. на реке Тростне. После этой победы войско Ольгерда, беспощадно разоряя на своем пути русские селения и истребляя их жителей, подошло к Москве. Вот тут-то и показали себя новые белокаменные стены Москвы. Каменный город Ольгерд не решился брать приступом, а для долгой осады сил у него не было. Через три дня после своего появления у стен Москвы Ольгерд отступил.
Два года спустя 6 декабря 1370 года литовцы вновь появились под стенами Москвы. На сей раз, Ольгерд осаждал город 8 дней и вновь отчаялся в успехе. Не имея надежды взять Москву приступом, литовский князь еще и опасался возможного удара русской рати, собранной князем Владимиром Андреевичем Серпуховским, к тому же до него дошли известия, что во время его похода на Русь на собственные литовские земли напали немецкие рыцари. Потому – то, заключив перемирие с Дмитрием Ивановичем, Ольгерд прекратил осаду Москвы и перестал действенно поддерживать своего шурина. Так новые белокаменные стены московского Кремля помогли оборонить столицу от сильного неприятеля, уход которого знаменовал по сути окончательное торжество Москвы над Тверью.
Тверской, отчаявшись с помощью литовцев вернуть своему княжеству первенствующее положение на Руси, решился прибегнуть к помощи Орды. Татары не отказали ему в поддержке – вражда русских князей между собою всегда была выгодна Орде – и даже великодушно предоставили князю Михаилу своё войско для обретения «великого стола». Но то ли Михаил Александрович не был похож на Ивана Калиту, с помощью татар обретшего великокняжеский престол (литовцы, впрочем его не смущали), то ли время было не то – отвыкшие за сорок лет от ордынских нашествий русские люди едва ли добро бы встретили великого князя, обретшего свой титул с помощью татарских сабель – но принять ордынскую рать себе в союз тверской князь не решился.
Ярлык на великое княжение, однако, Михаил Александрович себе добыл и выехал на Русь в сопровождении ордынского посла, везшего русским подданным хана его «царскую» волю. В прежние времена такое появление князя означало бы непременное занятие им великокняжеского престола с чем неизбежно смирились бы и самые рьяные его противники, но ныне пришли другие времена. Значение ханского слова на Руси было сильно поколеблено, прежде всего событиями, в самой Орде происходившими. С 1357 года после смерти хана Джанибека, правившего 15 лет, в Золотой Орде начались дворцовые перевороты, междоусобицы, в результате которых самый ханский престол ежегодно переходил из рук в руки, порой и не единожды. За 15 лет ( гг.) в Орде сменилось 15 ханов. Самые удачливые правили по два года (Бердибек ; Тулунбек ), большинство же не пробыло на заветном троне и года. Не раз русское посольство, выезжавшее в Орду для поздравления и вручения даров одному хану, по прибытию в ханскую ставку вынуждено было чествовать совсем иного «царя»… Юный Дмитрий во время обретения своего великого княжения, непосредственно столкнулся с изумлявшей русских людей «ханской чехардой». Хан Кидыр, пожаловавший великокняжеский ярлык Дмитрию, был убит собственным сыном, продержавшимся на престоле 4 дня. Затем в Орде появилось сразу несколько ханов и московскому князю пришлось ждать немало времени, пока, наконец, не появился относительно постоянный хан, имевший реальную власть для подтверждения законности уже выданного Дмитрию Ивановичу ярлыка на великое княжение.
Всё это не могло не поколебать в русских людях «почтения» к Золотой Орде и ее слишком уж часто меняющимся властителям. Следствием этого явления стали неудачи Михаила Александровича Тверского в его попытках обрести великокняжеский престол с помощью ханских ярлыков. В 1371 году Михаил явился на Русь в сопровождении ханского посла и с ханским ярлыком, но не был допущен во Владимир его жителями, признававшими великим князем только Дмитрия Ивановича. Сам Дмитрий объявил ханскому послу, что не признает Михаила великим князем. Но к самому послу московский князь проявил исключительное уважение, выразив таковое богатыми дарами, совершенно купившими ему полное расположение царского посланца. Посол Сары-Ходжа, восхищенный щедротою Дмитрия Ивановича, охотно забыл, зачем он вообще-то прибыл на Русь и, вернувшись в ханскую ставку, ходатайствовал перед правителем Орды Темником Мамаем (хан целиком был посушен воли Мамая) за подтверждение прав московского князя на великое княжение. Ходатайство Сары-ходжи было подкреплено дарами от Москвы самому Мамаю. Правитель Орды столь расположился к Дмитрию Ивановичу, что даже снизил дань с Русской земли сравнительно со временами ханов Узбека и Джанибека, тверскому же князю от Мамая было передано, чтобы он более помощи себе в Орде не искал. Михаил, однако, не прекратил борьбы за «великий стол», а четыре года спустя сумел себе вновь выхлопотать очередной ярлык.
Дабы ярлык этот обратился в действительную власть, Михаил нуждался в прямой поддержке Орды, каковой Мамай ему все же не сказал… Напрасными оказались и надежды тверского князя на Литву. Дмитрий же получил поддержку большинства русских земель. В помощь Москве выступили суздальцы, нижегородцы, ростовцы, ярославцы, смоляне, новгородцы. Московский князь, таким образом, выступал ныне от лица почти всей Руси. Если дед Дмитрия превзошел отца Михаила в «татарофильстве», то теперь князья московский и тверской поменялись ролями. Михаил Александрович изыскивает «великий стол» с помощью татар и гитов навести их на Русь, и Дмитрий Иванович – избавитель от ордынских набегов и защитник русских рубежей от литовцев, наведенных на Русь тверичами. В глазах русских людей Михаил был татарским слугой и потому остался одинок в своем противостоянии с Дмитрием.
Тверь потерпела полное поражение, и Михаил был вынужден окончательно смириться перед Москвой. Но это не означало, что для Москвы наступают спокойные годы. Ольгерд, запоздало вступившийся за Михаила, опустошил Смоленскую землю, особенно же вознегодовал Мамай. Если в 1371 году Дмитрий отнял у Михаила ярлык умелым угождением ордынцам, то в 1375 году он бросил Орде открытый вызов, поставив ни во что ханский ярлык и подняв на верного Мамая тверского князя почти всю Русскую землю. Впервые с 1252 года со времени князя Андрея Ярославича великий князь Руси выступил против Орды. Мамай не мог не понять - что стоит за своеволием Дмитрия Ивановича. Русь явно поднималась на татар. Правитель Орды решил прибегнуть к испытанному средству усмирения непокорных – воинским походом ордынцев на русские княжества. В 1377 году царевич Араб-шах разорил нижегородские и суздальские земли, разгромив соединенную суздальскую и московскую рать на реке Пьяне. В следующем году мурза Бегич вел татарское войско уже на Москву. Дмитрий, однако, не стал дождаться ордынцев, а сам выступил им навстречу и в пределах Рязанского княжества на берегах реки Вожи нанес сокрушительное поражение ордынской рати. Это была первая большая победа русских над ордынцами в полевом сражении! Наступал поворот в русско-ордынских отношениях. Русь при Дмитрии Ивановиче это далеко не Русь при Иване Калите. Десятилетия мирной, в основном, жизни помогли народу изжить страх перед ордынцами; в те же годы началось нравственное возрождение Руси. Во главе его стал человек, имя которого навеки запечатлено в Русской истории как символ духовного возрождения русского народа. Это преподобный Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевой лавры. Если митрополит Алексий – «русский Ришелье» - «шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в орду ублажать ханов, отмаливал их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, не удерживая его первенство», то преподобный Сергий посвятил свою жизнь «нравственному воспитанию народа», коему, «чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство… должно было встать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, принимаемые вековым порабощением и унынием» - так писал Василий Осипович Ключевский в своем очерке «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства».
Обитель, основанная преподобным Сергием, ее дружное братство оказывали глубокое назидательное впечатление на мирян. Да, сказано у Ключевского «Таких людей была капля в мире православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно вещества, вызывающего в нем живительное брожение. Нравственное влияние действует не механически, а органически. На это указал сам Христос, сказав: «Царство Божие подобно закваске». Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV в. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что первых основ христианского общежития, но еще не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них.
Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне; целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими». Именно эти «капли нравственного влияния» и подготовили то великое событие, которое «состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их над своими многотысячными костями».
Полтора века почти видели русские люди в ордынском иге кару Божию за грехи отцов своих и собственные, а в хане потому законного «царя» земли Русской, благодаря же нравственному подвигу преподобного Сергия Радонежского, благословившего Русь , в Орде увидели теперь чужеземного врага, сильного, опасного, но лишь врага, война с которым дело святое и благородное.
Значение битвы на Вожже было понято обеими сторонами. По повелению Дмитрия Ивановича в великокняжеском городе Коломне в память о победе над Ордой был заложен Успенский собор, ибо само вожское сражение произошло в православный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Потому торжество московского князя на Бегичем было воспринято русскими людьми как покровительство Богородицы Русской земле. Всё способствовало решительному перелому в народном сознании…
Мамай, потрясенный разгромом ордынского войска и гибелью одного из лучших военоначальников, не решился немедленно мстить Москве и отважился лишь на очередное разорение Рязанской земли, наказуя за одно ее князя Олега за сочувствие Дмитрию – битва на Воже произошла на Рязанщине и Олег, похоже, известил Дмитрия о подходе татарской рати. После набега Мамая рязанский князь вынужден был стать, правда, скорее, на словах, союзником Орды. Мамай осознавал, что после случившегося разгрома Бегича вернуть Русь в прежнее состояние может только нашествие, подобное Батыеву и незамедлительно начал таковое готовить.
Поход Золотая Орда готовила со всем тщанием. Силы Мамая были, безусловно, ослаблены междоусобными войнами, в результате которых ранее единое ордынское государство раскололось на два: Белую (западную) Орду во главе с Мамаем и Синюю (восточную) Орду, где ханом был провозглашен Тохтамыш; рубежом между ордами была Волга. Это обстоятельство заставило Мамая искать внешних союзников. В первую очередь он обратился к Литве, где после Ольгерда правил новый князь Ягайло, и сумел склонить его к союзу. Литовский князь мог рассчитывать в случае успеха на расширение своих владений к востоку. Обязался помочь Орде и Литве рязанский князь Олег. Вошли в союз с Мамаем генуэзские колонии в Крыму. Все военные силы, какие только можно было собрать на всем пространстве от Волги до Днепра, от Прикамья до Кавказа и Крыма были под рукой Мамая. Руси правитель Орды грозился повторить «Батыеву рать», но до Бату-хана Мамаю, похоже, было далековато и Русь была иной.
Против Мамая вышло не войско князя московского Дмитрия Ивановича, но Русская земля во главе с великим князем всея Руси. На бой с ордынцами двинулись рати земель Московской, Владимирской, Ростовской, Муромской, Суздальской, Нижегородской, Белозерской, пришли и псковичи, и новгородцы. Хотя великий князь Литвы Ягайло был союзником Мамая, но не зря 9/10 подданных литовского князя были русские. Два брата Ягайло – князь Полоцкий Андрей Ольгердович и князь со своими войсками пришли в Москву на помощь Дмитрию Ивановичу, на помощь русской земле. , отправляясь в поход сказал своему брату: «Брат Андрей, не пощадим жизни за землю за Русскую, и за веру христианскую, и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича!».
Русская рать готовилась к великой битве не просто с ордынским нашествием, но к решительной схватке с вековым врагом, к отмщению за все беды, причиненные Руси со времен Калки. Вспомнили, наконец, на Руси о былом единстве, о едином корне. «И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: «Братья и князья русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского!».
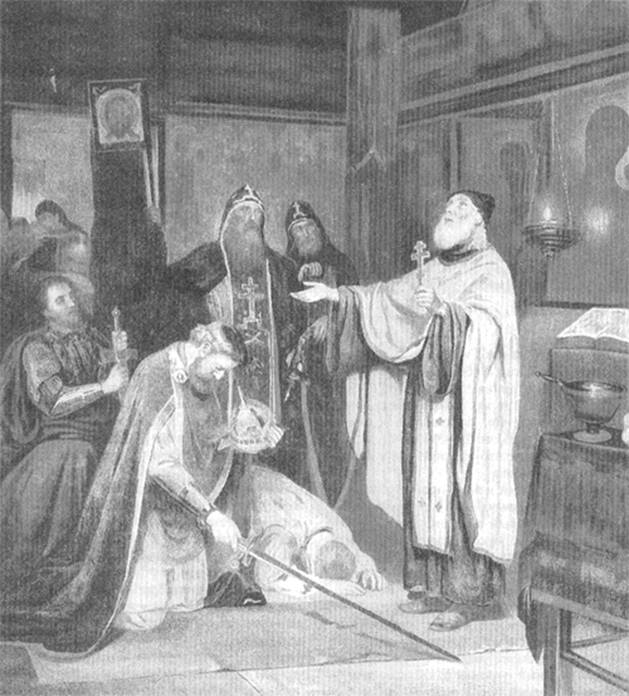
. Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на битву с Мамаем.
В начале похода Дмитрий обратился за благословением к преподобному Сергию Радонежского. Сергий дал благословение и предрек русскому войску победу, что не мало воодушевило ратников. Сбор всех войск был назначен в Коломне. 20 августа на Девичьем поле близ Коломны на берегу провел смотр войска, после чего начался поход. Когда русское воинство было уже в пути Дмитрия настиг гонец с грамотой от Сергия Радонежского. В ней были слова благословения: «Иди, господин, иди вперед, Бог и святая Троица поможет тебе!».
Перед Дмитрием стояла нелегкая задача с самого начала похода: надо было ни в коем случае не допустить соединения вражеских ратей, ибо стало известно в Москве, что Ягайло выступил навстречу Мамаю, не исключалось и выступление в помощь ордынцам Олега Рязанского. Решено было великим князем идти на юг в степь прямо навстречу орде Мамая. 6 сентября русское войско достигло Дона, 8 сентября переправилось через него и подошло к месту впадения в Дон реки Непрядвы. Это и было Куликово поле, где суждено было решаться судьбе России.
В конце битвы поздней ночью великий князь и воевода Дмитрий Боброк, призванный Волынцом, выехали в поле и остановились между русскими и ордынскими войсками. Сначала они прислушались к татарскому стану, оттуда доносились шумные крики, а в степи выли волки. «Что ты слышал, князь?» - спросил воевода. «Великую грозу и страх я слышал», - ответил Дмитрий Иванович. «Так обернемся теперь к русскому стану», - сказал Боброк. В русском войске было тихо, только светилось, сливаясь с отсветом зари, пламя множества костров
Воевода, соскочив с коня, приник ухом к земле и долго так лежал. «Что ты слышал?» - спросил его князь. Волынец, заплакав, ответил: «Скажу тебе только одному, господине княже, но только ты никому об этом не говори. Слышал я две приметы, - первая нам на великую радость, а вторая на великую печаль. Припав к земле, я слышал горький плач. На татарской стороне точно кто-то рыдал и стонал, а на русской плакала тихо девица от великой печали и скорби. Значит, одержишь ты победу над татарами, но многое множество наших воинов погибает от острого меча. Только не надо об этом никому говорить в полках чтобы не расстреливать людей».
Утром 8 сентября 1380 года на Куликовом поле великий князь Московский и всея расставлял полки, изготавливая русское войско к бою. Пользуясь утренним туманов, скрывавшим от ордынцев русских воинов, Дмитрий укрыл в дубраве западный полк, состоявший из отборных воинов, во главе с двумя воеводами: князем Владимиром Андреевичем Серпуховским и Дмитрием Боброком Волынцом. На засадный полк возлагалась важнейшая задача: неожиданным ударом в труднейший час сражения он должен был решить судьбу великой битвы Руси с Ордой. Дмитрий Иванович умело подобрал войско. Если князь Владимир Андреевич славился своей безудержной отвагой, решительностью, то Дмитрий Боброк отличался выдержкой, был многоиспытанным, расчетливым полководцем. Так некогда Чингисхан соединил воинские таланты Джебя и Субедея.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |




