Глава 6
Алкогольное поражение печени
Поражение печени алкогольного генеза по распространенности и социальному значению занимает второе место после острых и хронических заболеваний печени вирусной этиологии. Многие исследователи отмечают, что за последние десятилетия в большинстве промышленно развитых стран алкогольный фактор неуклонно растет и по частоте хронических поражений печени нередко опережает фактор инфекционный [ И др., 1978; и др., 1985]. При биопсии печени в общетерапевтической клинике алкогольные гепатопатии занимают первое место: пункция печени у каждого 4-го больного обнаруживает алкогольное поражение различных стадий [Roschlau G., 1983].
В отличие от заболеваний печени инфекционной этиологии, клиническая форма и течение которых определяются в основном степенью иммунологической толерантности организма хозяина к возбудителю, алкогольная гепатопатия, будучи токсическим поражением печени, характеризуется у большинства больных строгой закономерностью, градацией патологических изменений в зависимости от дозы алкоголя и продолжительности его употребления. Второй характерной чертой алкогольной болезни печени является ее обратимость на начальных и нередко на развернутых (но не терминальных!) стадиях при условии полного воздержания больного от употребления алкогольных на. питков. Третьей чертой, связанной с предыдущей, является полная неэффективность любого метода лечения, если оно проводится на фоне употребления больным алкоголя.
Более чувствителен к патогенному действию этанола организм женщин. Нижний порог ежедневной токсической дозы, при употреблении которой на протяжении более 15 лет резко повышен риск развития алкогольного цирроза печени, для женщин составляет 20 г чистого этилового спирта, для мужчин—60 г [Lieber С. S. 1979].
При постоянном употреблении токсических доз этилового. алкоголя последовательно или одновременно развиваются 5 фаз алкогольного поражения печени: начальная адаптивная алкогольная гипертрофия печени, алкогольная жировая дистрофия печени с фиброзом и без него, алкогольный фиброз печени, хро. нический алкогольный гепатит и алкогольный цирроз печени. На любой стадии после особенно тяжелых запоев могут возникать эпизоды острого алкогольного гепатита. Это распространенные, преимущественно центр альнодольковые некрозы печени, .сопровождающиеся воспалительной реакцией, резко ускоряющие прогрессирование заболевания в цирроз печени.
Начальная адаптивная алкогольная гепатомегалия является не только следствием жировой инфильтрации, но обусловлена главным образом влиянием этанола на белковый метаболизм в печени. Гипертрофия гепатоцитов вызывает сдавление печеночных синусоидов, способствующее развитию портальной гипер тензии.
Начальные стадии алкогольной гепатопатии нередко протекают клинически латентно или с болевым синдромом в области правого подреберья, с незначительной гепатомегалией. В пунк татах печени на этой стадии можно видеть признаки неспецифического реактивного гепатита или ХПГ или умеренной жировой дистрофии и мелкие округлые эозинофильные включения в ге патоцитах—мегамитохондрии [iRubin E., Lieber Ch., 1967, 1968].
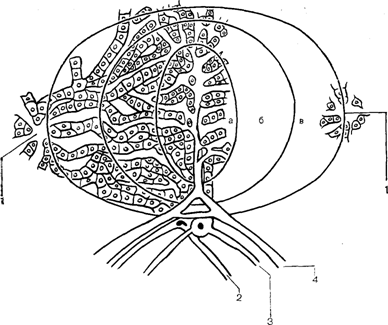
Рис. 6. Печеночный ацинус (схема) [по Ponz de Leon M. et al., 1983].
а, б, в—зоны ацикуса; 1—центральная вена: 2 — желчный проток; 3—ветвь печеночной артерии; 4 — ветвь воротной вены.
Индуцируемая алкоголем гипертрофия гладкого эндоплазмати ческого ретикулума гепатоцита может приводить к увеличению печени в 1,5 раза. Она проявляется при световой микроскопии увеличением и округлением печеночных клеток и матово-стекловидной трансформацией их цитоплазмы, напоминающей цитоплазму клеток, продуцирующих HBsAg, но не дающей специфической для HBsAg окраски орсеином.
Патогенез острых алкогольных некрозов печени, по-видимому, связан с прямым токсическим действием алкоголя на орга неллы гепатоцита, поражением митохондрий и эндоплазматиче ского ретикулума и с сопутствующей гипоксией резко увеличенных в объеме клеток печени. Преимущественно центральная локализация этих некрозов становится понятной, если отвлечься от традиционного рассмотрения гексагонально-долечной структуры печени с центральной локализацией ветви печеночной вены, вокруг которой разыгрываются прогностически наиболее неблагоприятные патоморфологические процессы при алкогольном поражении, и принять во внимание наличие микроциркуля торной структурной единицы печени — печеночного ацинуса [Rappaport A., I960]. Центральную ось ацинуса (рис. 6) составляют терминальные ветви воротной вены и печеночной артерии,
в гексагональной системе отходящие от портальных трактов, т. е. от периферии дольки. Они снабжают область, имеющую в разрезе вид ромба, диагональ которого образуют питающие сосуды, а наиболее далеко расположенные от них вершины углов — центральные вены двух прилежащих печеночных долек. Зона 1 ацинуса, расположенная вблизи отхождения мельчайших ветвей от питающих сосудов, соответствует периферии классической дольки; зона 2, относящаяся к промежуточной части дольки, снабжается кровью с меньшей концентрацией, а зона 3, соответствующая центральной области дольки, — с наименьшей концентрацией кислорода и питательных соединений. Вместе с тем токсические соединения, не связанные с альбумином, в нарастающей степени экстрагируются печеночными клетками по направлению от 1-й к 3-й зоне ацинуса. Поэтому при острой и хронической алкогольной интоксикации, как и при всех других токсических поражениях печени, наиболее ранимой к повреждающему действию гепатотоксина оказывается зона дольки, непосредственно прилежащая к печеночной вене, — центральная зона печеночной гексагональной дольки, или 3-я (периферическая) зона ацинуса Раппапорта. Именно в этой зоне развиваются начальные тяжелые дегенеративно-некротические изменения печеночных клеток, особенно характерный, но не специфичный для алкогольного поражения центральный гиа линовый некроз—очаговые ацидофильные дегенеративные поражения цитоплазмы гепатоцитов (алкогольный гиалин, тельца Маллори), представляющие скопления микрофиламентов преке ратина (конденсаты нормального цитоскелета клетки). В гепа тоцитах перипортальных зон они могут встречаться также при:
первичном билиарном циррозе, болезни Вильсона—Коновалова и ряде других заболеваний печени. Алкогольный гнали» Маллори является иммуногенным субстратом, неоантигеном,. способным вызывать клеточную реакцию замедленного типа,. сопровождающуюся иммунной деструкцией клеток печени, содержащих гиалин. Гибель печеночных клеток вокруг центральных вен сопровождается воспалительной, преимущественно нейт рофильной лейкоцитарной реакцией и образованием коллагено вых волокон активированными липоцитами (клетками Ито) и фибробластами. Они заполняют расширенные вследствие гипоксии перисинусоидальные пространства Диссе, распространяясь между клетками, выстилающими синусоиды, и гепатоцитами. Развивается перивенулярный фиброз часто с облитерацией центральных вен по типу веноокклюзионной болезни с развитием еще в доцирротической стадии портальной гипертензии синусоидального и постсинусоидального типа [Goodman Z.,. Ishak К., 1982].
В дальнейшем прогрессирование перицентрального и пери целлюлярного фиброза приводит к расчленению печеночных долек фиброзными септами и развитию микронодулярного цирроза печени.
Диагностика и лечение алкогольной жировой печени
Алкогольный стеатоз печени составляет не менее 30—50% всех случаев жировой печени и выявляется в изолированном виде у 50% всех больных алкоголизмом. Жировая дистрофия также нередко является сопутствующим изменением печени при алкогольном фиброзе, гепатите и алкогольном циррозе печени. Наличие жировой дистрофии имеет определенное дифференциально-диагностическое значение, поскольку при вирусных и аутоиммунных поражениях печени жировая инфильтрация встречается редко.
Диагноз жировой печени обоснован только в тех случаях, когда содержание жира в печени превышает 10% ее влажной массы, при этом более чем 50% печеночных клеток содержат жировые капли, размеры которых достигают величины ядра печеночной клетки или превышают его [Remger F. С., 1981]. Алкогольной жировой дистрофии часто сопутствует умеренный сидероз звездчатых эндотелиоцитов.
Клиническая картина алкогольной жировой печени включает ярко выраженные метаболические и системные стигматы хронического алкоголизма и скудные симптомы собственно жировой печени. Часто наблюдается упадок питания, обусловленный анорексией и преимущественно углеводной диетой с явлениями белкового и витаминного дефицита и недостаточности кишечного всасывания, боль в верхней половине живота, обусловленная сопутствующим гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью; нередко отмечается ожирение также с дефицитом важных питательных ингредиентов. Недостаточность фола тов вызывает обратимую анемию мегалобластного типа нередко с тромбоцито-лейкопенией. Макроцитоз (средний корпускулярный объем эритроцитов периферической крови более 100 мкм3) отмечается не менее чем у 25% больных. Возможны также снижение адаптации к темноте вследствие недостаточности витамина А и цинка, гипогонадизм с феминизацией, импотенцией и атрофией яичек, обусловленный прямым токсическим влиянием алкоголя на гонады и недостаточностью витаминов А и Е. У женщин, как правило, рождаются дети с задержкой физического и умственного развития. Спутниками алкоголизма являются также частые инфекционные заболевания, обусловленные снижением противоинфекционного иммунитета, остеопо роз вследствие чрезмерной индукции метаболизма витамина D в печени, острая или хроническая алкогольная миопатия с болью, судорогами и атрофией мышц конечностей и грудной клетки, гиперметаболический статус с высоким основным обменом и повышенным потреблением кислорода тканями, ожирением и снижением толерантности к углеводам, явления гиперэстрогенизма (женский тип оволосения, ладонная эритема, гинекомастия). К стигматам алкоголизма относятся также контрактура Дюпюитрена, гипертрофия околоушных слюнных желез, подагрическая артропатия и алкогольные полиневропатии с парестезиями и болью в области конечностей, судорожные припадки, алкогольная кардиомиопатия.
В связи с частым стремлением больных, особенно женщин, скрыть или значительно преуменьшить свое пристрастие к алкоголю важное диагностическое значение имеет выявление объективных признаков хронического алкоголизма. К ним, помимо запаха алкоголя изо рта, относятся одутловатое, часто гипере мированное лицо, полнокровие сосудов конъюнктивы, атрофия сосочков языка, рыхлые кровоточащие десны, розовые угри, следы перенесенных в прошлом травм и костных переломов, гипер гидроз в сочетании с тахикардией и тремором языка и пальцев рук, изменение поведения с эйфорией и фамильярностью или, напротив, с психической депрессией. Важно иметь в виду, что перечисленные стигматы отнюдь не обязательны: многие больные имеют вполне нормальный внешний облик.
К симптомам собственно алкогольной жировой печени относятся чувство тяжести и переполнения (дискомфорт) в правом подреберье, в подложечной или в околопупочной области, вздутие живота после еды, непереносимость жирной пищи, иногда длительная упорная боль в правом подреберье. После тяжелых запоев у некоторых больных возникают острые болевые приступы по типу печеночной колики с тошнотой, рвотой и лихорадкой, иногда с желтухой холестатического типа, лейкоцитозом и увеличенной, болезненной при пальпации печенью, что имитирует острый холецистит [Graham Т., 1981]. Редкой клинической формой жировой печени при тяжелом алкоголизме является синдром Циве: сочетание резко выраженного стеатоза печени с гиперлипемией (гипертриглицеридемией, гиперхолестеринемией и гиперфосфолипидемией) и гемолитической желтухой, которые исчезают в течение 10—40 дней абстиненции.
У 50% больных жалобы со стороны органов пищеварения отсутствуют. При объективном исследовании наиболее часто выявляют умеренную гепатомегалию: печень плотно-эластической или тестоватой консистенции, с гладкой поверхностью и округлым краем, нередко слегка болезненная; селезенка, как правило, не увеличена; лабораторные печеночные пробы у многих больных не изменены, за исключением снижения печеночного клиренса БСФ и вофавердина, но нередко наблюдаются умеренная гипераминотрансфераземия, небольшое повышение активности у-ГТП крови и у 30% больных гиперлипемия. Весьма характерно изменение соотношения фетальной и взрослой изоформ g-ГТП за счет резкого нарастания активности зародышевой формы ( и др., 1984]. Клинический диагноз алкогольной жировой печени основан на наличии гепатомегалии без значительного уплотнения или деформации печени, с нормальными или нерезко измененными биохимическими печеночными пробами у больного, злоупотребляющего алкоголем. Сходные симптомы возможны при многих других заболеваниях печени (ХПГ, ХАГ на стадии ремиссии, гранулематозный гепатит), поэтому решающее диагностическое значение имеет пункционная биопсия печени, которая при жировой дистрофии обеспечивает точный диагноз в 100% случаев.
Жировая печень является частым и всегда вторичным метаболическим нарушением, возникающим при многих интоксикациях, несбалансированном питании или эндогенных метаболических расстройствах.
Эффективное лечение возможно только при выяснении этиологического фактора. У больных жировой печенью, помимо хронического алкоголизма, необходимо исключить ожирение, латентный или явный сахарный диабет лиц среднего возраста (диабет 2 типа), гиперлипидемию, заболевания органов брюшной полости.
Жировая дистрофия печени является частой находкой при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, застойной сердечной недостаточности и эмфиземе легких и выявляется при промышленных интоксикациях, лекарственных поражениях печени, хронических инфекционных заболеваниях, при подагре, голодании с белковой недостаточностью (квашиоркор, синдром недостаточности всасывания, состояние после обширных резекций тонкой кишки), псориазе, поздней кожной порфирии, миксе деме, тиреотоксикозе, акромегалии, болезни Кушинга.
У молодых больных жировая печень может быть морфологическим проявлением болезни Вильсона — Коновалова, болезни накопления гликогена, врожденной интолерантности к фруктозе [Mowat А., 1982; Girgensohn H., 1983], галактоземии и тирозинемии.
Другими причинами жировой печени могут быть полное парентеральное питание, резецированный по Бильрот-II желудок, еюноилеальный анастомоз, резекция печени и феохромоцитома. Описана также идиопатическая гигантская жировая печень у женщин среднего возраста с сахарным диабетом, умеренно выраженной гиперлипемией и артериальной гипертонией. Данная форма медленно эволюционирует в цирроз печени [Thaler H 1982].
Большое разнообразие причин развития жировой печени диктует необходимость тщательного всестороннего обследования больного с данным видом патологии.
Алкогольная жировая печень полностью обратима при длительной абстиненции. Больные нуждаются в полноценном питании с достаточным содержанием в диете белка, жизненно важных ненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов.
Количество животного жира в диете должно быть ограничено. Целесообразно назначение витаминных препаратов (ко карбоксилаза, витамин Be или пиридоксальфосфат, фолиевая кислота, липоевая кислота, рутин, рибофлавин, аскорбиновая кислота, витамин Е), препарата эссенциале, содержащего наряду с витаминами липотропные эссенциальные фосфолипиды, или мембраностабилизрующих, тормозящих перекисное окисление липидов в мембранах печеночной клетки гепатопротективных средств (легалон по 2 таблетки по 0,07 г 3 раза в день в течение 2—3 мес). Применение сильнодействующих медикаментов, в частности анаболических стероидов, противопоказано в связи с возможностью гепатотоксического эффекта. Липотропные агенты (холин, метионин) неэффективны, так как у человека развитие жировой печени не связано с дефицитом этих соединений.
Работоспособность больных с неосложненной жировой печенью обычно сохранена, физическая активность не ограничивается. Вместе с тем резко выраженная жировая дистрофия значительно ограничивает функциональную способность печени и ее устойчивость к различным токсическим и стрессовым воздействиям (наркоз, оперативные вмешательства, инфекции, травмы).
Алкогольный гепатит и алкогольный фиброз печени
Алкогольная жировая печень, будучи самостоятельным метаболическим нарушением, не является патогенетической пред стадией более тяжелых алкогольных поражений печени с высоким риском перехода в цирроз печени—алкогольного гепатита и алкогольного фиброза печени. Эти заболевания у большинства больных протекают скрытно и медленно. Клинические наблюдения и экспериментальные данные указывают на частую возможность постепенного прогрессирования хронического алкогольного гепатита или алкогольного фиброза печени в цирроз без промежуточных эпизодов острого алкогольного гепатита [Popper H., Lieger Ch. 1980; Takada A., 1982]. Патогенез хронического алкогольного гепатита связывают с присоединением в ходе хронической алкогольной интоксикации иммуннопатологи ческих реакций сенсибилизации Т-клеток к алкогольному гиали ну, патогенез алкогольного фиброза—с активирующим фибро генез действием этанола.
При хроническом алкогольном гепатите и алкогольном фиброзе самочувствие больных может оставаться удовлетворительным. Боль в области правого подреберья и диспепсические нарушения наблюдаются чаще, чем у больных с жировой печенью. Более выражены лабораторные сдвиги: нарастает активность аминотрансфераз, 7ГТП и ГДГ в 3 раза и более, увеличивается содержание IgA крови. В пунктатах печени можно видеть картину ХАГ со смешанной (лимфоидно-клеточной и нейтрофиль ной) инфильтрацией перипортальных полей, часто в сочетании с жировой дистрофией, сидерозом и фиброзом портальных и центральных областей дольки. Наиболее характерной чертой, отличающей ХАГ алкогольной этиологии, является значительное улучшение клинико-лабораторных и гистологических показателей в периоде абстиненции. Другими отличительными признаками являются сравнительно низкий уровень активности аминотрансфераз и тимоловой пробы, отсутствие в крови серологических маркеров вирусной инфекции и органонеспецифиче ских аутоантител (возможны аутоантитела к алкогольному гиалину), высокая активность у-ГТП и преимущественное увеличение содержания IgA сыворотки крови. Некоторые исследователи предполагают, что в редких случаях хронический алкогольный гепатит прогрессирует в цирроз печени даже в условиях абстиненции вследствие присоединения аутоиммунной деструктивной клеточной реакции [Nei J., 1983].
При алкогольном фиброзе печени переход заболевания в цирроз печени происходит без развития клинических или гистологических признаков гепатита. Больных беспокоят общая слабость, длительные боли в верхней половине живота, диспепсические нарушения. Активность АсАТ, АлАТ и •у-ГТП повышена в меньшей степени, чем при алкогольном гепатите. В пунктатах печени выявляют центральный и нередко портальный фиброз, а также перицеллюлярный фиброз, часто в сочетании с жировой дистрофией, но без воспалительных и некротических сдвигов (рис. 7).
Мы наблюдали 2 больных, страдавших хроническим алкогольным поражением печени и злоупотреблявших алкоголем на протяжении всего периода наблюдения. Одному из них, больному К., 50 лет, биопсия печени на протяжении 9 лет наблюдения была проведена 4 раза. Больной жаловался на постоянную тупую боль в правом подреберье. Объективно определялась болезненная увеличенная печень, селезенка не пальпировалась. Биохимические пробы в течение первых 7 лет оставались без изменений, далее наблюдалась умеренная гипераминотрансфераземия, гиперфосфатаземия, повышенная активность V-ГТП. Диспротеинемии не было. Сопутствующими заболеваниями у больного явились гнойный гайморит и кровоточащий геморрой. В первом пунктате (в 1975 г.) печени был выявлен выраженный агрессивный (активный) гепатит с началом формирования цирроза печени на фоне крупнокапельной жировой дистрофии; во втором и третьем пунктатах (в 1977, 1978 гг.)—микроноду лярный активный цирроз печени также на фоне резко выраженной жировой дистрофии; при последней биопсии (в 1984 г.) — микронодулярный цирроз с выраженным постнекротическим компонентом, т. е. с трансформацией в мак ронодулярный цирроз. При этом в биохимическом анализе крови отмечались лишь умеренная гиперпротеинемия (93 г/л) и гиперфосфатаземия, активность аминотрансфераз—на верхней границе нормы, у-глобулины—16 г/л, общий билирубин— 14,8 мкмоль/л. При эндоскопическом исследовании в 1984 г. было впервые выявлено умеренно выраженное варикозное расширение вен пищевода и эрозивный гастрит антрального отдела желудка.
Второй больной — Е., 32 лет, — предъявлял жалобы на тупую боль в правом подреберье, усиливающуюся после физической нагрузки (больной работал грузчиком), слабость. Объективно определялась гепатомегалия. Плотная печень с гладкой поверхностью выступала из-под края реберной дуги на 6 см;
селезенка не пальпировалась. На сканограмме — гепатомегалия, селезенка накапливает радионуклид несколько больше нормы, но не увеличена. Все лабораторные показатели в пределах нормы, за исключением умеренно удлиненного периода полувыведения вофавердина (5 мин при норме до 3 мин). В пунктате печени — резко выраженный перипортальный и перигепатоцеллю лярный фиброз: от расширенных и склерозированных портальных трактов в
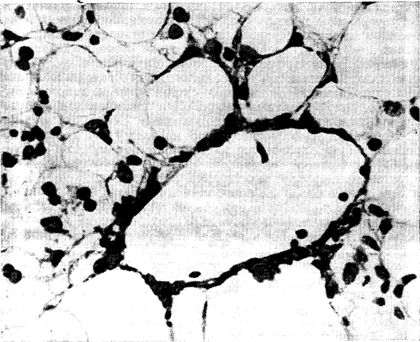
Рис. 7. Центрально-дольковыи алкогольный фиброз печени. Микрофото. 16Х7. Окраска по Ван-Гизону.
глубь долек отходят толстые пучки коллагеновых волокон. Воспалительная инфильтрация отсутствует. При повторной пункции печени, проведенной через 3 года, у больного был обнаружен сформированный микронодулярный цирроз печени.
Можно было бы привести много других примеров незаметного для больного и врача формирования алкогольного цирроза печени со скудными клиническими проявлениями и нерезко измененными на начальных стадиях цирроза функциональными печеночными пробами.
Острые эпизоды токсического некроза печени алкогольной этиологии, обозначаемые как острый алкогольный гепатит, скле розирующий гиалиновый некроз печени, острая печеночная недостаточность хронических алкоголиков, представляют непосредственную угрозу жизни больного. Они развиваются у /з лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, злоупотребляющих алкоголем не менее 5 лет (чаще 10 лет и более), и у 50—67% больных прогрессируют в алкогольный цирроз печени [Zimmer man H., 1978]. После развития острого алкогольного гепатита lambos J., 1975]. По аналогии с ОВГ возможны клинически легкие безжелтушные и тяжелые формы острого алкогольного гепатита, однако в отличие от ОВГ летальность при остром алкогольном гепатите более высока и достигает 30—48% [Strahl man Е., 1982; Teschke R. et al„ 1983], а период выздоровления на фоне абстиненции у большинства больных затягивается до 6—8 мес. На вскрытии 107 умерших, страдавших при жизни алкогольным циррозом печени, наличие острого алкогольного гепатита как непосредственной причины смерти было выявлено у 26% больных [Fritsch I. et al., 1983].
В типичных случаях после тяжелого запоя, чаще у молодых больных (25—35 лет), возникают резкая слабость, анорексия тошнота, рвота, диарея, длительная боль в правом подреберье или эпигастральной области, желтуха смешанного (гепатоцел люлярного и холестатического) типа, обычно без зуда кожи Нередко появляется высокая или субфебрильная температура как правило, в сочетании с увеличенной СОЭ, а у некоторых больных—с нейтрофильным лейкоцитозом и палочкоядерньш сдвигом (следствие печеночных некрозов). Сочетание этих симптомов с резкой болью в правом подреберье у 15% больных имитирует клиническую картину механической желтухи, острого холангита, холецистита или абсцесса печени.
При объективном обследовании часто наблюдают упадок питания и почти у всех больных—увеличение и болезненность печени. В отличие от острого холецистита боль носит диффузный, а не локальный характер. Возможны спленомегалия кожные телеангиэктазии, астериксис («порхающий тремор» кистей рук—симптомом печеночной энцефалопатии), нередко развивается отечно-асцитический синдром. Нарушения психики могут быть обусловлены как печеночной, так и алкогольной энцефало патией, в связи с чем всем больным целесообразно вводить ко карбоксилазу. Из-за частых сопутствующих инфекций (пневмония, синусит, пиелонефрит, грамотрицательная септицемия) показано назначение лихорадящим больным полусинтетических антибиотиков широкого спектра. Активный туберкулез легких среди лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, также наблюдается значительно чаще, чем в остальной популяции [Рудой H. М. и др., 1983].
Биохимические пробы печени при остром алкогольном гепатите, как правило, изменены: отмечается сравнительно умеренная гипераминотрансфераземия (редко более 3—4 мкмоль/л) с преимущественным повышением активности АсАТ значительный подъем активности ГДГ и у-ГТП крови в начальной стадии гепатита { Д„ , 1984], а при формах с ""Р3^1111™ ^У^нлеченочньш холестазом, наблюдаемых у ^ /о больных,—значительная гиперфосфатаземия. Возможна гипоальбуминемия, но тимоловая проба в отличие от ОВГ часто остается нормальной. Уровень билирубина крови может повышаться до 153—510 мкмоль/л, у всех больных конъюгированная (прямая) его фракция превышает неконъюгированную Тяжесть поражения паренхимы печени коррелирует со степенью желту хи, гипоальбуминемии и гипопротромбинемии. Часто бывают явления геморрагического диатеза (кровотечения из носа и десен, подкожные кровоизлияния, желудочно-кишечные кровотечения).
В практической деятельности врача часто возникает необходимость в проведении дифференциального диагноза поражений печени алкогольной и вирусной этиологии.
Согласно данным (1980), при ХАГ вирусной этиологии чаще, чем при алкогольном ХАГ, наблюдаются спленомегалия, гиперспленизм, геморрагический синдром, более выражены желтуха и зуд кожи, в большей степени повышены активность АсАТ, АлАТ и уровень билирубина сыворотки крови, в пунктатах печени практически отсутствует жировая дистрофия, менее выражен фиброз, более значительны дистрофические изменения лейкоцитов, воспалительные инфильтраты состоят преимущественно из лимфоцитов и гистиоцитов, часто определяются гепатоциты, содержащие HBsAg и HBcAg. Для алкогольных поражений печени более характерны лихорадка, кожные телеангиэктазии, гинекомастия, гепатомегалия, резко выраженная жировая дистрофия, полиморфно-ядерная инфильтрация преимущественно мелких очагов некроза, значительный центральный и перигепатоцеллюлярный фиброз, наличие в ге патоцитах центральных областей дольки алкогольного гиалина. Клинические симптомы портальной гипертензии при алкогольном циррозе выражены в меньшей степени, чем при вирусном.
У больных алкогольным гепатитом и циррозом с наличием в пунктатах печени алкогольного гиалина достоверно чаще, чем у больных без центрального гиалинового склероза, наблюдаются значительный подъем синусоидального внутрипеченочного давления, выраженное варикозное расширение вен пищевода и желудка и пищеводно-желудочные кровотечения [Мансуров X. X., , 1975].
Сходное неблагоприятное влияние на течение алкогольной болезни печени оказывает также развитие перивенулярного и перицеллюлярного фиброза печени без морфологических признаков алкогольного гепатита [Мансуров X. X. и др., 1985].
и (1980) выделяют латентную, желтушную, холестатическую, фульминантную формы острого алкогольного гепатита и форму с выраженной портальной ги лертензией, и соавт. (1976, 1977, 1978) отмечают, что, помимо характерных анамнестических данных и наличия симптомов хронического алкоголизма, острый алкогольный гепатит отличается от ОВГ отсутствием продромального периода, значительно более плотной консистенцией печени, частыми признаками алкогольной нефропатии (протеинурия без заметного изменения осадка мочи), наличием увеличенной СОЭ при отсутствии значительной диспротеинемии, умеренным повышением аминотрансферазной активности сыворотки крови.
Холестатическая форма острого алкогольного гепатита, требующая дифференциального диагноза с механической желтухой и холангитом, развивается у 15—20% больных. Для алкогольного гепатита характерны указания в анамнезе на недавнее массивное употребление алкоголя, наличие лабораторных признаков гепатоцеллюлярной недостаточности, интактность внепе ченочных желчных путей по данным инструментальных исследований.
После острого алкогольного гепатита при продолжении употребления алкоголя цирроз печени у половины больных развивается через год [Strik W., 1980; Thaler H., 1980] и у трети больных—через 3 года [Galambos J., 1972]. В случае строгой абстиненции прогрессирование гепатита приостанавливается и жизненный прогноз значительно улучшается. Поэтому средством выбора на любой стадии алкогольной гепатопатии является абсолютная абстиненция. На фоне абстиненции целесообразно проведение мероприятий, направленных на нормализацию питания больного: необходима полноценная (2800—3000 ккал), богатая белком (1—1,5 г/кг) диета и дополнительная витаминотерапия. Целесообразно назначение фолиевой кислоты и кокар боксилазы. При отсутствии холестатического компонента назначают ессенциале перорально (6 капсул в день в течение 4— 6 мес) и внутривенно (по 5—10 мл на 5% растворе глюкозы струйно или капельно по 20—40 вливаний на курс). Применяют также мембраностабилизирующие гепатопротективные препараты: легален, Лив—52 или тиоктацид (препарат тиокто вой кислоты). Необходимо воздерживаться от симптоматической терапии, которая может способствовать развитию печеночной энцефалопатии (назначение опиатов, снотворных, транквилизаторов, сульфаниламидов, больших доз салуретиков). Показана дезинтоксикационная терапия: внутривенное капельное введение 5% раствора глюкозы с витаминами (кокарбоксилаза, 5% раствор аскорбиновой кислоты, 0,5% раствор липоевой кислоты, 5% раствор витамина Be) и электролитами (10% раствор глюконата кальция, 3% раствор хлорида калия) с целью коррекции нарушений водно-электролитного метаболизма, гемодез по 200—300 мл 1—2 раза в неделю; при гипопротеинемии и ги поальбуминемии переливания плазмы крови или раствора алъ бумина. У больных с выраженным упадком питания при отсутствии явлений печеночной энцефалопатии могут быть эффективны методы парентерального питания: инфузии аминокислотных смесей типа аминозин, альвезин или травазол, содержащих 35—42,5 г аминокислот в 1 л, в дозе от 0,5 до 1—1,5 л/сут в сочетании с поливитаминами [Nasrallah S., Galambos J., 1980]. При наличии у больного лихорадки необходимо тщательно исключить инфекционный очаг. При сохранении высокой температуры на протяжении 3—4 сут целесообразно ex juvantibus назначение полусинтетических антибиотиков широкого спектра (ампициллин, ампиокс, цепорин, кефзол или цефамезин) внутримышечно в дозе 2 г/сут. О лечении печеночной энцефалопатии см. в разделе «Цирроз печени».
Мнение о целесообразности кратковременного применения преднизолона при особенно тяжелых формах острого алкогольного гепатита (билирубин крови более 255 мкмоль/л, снижение протромбинового индекса до 50% и ниже) у больных без признаков далеко зашедшего цирроза печени разделяется не всеми исследователями. Наряду с положительными результатами большинство авторов сообщают об отсутствии снижения летальности при применении глюкокортикостероидов [Teschke R. et al„ 1983].
Глава 7
Лекарственные гепатиты
Только 9,5% всех побочных лекарственных реакций протекают с поражением печени [Timbrell J., 1983], но число тяжелых реакций среди них настолько велико, что, по данным некоторых авторов, лекарства являются главной причиной острой печеночной недостаточности [Zimmerman H., 1978]. В настоящее время известно более 200 лекарственных соединений, обладающих гепатотоксическим потенциалом. Практически любое лекарство, особенно при длительном применении или при введении в значительных дозах, может неблагоприятно влиять на структуру и функцию печени [ и др., 1975]. и соавт. (1975) отмечают, что «лекарства могут вызвать любой признак и симптом болезни печени, т. е. практически любую нозологическую форму». Поэтому исключение токсической лекарственной этиологии (прежде всего на основании анамнестических данных) необходимо при любом остром и хроническом заболевании печени. Непрерывно расширяющийся ассортимент медикаментов заставляет врача постоянно помнить о возможности поражения печени при длительном применении лекарств.
В настоящее время все гепатотоксические лекарственные осложнения принято подразделять на облигатные и факультативные. Облигатные, т. е. обязательные, зависимые от дозы и воспроизводимые в эксперименте на животных, обусловлены в первую очередь свойствами самого химического соединения (четыреххлористый углерод, фосфор, хлороформ, мускарин). Облигатные лекарственные поражения могут быть относительно безобидными: например, фенобарбитал вызывает гепатомега лию вследствие ферментативной индукции, кортизон и его производные—жировую инфильтрацию печени, препараты железа—гемосидероз органа.
Факультативные лекарственные поражения печени непредсказуемы, не зависят от дозы лекарства и не воспроизводятся в эксперименте: они связаны с индивидуальной иммунной реакцией организма по типу идиосинкразии или генетически обусловленным изменением катаболизма лекарства с образованием гепатотоксичных метаболитов. Факультативные реакции гипер

Гис. 8. Хронический лекарственный гепатит с внутрипеченочным холестазом,
•обусловленный многолетним приемом аминазина, у больного Э., 52 лет. Эози яофильный и нейтрофильный инфильтрат в перипортальном пространстве. Микрофото. 16Х7. Окраска гематоксилин-эозином.
сенсибилизации к лекарствам быстро воспроизводятся при повторном введении препарата, часто сочетаются с аллергическими симптомами—лихорадкой, сыпью, аденопатией или эозино-
•филией, эозинофильной и гранулематозной реакцией печени. В ходе таких реакций лекарство или его метаболит, играющие роль гаптена, соединяясь с макромолекулами клетки, вызывают развитие аллергической реакции к этому новому для организма антигену.
Прямые гепатотоксины (четыреххлористый углерод, желтый
•фосфор, бледная поганка) не применяются в медицинской практике, но возможны бытовые и промышленные отравления этими соединениями.
По клинико-морфологическим особенностям различают цито литические (с некрозами или стеатозом печени), холестатиче
•ские, смешанные (холестатически-цитолитические) острые лекарственные гепатиты и значительно более редкие хронические. лекарственные поражения печени (рис. 8).
Цитолитические гепатиты составляют около 2\з всех гепато токсических реакций со смертностью (при исключении галота яовых гепатитов) около 6%; при холестатических лекарственных поражениях смертность составляет 3% [Dossing M., Andrea sen P., 1982]. В клинической картине доминируют симптомы;, обусловленные гепатоцеллюлярным некрозом или токсическим микровезикулярным стеатозом, часто с желтухой и гиперамино трансфераземией. Некроз может быть зональным (парацетамол, галотан) или диффузным [изониазид, дифенилгидантоин индометацин, альдомет (допегит), высокие дозы рентгеноконт растных средств, вводимых внутривенно]. Стеатоз бывает микровезикулярным, как при синдроме Рейе и жировой печени беременных (тетрациклин), или макровезикулярным (метотрек сат).
Холестатические поражения могут вызывать более 100 препаратов. При холестазе, протекающем без сопутствующей воспалительной реакции, наблюдают каналикулярный стаз желчи. Типичным примером является холестаз, вызываемый андроген ными (метилтестостерон), анаболическими и эстрогенными сте роидными гормонами (ингибиторы овуляции), содержащими алкильные или этинильные группы в положении 17а. Данное осложнение лекарственной терапии возникает у 2% больных, в том числе всегда у женщин, страдающих рецидивирующим хо лестазом беременности. Оно имеет благоприятный прогноз. Через 2—3 нед после отмены препарата холестаз обычно исчезает.
Более серьезное поражение по типу смешанной холестатиче ски-цитолитической реакции с воспалительной, чаще лимфоци тарной инфильтрацией печени наблюдается у 1,2% больных при лечении аминазином и другими производными фенотиазина Оно описано также у больных, получавших тубазид, рифампи цин, протионамид, ПАСК, клофибрейт (мисклерон), аллопури нол, сульфаниламиды, тиоурацил, фенилин, 6-меркаптопурин азатиоприн, гидралазин (апрессин), никотиновую кислоту, папаверин, хлорпропамид, толбутамид (растинон), пропилтиоура цил, циметидин (тагамет), хлорамбуцил (лейкеран), метотрек сат, амитриптилин, фенобарбитал, карбамазепин (тегретол)„ элениум, седуксен, имипрамин, оксациллин, пенициллин, пипера зин, мерказолил, гризеофульвин [Teschke R., 1983].
Субклинически протекающие неспецифические реактивные гепатиты вызывают пенициллин, стрептомицин и многие другие средства. Сульфаниламиды, а-метилдофа (допегит), аллопури нол, дифенилгидантоин, пенициллин, хинидин, гидралазин, производные сульфанилмочевины и бутадион могут вызывать гра нулематозные гепатиты, иногда в сочетании схолестазом [Paum gartner G., Paumgartner D., 1980].
Острый лекарственный гепатит, как и ОВГ, значительно. чаще протекает в безжелтушной форме, чем с желтухой, он может возникать в период введения лекарственного средства или через 3—4 нед после его отмены. Наслаиваясь на предсущест вующую хроническую гепатопатию, лекарственный гепатит неминуемо отягощает ее течение [ M. и др., 1975; Angeli D. et al., 1983]. В клинической картине нередко на первый план выступают диспепсические нарушения: тошнота, рвота, анорексия, боль в животе. Как и при ОВГ, наблюдается продро мальный период с аллергическими и диспепсическими симптомами, однако продолжительность его короче, чем при ОВГ [, 1975]. Астенический синдром выражен менее ярко, чем при ОВГ. Часто отмечается болезненность при пальпации умеренно увеличенной печени. Спленомегалия наблюдается редко. Активность ферментов сыворотки крови может широко варьировать в зависимости от характера лекарственного поражения печени и его распространенности. Токсический лекарственный стеатоз [тетрациклин, метотрексат], несмотря на нередко тяжелое течение, сопровождается умеренной гиперами нотрансфераземией.
При хлорпромазиновой (аминазиновой) желтухе, которая развивается обычно через 2—4 нед после начала лечения у 1 % больных и часто сопровождается лихорадкой, эозинофилией, зудом, болью в животе, тошнотой и анорексией, клиническая картина часто напоминает механическую желтуху. Аминазино вая желтуха обычно исчезает через 4—8 нед после отмены препарата, но иногда после длительного холестаза развивается синдром, сходный с первичным билиарным циррозом печени. Аналогичный переход лекарственного гепатита в хронический возможен при длительном введении производных фенотиазина. В. Bachman и соавт. (1982) сообщили о больной 49 лет с повторными эпизодами холестатической желтухи, которые сопровождались резкой болью в правом подреберье, лихорадкой, тошнотой и рвотой. Больная перенесла холецистэктомию и через полгода, при повторном холестатическом приступе,—диагностическую лапаротомию с холангиографией и биопсией печени. Только после второй операции было выяснено, что больная в связи с обострениями хронического бронхита периодически принимала этилсукцинат эритромицина: приступы боли в животе совпадали с обострениями бронхита. Пробное введение этого препарата вызвало боль в животе, гипербилирубинемию и ги пертрансаминаземию.
57 лет, поступила в мае 1984 г. в хирургическое отделение Центрального НИИ гастроэнтерологии с подозрением на механическую желтуху в состоянии средней тяжести с интенсивной желтухой холестатического типа. Уровень общего билирубина крови при поступлении 416,4 мкмоль/л, прямого — 270 мкмоль/л, холестерина — 9,2 мкмоль/л, активность ЩФ — 490 ед/л, АлАТ—2,1 мкмоль/л, АсАТ—1,05 мкмоль/л. Печень увеличена на 4 см, несколько уплотнена, резко болезненна. Желчный пузырь и селезенка не пальпировались. При расспросе выяснилось, что больная страдает ишемиче ской болезнью сердца (в 1977 г. перенесла инфаркт миокарда), хроническим радикулитом и хронической пневмонией. В течение последних 7 лет она непрерывно получала лекарственную терапию, в том числе сустак, эринит, персан тин, кордарон, интенкордин, изоптин, изоланид, кавинтон, энпефабол, стугерон, фурасемид, лазикс, панангин, гемитон, альдактон, реланиум, седуксен, тазепам, тардил, валокордин, анальгин, скутамил С, реопирин, папазол, инъекции никотиновой кислоты, папаверина, платифиллина и но-шпы. По поводу обострении
хронического бронхита 4 раза в год проводились курсы лечения бисептолом, тавегилом, бромгексином, фалиминтом и эуфиллином (всего более 30 названии лекарственных средств). Непосредственной причиной тяжелого лекарственного гепатита с затяжным течением у больной, по-видимому, послужили проведенные в течение последних 4 мес по поводу «нижнедолевой двусторонней пневмонии» 4 курса внутривенных вливаний этазола натрия. Через 3 нед, после прекращения вливаний возникли диффузная боль в животе, усиливавшаяся после еды, чувство тяжести в правом подреберье, диарея. Через неделю усилились слабость, анорексия, тошнота, потемнела моча, появились зуд кожи и быстро нараставшая желтуха. На сканограмме определялась умеренная гепатомегалия, на рентгенограмме грудной клетки — усиление и деформация легочного рисунка в нижних отделах легких, на ЭК. Г—брадикардия, очаговые интрамуральные изменения в переднесептальной области и области верхушки левого желудочка. Больной были проведены эндоскопическая ретроградная холепанкреатография и ультразвуковое исследование. Патологических изменений дуоденального сосочка, желчного пузыря, внутри - и внепеченочных желчных протоков не выявлено. Больная переведена в терапевтическое отделение, где лекарственная терапия сведена до возможного минимума.
Проводилась дезинтоксикационная терапия 5% раствором глюкозы с витаминами внутривенно. Через 3 мес у больной полностью исчезла желтуха (содержание билирубина крови снизилось до 17,1 мкмоль/л, прямая фракция не определялась), нормализовались активность аминотрансфераз, щелочной фосфатазы и концентрация холестерина крови, исчезла диспротеинемия. Сохранялась небольшая гепатомегалия. После исчезновения желтухи была проведена пероральная холецистография, выявившая нормально функционирующий желчный пузырь. В пунктате печени, полученном в октябре 1984 г., определялась картина лобулярного гепатита с наличием внутриклеточных включений желчи и желчных тромбов в отдельных каналикулах, т. е. остаточные явления перенесенного тяжелого лекарственного гепатита с внутрипече ночным холестазом.
Хронические активные гепатиты и циррозы печени были описаны при длительном введении оксифенисатина (зарубежное слабительное средство), тубазида (изониазида), парацетамола, сульфонов, сульфаниламидов, нитрофурантоина, метотрексата, хлорамбуцила, ацетилсалициловой кислоты, поливинилпирроли дона, высоких доз витамина А, хлороформа, альдомета, пропил тиоурацила, ипрониазида. Первичные билиарные циррозы развивались на фоне приема хинидина, метилтестостерона, амина зина, толбутамида (бутамида), прохлоперазина (метеразина) и органических соединений мышьяка (раствор Фовлера). Нецир ротическую портальную гипертензию вызывали винилхлорид и хроническая интексикация витамином А (центролобулярный фиброз печени), ангиосаркому печени—винилхлорид. Нитро фурантоин при длительном применении может вызывать типичную клинико-морфологическую картину ХАГ с недомоганием желтухой, гепатомегалией, подъемом активности щелочной фосфатазы и аминотрансфераз крови, диспротеинемией и появлением в крови аутоантител к компонентам клеточных ядер (у 71 % больных) и гладкой мускулатуры (у 91%). При продолжении приема препарата возможно развитие цирроза печени.
Метотрексат при длительном введении малых доз больным гемобластозами, псориазом и для предотвращения реакции отторжения трансплантата костного мозга у всех больных вызывает сначала жировую дистрофию печени, далее фиброз печени, который при продолжении введения препарата может переходить в цирроз.
Наиболее изучено гепатотоксическое действие широко применяемого противотуберкулезного препарата, гидразида изони котиновой кислоты—тубазида (изониазид). Преходящее умеренное повышение активности аминотрансфераз, обычно не требующее отмены препарата, наблюдается у 23% больных; явный гепатит с летальностью от массивного печеночного некроза до 10% после многомесячного лечения—у 0,1—1% больных. [Paumgartner G., Paumgartner D., 1980]. В печени изониазид сначала ацетилируется (т. е. присоединяет молекулу уксусной. кислоты), а затем гидролизуется, превращаясь в ацетилгидра зин и изоникотиновую кислоту. Ацетилгидразин гепатотоксичен. Он окисляется с образованием активного промежуточного продукта, который реагирует с тканевыми белками и вызывает некрозы печени. Скорость ацетилирования зависит от генетически детерминированной, наследуемой аутосомально активности N-ацетилтрансферазы. У лиц с медленным ацетилированием (12% людей белой и черной и 10%—желтой расы) риск тяжелого поражения печени особенно велик [Timbrell J., 1983]. Соче танное применение тубазида с ферментативным индуктором ри фампицином увеличивает вероятность гепатотоксических реакций. Аналогичный эффект оказывает этанол (около 50% больных туберкулезом легких страдают хроническим алкоголизмом).
Морфологические изменения печени при тубазидовом гепатите идентичны ОВГ. Желтуха носит цитолитический или смешанный цитолитически-холестатический характер. Лихорадка и кожная сыпь наблюдаются редко. Диспротеинемия часто обусловлена не поражением печени, а туберкулезным процессом. При введении препарата в течение более 2 мес у 10% больных возможен переход в ХАГ и цирроз печени. Отмена препарата обязательна при симптомах, указывающих на явное поражение печени. К развитию тубазидового гепатита предрасположены больные старше 50 лет, мужчины—представители восточных рас и больные с предсуществующей дисфункцией печени. При лечении тубазидом необходимо наблюдать за динамикой АлАТ, так как у 10% больных желтуха может возникнуть без предшествующих симптомов.
Своеобразной формой лекарственной патологии печени являются вторичные фосфолипидозы. Накопление фосфолипидов в. лизосомах клеток печени, селезенки, легких, миокарда и других органов сопровождается развитием гепатомегалии, субфебрилитета, гипертонии, отеков, похудания, одышки и гиперлипопро теинемии («фосфолипидная жировая печень») [Timbrell J., 1983]. Эти изменения могут вызывать анорексигенные, гипохолестери немические, психофармакологические, коронарорасширяющие (японский препарат коралгил) средства и хлорохин. Поражение сопровождается гипераминотрансфераземией и может прогрессировать в цирроз печени.
Основным терапевтическим мероприятием при лекарственных «поражениях печени является срочная отмена препарата. Сравнительно редко, при тяжелом течении с выраженной печеночной недостаточностью, приходится прибегать к парентеральному введению средних доз глюкокортикостероидов [Itoh S., 1981]. Профилактика медикаментозных гепатопатий состоит в рациональной лекарственной терапии с учетом аллергологического и лекарственного анамнеза, недопустимости полипрагмазии, излишней симптоматической терапии и самолечения [, 1969, 1978], оценке функциональной способности печени перед назначением сильнодействующих средств или длительной медикаментозной терапии, обеспечении систематического контроля за состоянием гепатобилиарной системы у больных, получающих такие средства, и немедленной отмене препарата при появлении немотивированной и стойкой боли в животе, диспепсических нарушений, астении или явной печеночной дисфункции.
Глава 8
Неспецифический реактивный гепатит
Наиболее распространенным хроническим воспалительным изменением печени является хронический неспецифический реактивный гепатит (НРГ). Данную форму, которой страдают миллионы людей, часто не испытывая никаких неприятных ощущений со стороны печени, следует рассматривать не как самостоятельную нозологическую единицу, а как сопутствующий симптом, свидетельствующий о реакции печеночной ткани на внепеченочное заболевание, очаговое заболевание самой печени или длительное воздействие эндогенного (метаболического) или экзогенного фактора. Патогенез НРГ связывают с фильтрацион ной функцией печени по отношению к разнообразным антигенам и токсинам, поступающим с током крови через систему воротной вены или печеночной артерии.
Понятие НРГ было введено в клинику в 50-х годах F. Schaf fner и Н. Popper (1959), выявившими при пункции печени 94 больных среднего и пожилого возраста, страдавших атеросклерозом, артериальной гипертонией или ревматоидным артритом, ряд нерезко выраженных изменений. Среди них доминировали липофусциноз, неравномерность величины печеночных клеток и их ядер (анизоцитоз и анизокариоз), вариабельность их тинкториальных свойств, вакуолизация клеточных ядер, баллонная дистрофия отдельных групп гепатоцитов, чаще в центре долек, нерезко выраженная очаговая или диффузная жировая инфильтрация, фиброз, некрозы единичных или небольших групп гепатоцитов и инфильтрация лимфоцитами, гистиоцитами и отчасти сегментоядерными лейкоцитами, гипертрофия и оча товая гиперплазия купферовских клеток, иногда имитирующая гранулемы. Мезенхимальная реакция была наиболее выражена в перипортальных полях.
К НРГ относят умеренно выраженные изменения печеночной мезенхимы и печеночных клеток, которые можно связать с заболеваниями других органов или систем, а также с очаговыми поражениями самой печени или с исходами острых и хронических заболеваний печени. Отсюда два основных термина в названии данной единицы: неспецифический, т. е. одинаково проявляющий себя при самой разнообразной этиологии, и реактивный, т. е. вторичный, обусловленный реакцией печени на другое,. основное заболевание. Термин «гепатит» в данном случае невсеобъемлющ, поскольку неспецифически-реактивные изменения печени могут проявляться как воспалительными, так и дистрофическими изменениями печеночной ткани (липофусциноз, незначительный гемосидероз, умеренно выраженная жировая или. белковая дистрофия). НРГ имеет 4 характерные черты: 1) вто ричность наблюдаемых изменений; 2) их умеренность в клинико лабораторном и морфологическом аспекте; 3) доброкачественность; 4) полная обратимость при устранении вызвавшего эти изменения заболевания.

|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |



