3. Крылов, Ю. В. Морфоэпидемиология рака и полипов желудка в регионах Республики Беларусь с различным уровнем радиоактивного загрязнения / , , // Проблемы здоровья и экологии. — 2005. — № 3. — С. 27–34.
4. Study of stomach cancer in atomic bomb survivors Report 1. Histological findings and prognosis / C. Ito [et al.] // J. Radiat. Res. — 1989. — Vol. 30, № 2. — P. 164–175.
5. Эпидемиология злокачественных новообразований в Беларуси / [и др.]. — Минск: Зорны верасень, 2006. — 207 с.
6. Сравнительный анализ заболеваний, выявленных при фиброгастродуоденоскопии в Бешенковичском и Буда-Кошелевском районах Республики Беларусь / [и др.] // Здравоохранение. — 2001. — № 1. — С. 19–21.
7. Чиссов, В. Н. Первично-множественные злокачественные опухоли / , . — М.: Медицина, 2000. — 336 с.
8. Kaibara, N. Patients with multiple primary gastric cancers tend to develop second primaries in organs other than stomach / N. Kaibara, M. Maeta, M. Jkegushi // Surg. Today. — 1993. — Vol. 23, № 2. — P. 186–189.
9. Kenneth, J. R. Modern Epidemiology / J. R. Kenneth, S. Greenland // Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo: Lippincott Williams & Wilkins. — 1998. —673 p.
10. Боровиков, В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов / В. Боровиков. — СПб.: Питер, 2003. — 688 с.
Поступила 28.02.2011
УДК 616.89-088.441..82
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЦИДИВООПАСНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
У ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ НА ЭТАПЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ
Гомельский государственный медицинский университет
Представлены данные о проявлении социальных рецидивоопасных клинических ситуаций у лиц с алкогольной зависимостью в первые 6 месяцев формирования терапевтической ремиссии (шифр по МКБ-10 F10.200). На основе полученных данных сформулированы рекомендации, направленные на раннюю диагностику и адресную противорецидивную терапию пациентов с алкогольной зависимостью в процессе лечения и реабилитации.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, ремиссия, рецидивоопасные клинические ситуации, лечение.
SOCIAL RELAPSE-DANGEROUS CLINICAL SITUATIONS IN PATIENTS
WITH ALCOHOL ADDICTION IN EARLY THERAPEUTIC REMISSION
I. M. Skvira
Gomel State Medical University
The data on the manifestation of social relapse-dangerous clinical situations in patients with alcohol addiction in the period of the first 6 months of therapeutic remission have been presented (code ICD-10 F10.200). Based on these data, the recommendations aimed at early diagnosis and targeted preventive therapy of patients with alcohol addiction in the treatment and rehabilitation have been formulated.
Key words: alcohol addiction, remission, relapse-dangerous clinical situations, treatment.
Введение
Проблема лечения алкоголизма чрезвычайно актуальна в связи с масштабами распространения, утяжелением клинических параметров этого заболевания, величиной экономических, демографических и нравственных потерь [1, 2].
В то же время эффективность лечения пациентов с алкогольной зависимостью не вполне удовлетворяет, особенно из-за ранних срывов и рецидивов, которые являются психогенией для семьи пациента, проблемой для производственных отношений и разочарованием для врачей.
Особенно трудными в становлении ремиссии считаются первые месяцы воздержания от употребления алкоголя. В этот период больные испытывают неуверенность, психическое напряжение, нередко — влечение к алкоголю; жалуются на скуку, неустойчивое настроение, пустоту; у них появляется аффективная патология [3, 4]. У многих из них возникают транзиторные или затяжные тревожно-депрессивные состояния: «депрессия у детоксифицированных пациентов» — по терминологии ряда зарубежных специалистов [5].
Алкогользависимый пациент на ранних стадиях ремиссии не готов к лишению алкоголя и радикальному отказу от привычного, сложившегося за многие годы, приемлемого для него алкогольного стереотипа, что нередко проявляется страхом перед трезвостью, депрессией с разнообразной клинической симптоматикой [6].
Многие авторы обращают внимание на то, что в начале становления ремиссии воздержание от употребления алкоголя зависит не только от клинических, но и от социальных факторов. Реадаптация к трезвому образу жизни требует перестройки ранее сложившихся отношений в семье, трудовом коллективе, в общении с друзьями. Возникают проблемы «свободного времени», отказа от общения с пьющей компанией и создания нового круга общения, утверждения себя в качестве человека, ведущего трезвую жизнь. В это время среди рецидивоопасных ситуаций выделяют встречи с приятелями, праздники, застолье, ссоры в семье, которые в силу особого восприятия больными нередко становились пусковым звеном возобновления пьянства [7, 8, 9].
Ранее эти состояния нами были рубрифицированы и определены как рецидивоопасные клинические ситуации (РОКС) [10]. Остаются неизученными частота встречаемости, степень выраженности социальных РОКС у пациентов с алкогольной зависимостью при различных типах ремиссии, их взаимосвязь с качеством ремиссии и значение для прогноза и терапии.
Цель
Разработка способов ранней диагностики рецидивоопасных клинических ситуаций ремиссионного периода у лиц с алкогольной зависимостью.
Материал и методы исследования
Исследование выполнено на базе учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница». После трех этапов лечения, согласно принятым в наркологии стандартам [11], на этапе становления ремиссии (до 6 месяцев воздержания от употребления алкоголя), обследовано 265 мужчин в возрасте от 27 до 55 лет (средний возраст пациентов 39,2 ± 7,2) с алкогольной зависимостью (шифр F 10.200-202 согласно критериям МКБ-10) [12]. В исследование не включались лица, злоупотребляющие алкоголем без синдрома зависимости, больные с другими психическими и поведенческими расстройствами. С учетом принципов клинической типификации ремиссии, принятых в современной наркологии [13], все исследованные пациенты были разделены на три репрезентативные (от фр. по возрасту и другим социально-демографическим параметрам группы.
Первая группа ПАЗ состояла из 69 человек в состоянии компенсированной ремиссии, без клинически выраженных рецидивоопасных состояний. Вторая группа из 40 пациентов находилась в состоянии субкомпенсированной ремиссии с РОКС (обратившиеся для противорецидивного лечения). Пациенты первых двух групп достигли полной ремиссии (более 6 месяцев воздержания от употребления алкоголя, шифр по МКБ-10 F 10.202). В третью группу (156 пациентов) были включены пациенты с рецидивом алкоголизма на этапе становления ремиссии (декомпенсированная ремиссия).
В ходе выполнения работы применены клинико-психопатологический, клинико-динами-ческий и экспериментально-психологический методы. С целью объективизации и возможности сравнения клинического состояния ПАЗ в ремиссии был использован разработанный нами опросник «Шкала экспресс-диагностики рецидивоопасных клинических ситуаций» [10]. Статистическая обработка данных (в частности, дисперсионный анализ, вычисление средних значений М, стандартного отклонения, достоверности отличия по критерию Стьюдента и критерию согласия χ²) проводилась с помощью компьютерной программы Excel [14].
Результаты и их обсуждение
Частота встречаемости (в порядке убывания в первой группе) социальных РОКС у пациентов трех групп представлена в таблице 1.
На этапе становления ремиссии для пациентов с алкогольной зависимостью весьма характерны социальные РОКС, по большинству исследованных параметров наблюдающиеся более чем в 50 % случаев. Только такая ситуация, как «знакомые убеждали выпить» оказалась примерно одинаковой (p > 0,05) (чуть больше 66 % случаев) во всех трех группах, по остальным параметрам обнаружились межгрупповые отличия (таблица 1).
В сравнении с первой группой во второй чаще (p < 0,05) встречались: «бывал в пьющих компаниях», а реже (p < 0,05) — «плохая поддержка друзей», «плохая поддержка знакомых», «плохая поддержка на работе» и «праздники мешали трезвости».
Реже (p < 0,05) во второй группе в сравнении с третьей наблюдались почти все изучаемые рецидивоопасные ситуации, кроме двух: «плохая поддержка друзей» и «знакомые убеждали выпить», наблюдавшиеся в этих группах с примерно одинаковой частотой (таблица 1, p > 0,05).
В сравнении с первой группой в третьей значимо чаще (p < 0,05) встречались «нонкомплайенс», «бывал в пьющих компаниях», «плохая поддержка родных», «плохая поддержка пациентов», а реже (p < 0,05) — «плохая поддержка друзей». Остальные РОКС в первой и третьей группах встречались примерно с одинаковой частотой (таблица 1, p > 0,05).
Степень выраженности в баллах исследованных РОКС приведена в таблице 2.
Как следует из таблицы 2, социальные факторы в целом значимо (p < 0,05) меньше мешали трезвости пациентам второй группы (9,96 ± 0,8 баллов), чем пациентам первой (12,9 ± 0,7) группы (p < 0,05) и особенно третьей (17,1 ± 0,8) группы (p = 0,0001). Что касается отдельных социальных факторов, то пациенты второй группы значимо меньше (p < 0,05), чем пациенты первой и третьей группы жаловались на негативное влияние массовых гуляний со спиртным и в сравнении с третьей группой — на отсутствие поддержки на работе и среди других пациентов (p < 0,05). Пациенты третьей группы в сравнении с первой значимо хуже соблюдали терапевтические рекомендации (p < 0,0001), больше пребывали в пьющих компаниях (p < 0,05) и меньше жаловались на плохую поддержку друзей (p < 0,05).
При дифференцированном анализе установлено, что только по некоторым психосоциальным РОКС имелись явные межгрупповые отличия. Это, прежде всего, «пребывание в компаниях пьющих» (рисунок 1).
Таблица 1 ― Частота социальных рецидивоопасных клинических ситуаций у пациентов трех групп
Рецидивоопасные ситуации | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | |||
n | % | n | % | n | % | |
1. Плохая поддержка друзей | 23 | 100* | 9 | 47,4 | 7 | 41,2*** |
2. Плохая поддержка знакомых | 22 | 95,7* | 13 | 68,4** | 15 | 88,2 |
3. Плохая поддержка на работе | 20 | 87,0* | 9 | 47,4** | 13 | 76,5 |
4. Плохая поддержка пациентов | 18 | 78,3 | 14 | 73,7** | 17 | 100*** |
5. Знакомые убеждали выпить | 14 | 70,9 | 15 | 78,9 | 13 | 66,5 |
6. Праздники мешали трезвости | 13 | 56,6* | 3 | 15,8** | 10 | 58,8 |
7. Реклама мешала трезвости | 12 | 52,2 | 12 | 43,2** | 6 | 64,7 |
8. Был в пьющих компаниях | 10 | 43,4* | 14 | 73,7** | 16 | 94,1*** |
9. Нонкомплайенс | 6 | 26,1 | 5 | 26,3** | 17 | 100*** |
10. Плохая поддержка родных | 5 | 21,7 | 3 | 15,8** | 7 | 41,2*** |
Всего пациентов | 23 | 100% | 19 | 100% | 17 | 100% |
Примечание. Здесь и в следующих таблицах: * различия между первой и второй группами достоверны (p < 0,05); ** различия между второй и третьей группами достоверны (p < 0,05); *** различия между третьей и первой группой достоверны (p < 0,05).
Таблица 2 ― Сравнительная характеристика средней выраженности социальных рецидивоопасных ситуаций у пациентов трех групп
Рецидивоопасные ситуации | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |
M ± m | M ± m | M ± m | |
1. Плохая поддержка друзей | 1,87 ± 0,2* | 1,0 ± 0,12 | 1,1 ± 0,1*** |
2. Плохая поддержка знакомых | 2,35 ± 0,14 | 1,79 ± 0,17 | 2,2 ± 0,2 |
3. Плохая поддержка на работе | 1,86 ± 0,16 | 1,16 ± 0,13** | 2,12 ± 0,21 |
4. Плохая поддержка пациентов | 2,09 ± 0,15 | 1,79 ± 0,14** | 2,76 ± 0,23 |
5. Знакомые убеждали выпить | 1,05 ± 0,11 | 1,05 ± 0,17 | 1,41 ± 0,14 |
6. Праздники мешали трезвости | 1 ,22 ± 0,1* | 0,32 ± 0,13** | 1,0 ± 0,1 |
7. Реклама мешала трезвости | 0,91 ± 0,18 | 1,0 ± 0,23 | 1,35 ± 0,12 |
8. Бывал в пьющих компаниях | 0,65 ± 0,07 | 0,95 ± 0,1** | 1,47 ± 0,1*** |
9. Нонкомплайенс | 0,57 ± 0,1 | 0,53 ± 0,1** | 2,82 ± 0,2*** |
10. Плохая поддержка родных | 0,3 ± 0,11 | 0,37 ± 0,12 | 0,88 ± 0,16 |
Сумма макросоциальных РОКС | 12,9 ± 0,7* | 9,96 ± 0,8** | 17,1 ± 0,8*** |
Примечание. См. примечания к таблице 1.
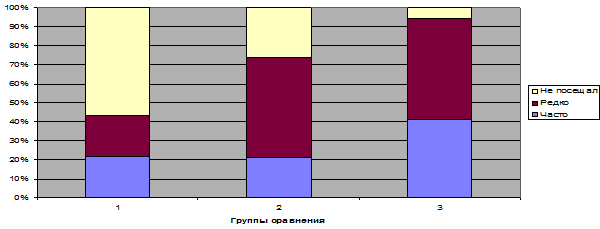
Рисунок 1 ― Распределение по градации выраженности рецидивоопасной ситуации
«пребывание в пьющих компаниях» у пациентов трех групп
«Пребывание в компаниях пьющих» наблюдалось в третьей группе у,1 %) из 17 пациентов против,5 %) из 23 пациентов первой группы (p < 0,001) и у,7 %) из 19 пациентов третьей группы (p < 0,001). Только 1 (5,9 %) из 17 пациентов третьей группы не посещал компании пьющих, что значительно меньше (p < 0,0001), чем среди пациентов первой группы, где не посещали компании пьющих,6 %) из 23 пациентов, и меньше (p < 0,001), чем во второй группе, где не посещали компании пьющих 5 (26,3 %) из 19 пациентов. Часто посещали пьющие компании 7 (41,2 %) из 17 пациентов третьей группы, что значимо больше (p = 0,01), чем среди пациентов второй и первой групп, где часто посещали компании пьющих 4 (21,1 %) из 19 и 5 (21,7 %) из 23 пациентов соответственно (рисунок 1).
Таким образом, у пациентов с алкогольной зависимостью этап становления терапевтической ремиссии характеризуется выраженными, наблюдающимися во многих сферах общественной жизни рецидивоопасными ситуациями. Большинство (от 50 до 100 %) пациентов жалуются на то, что окружение в целом в обществе, на работе, среди знакомых не понимает их, не поддерживает в трезвой жизни, даже мешает формированию нового образа жизни. Так действует реклама, общественные мероприятия (в частности, народные гулянья с обильным, демонстративным употреблением спиртного), на работе коллеги в своем большинстве не понимают пациентов, не одобряют их трезвое поведение, нередко склоняют их к употреблению спиртного, а то и совершают насильственный возврат болезни (тайно подливают спиртное). Особенно трудная для пациентов ситуация складывается в ближайшем, значимом для них, окружении. Друзья их не понимают, осуждают, фактически обвиняют в измене дружбе, убеждают и внушают необходимость прервать лечение (объясняя, что «все пьют», а лечение сделает пациента неполноценным) и употребить спиртное. Сами пациенты, только расставшись с привычным для них алкогольным стереотипом, еще не имея нового для них трезвого опыта, с трудом адаптируются в такой обстановке.
В то же время, несмотря на большую значимость социальной обстановки при формировании ремиссии для всех пациентов с алкогольной зависимостью, в процессе исследования были установлены определенные межгрупповые отличия. Пациенты третьей группы (с рецидивом алкоголизма) задолго до первого употребления алкоголя (срыва) в сравнении с пациентами алкогольной зависимостью первой группы (в компенсированной ремиссии) значимо больше (p < 0,01) жаловались на отрицательное влияние в плане поддержания трезвости внешних по отношению к их личности факторов: «работа», «знакомые», «пациенты», «родственники», «уговаривали выпить». При этом они меньше в сравнении с пациентами в компенсированной ремиссии жаловались на ситуации, связанные с употреблением спиртного.
Заключение
Большинство пациентов с алкогольной зависимостью на этапе становления терапевтической ремиссии оказываются в антитерапевтической социальной обстановке. При этом пациенты, настроенные на избавление от алкогольной зависимости и трезвость, отличаются личной ответственностью за свой выбор и стремятся преодолевать рецидивоопасные ситуации, используя собственные ресурсы, социальную поддержку, наркологическую помощь. В то же время для пациентов с рецидивом алкоголизма задолго до срыва характерен своеобразный «психосоциальный портрет», проявляющийся в терпимости к социальным явлениям пьянства и недовольством близкими, работой, перекладыванием ответственности на других («уговаривали», «не поддерживали» и т. д.). Такой статус пациентов с алкогольной зависимостью в ремиссии можно обозначить как «внешний локус контроля трезвости», являющийся своего рода «почвой», на которой под действием разрешающего фактора (стресс, отрицательные или положительные эмоции) происходил срыв и последующий рецидив алкоголизма.
Выводы
1. В процессе терапии и реабилитации пациентов с алкогольной зависимостью необходимо проводить работу по созданию поддерживающей трезвеннические установки социальной обстановки и готовности пациентов к преодолению рецидивоопасных социальных ситуаций.

2. Выявление у пациентов с алкогольной зависимостью в период ремиссионного воздержания от употребления алкоголя признаков «внешнего локуса контроля трезвости» свидетельствует о готовности к срыву ремиссии и требует экстренного, комплексного (социотерапевтического, психотерапевтического, немедикаментозного, фармакологического) вмешательства для стабилизации ремиссии и предупреждения рецидива заболевания.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Сосин, И. К. Наркология / , . ― Харьков: Кол-ум, 2005. ― 800 с.
2. Лелевич, В. В. Оценка ситуации с распространением потребления психоактивных веществ в Беларуси / // Вопросы наркологии. ― 2009. ― № 1. ― С. 67–75.
3. Копытов, А. В. Аффективные нарушения при алкогольной зависимости / , // Актуальные вопросы психического здоровья: матер. науч.-практ. конф., 21 янв. 2005. ― Гродно, 2005. ― С. 74–76.
4. Neuropsychological functioning in detoxified alcoholics between 18 and 35 years of age / M. J. Eckardt [et al.] // Am. J. Psychiatry. ― 1995. ― Vol. ― P. 53–59.
5. Cосин, И. К. Алкогольная депрессия: монография / , . ― Харьков: Коллегиум, 2004. ― 336 с.
6. Гребенников, В. С. Опыт длительной поддерживающей терапии алкоголизма / // Вопросы клиники, систематики, патогенеза и терапии алкоголизма: сб. науч. тр. ― Вологда, 1972. ― С. 430–442.
7. Relaps: strategies of prevention and prediction / C. Cummings [et al.] // In: Miller W. R. ed. The addictive beheviours. ― Oxford, Pergamon, 1980. ― P. 133–139.
8. Teichman, M. Relapse inoculation training for recovery alcoholics / M. Teichman // Alcohol Treat. Quart., 1986. ― Vol. 3, № 4. ― P. 133–139.
9. Сквира, И. М. Количественная оценка структуры рецидивоопасных клинических ситуаций ремиссионного периода при алкоголизме / // Актуальные проблемы медицины: сб. науч. ст. респ. науч.-практ. конф. и 17-й итоговой сессии ГГМУ: в 4 т. / ред. колл. [и др.]. ― Гомель: ГГМУ, 2008. ― Т. 3. ― С. 190–193.
10. Приказ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении протоколов диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств в системе Министерства здравоохранения Республики Беларусь» / Под ред. . ― Минск, 2005. ― 196 с.
11. Карманное руководство к МКБ-10: Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями) / сост. Дж. Э. Купер; под ред. Дж. Э. Купепра / Пер. с англ. Д. Полтавца ― К.: Сфера, 2000. — 464 с.
12. Ерышев, О. Ф. Алкогольная зависимость: формирование, течение, противорецидивная терапия / , , . ― СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. ― 192 с.
13. Сквира, И. М. Количественная оценка структуры рецидивоопасных клинических ситуаций ремиссионного периода при алкоголизме / // Актуальные проблемы медицины: сб. науч. статей респ. науч.-практ. конф. и 17-й итоговой сессии ГГМУ: в 4 т. / ред. колл. [и др.]. ― Гомель: ГГМУ, 2008. ― Т. 3. ― С. 190–193.
14. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / , , . ― Киев: 2001. ― 408 с.
Поступила 01.03.2011
УДК 614.876:612.089:595.799
МОНИТОРИНГ РАДИОНУКЛИДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЧЕЛ
В КАЧЕСТВЕ БИОИНДИКАТОРОВ
Лидия Аньелло, Никола Комодо
Региональное агентство Пьемонта по защите окружающей среды,
Департамент государственной системы здравоохранения — Университет
г. Флоренции, Италия
Пчела — превосходный живой индикатор наличия на определенной территории пестицидов, тяжелых металлов, полицикличных ароматических углеводородов и радионуклидов.
В Италии в период после Чернобыльской катастрофы были проведены исследования, доказавшие, что мед является надежным индикатором радиоактивного загрязнения. Анализ на основе гамма-спектрофотометрии с использованием многоканального анализатора с кристаллом из Германия рекомендуется, в первую очередь, для дозиметрических замеров цезия (137Cs + 134Cs), изотопа меркурия-197 и изотопов свинца-210, 212, 214.
Пчелы и пчелопродукты были внесены в качестве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения окружающей среды в Перечень «Rassegna di Bioindicatori per la radioattività ambientale» (Обзор биоиндикаторов для отслеживания радиоактивности окружающей среды) AGF-T-RAP-99-13 от 31/12/09, составленный ANPA — Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici (Национальный профильный центр физических агентов).
Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, биоиндикаторы радиоактивной загрязненности, радионуклииды.
RADIOACTIVE NUCLIDE MONITORING USING BEES
AS BIOLOGICAL INDICATORS
Lidia Agnello, Nicola Comodo
Florence State University
Bees are an excellent animate indicator to detect pesticides, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons and radionuclide on the given territory.
In Italy, in the period after the Chernobyl catastrophe the investigations were carried out to prove that honey was a sure indicator for radioactive contamination. The analysis based on the technique of gamma spectrophotometry using Multichannel Germanium crystal is particularly suitable for the detection and dosimetry of Cesium (137Cs + 134Cs), Mercury isotope 197 and Lead isotopes-210, -212, -214.
Bees together with their products were included in the Enumeration «Rassegna di Bioindicatori per la radioattività ambientale» (Review of Bioindicators to monitor environmental radioactivity) — AGF-T-RAP-99-13 of 31.12.2009 prepared by ANPA (National Center of Physical Agents) as bioindicators of environmental radioactivity.
Key words: environmental control, bioindicators of radioactive contamination, radioactive nuclides.
Введение
Под биоиндикаторами понимаются растительные или животные организмы, обладающие более или менее выраженной реакцией на изменения в среде обитания.
Медоносные пчелы, принадлежащие к разряду перепончатокрылых, считаются превосходными индикаторами уровня загрязнения определенной территории, при этом показания считываются как «прямая информация» (например, в случае аномальной смертности) или же «косвенная информация», получаемая в результате анализа загрязняющих частиц, которые накапливаются на теле пчел и (или) же в вырабатываемых ими продуктах, таких как мед, воск, прополис и перга.
Накопление загрязняющих частиц на теле пчел и в продуктах, вырабатываемых ими, представляет собой, таким образом, синтез взаимодействия насекомого с окружающей средой: воздухом, водой, почвой и живыми организмами.
Пчелиное семейство насчитывает, в период своего максимального развития в среднем около 40 тыс. особей, из них около 10 тыс. — «рабочие пчелы», известные также под названием «добытчицы», в чьи обязанности входит многоразовый облет территории и сбор нектара, пыльцы, медвяной росы и воды, которые надлежат переработке и укладке на хранение в улье. Подсчеты свидетельствуют о том, что рабочие пчелы обрабатывают в день пространство площадью приблизительно 7 км2, при этом каждой из них удается посетить до 1000 соцветий в день. Во время этой активной деятельности пчелы вступают в контакт с многочисленными веществами, распыленными в среде, транспортируя их помимо воли во внутреннее пространство улья [1]. Для утоления жажды и в целях терморегуляции улья пчелиное семейство нуждается в большом объеме воды, основными источниками которой выступают водные потоки, лужи, болота, омытые росой листья; и если в них присутствуют контаминанты, то они также попадают «в дом», а это означает, что они могут стать объектом химического анализа. Загрязняющие частицы, распыленные в воздухе или отложившиеся в почве или на растительности, могут быть отделены от ворса тела пчелы или же аспирированы из трахеи. Пчел называют «подвижными датчиками, которые собирают информацию с земной поверхности, из воды и из растительного мира» [2]. На сегодняшний день они используются в мониторинге окружающей среды на пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды, полицикличные ароматические углеводороды, а также для мониторинга на присутствие бакетрии Erwinia amylovora (фитопатогенная бактерия, затрагивающая интересы агрономного хозяйства).
Мониторинг радионуклидов
Ярослав Свобода (Jaroslav Svoboda) — сотрудник Научно-исследовательского института пчеловодства
г. Либчице, расположенного неподалеку от Праги, в начале шестидесятых годов прошлого столетия выявил в сотрудничестве с коллегами повышенное содержание 90Sr (радиоактивный стронций) как в пчелах, так и в продуктах, которые они вырабатывают. Объяснение данного явления оказалось связанным с проведением ядерных испытаний, имевших место в то время.
В Италиив в период до Чернобыльской катастрофы был выполнен мониторинг, направленный на поиск радиоизотопов в районе атомных станций Трино Верчеллезе (Trino Vercellese) и Каорсо (Caorso). Были произведены радиометрические замеры на пробах меда, воска, личинках и пчелах, однако следов радиоактивности обнаружено не было. После Чернобыльской катастрофы многочисленные замеры выявили их присутствие, что стало подтверждением того, что пчелы превосходно справляются с обнаружением радиоизотопов. В частности, в регионе Фриули-Венеция-Дужлия было проведено исследование с целью выверки возможности использовать мед в качестве индикатора радиоактивного загрязнения по аналогии с отслеживанием обычного загрязнения.
На территории региона было выявлено порядка 50 населенных пунктов, осуществлен забор более 100 образцов меда, на которых был выполнен гамма-спектрометрический анализ в целях выявления радионуклидов, а также мелиссопалинология для определения типа пыльцы в меду. Результаты позволили определить весомую разницу в значении радионуклида 137Cs в образцах меда различного ботанического происхождения. Оседание в почву радиоактивных контаминантов не носило равномерного характера на территории региона, что было также подтверждено результатом анализа меда. Выявленные уровни загрязнения оказались исключительно низкими и не представляли опасности для населения. Присутствие радионуклидов 134Cs и 137Cs в меде продолжало наблюдаться также спустя несколько лет после катастрофы. Учитывая скорость измерений на гамма-спектрометре, легкость взятия проб для замеров и сами полученные результаты, мед стал рассматриваться как хороший индикатор радиоактивного загрязнения [3].
Пчелы и пчелопродукты были включены в качестве биоиндикаторов радиоактивности окружающей среды в перечень «Rassegna di Bioindicatori per la radioattività ambientale» (Перечень биоиндикаторов для отслеживания радиоактивности окружающей среды) — AGF-T-RAP-99-13 отl 31/12/09, составленный ANPA — Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici (Национальный профильный центр физических агентов) [4].
Методика
Установка станций мониторинга
Прежде всего, необходимо провести предварительное изучение территории с целью выявления категорий вегетативной системы и создания сети обнаружения, при этом необходимо исходить из расчета, что отдельная станция осуществляет контроль на территории площадью порядка 7 км2. Для каждой станции необходимо установить по крайней мере два улья, оборудованных системой воздухонагнетения и освещения с оптимальными характеристиками, направленными на поддержание максимальной активности пчел по сбору меда.
Контроль ульев
Ульи должны проходить периодический контроль, чтобы оценить санитарное состояние пчел. Задействованные семьи должны быть однородными с точки зрения «силы»; оценка последней производится посредством проверки соотношения кладка/взрослые особи (метод подсчета сотов с расплодом —Accorti, 1985).

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |




