Например, высказывание о том, что электрон так же неисчерпаем, как и атом – это не более, чем метафора или общие слова. Они ничем не подтверждаемы и не опровергаемы до тех пор, пока научными методами не будет доказано наличие у электрона сложной внутренней структуры, как это оказалось у протона и нейтрона. Пока же есть все основания считать электрон элементарным точечным объектом. Так же точно некорректно судить с точки зрения философии о некоей, так сказать, мировоззренческой легитимности и научной продуктивности той или иной общей или частной теоретической схемы, математической модели, методического приема. Речь, в частности, идет о понятии т. н. мнимого времени в космологических моделях, парадоксах квантовой логики и т. п. Научный поиск идет по принципу проб и ошибок, где нет заранее обозначенных методологических границ и предписанных философских рецептов, где всё позволено, что не противоречит фундаментальным принципам естествознания. Последние, хотя и логически обоснованы не до конца, однако в качестве универсальных эмпирических обобщений огромного масштаба доказали свою несомненную плодотворность и составляют несводимую далее основу базового словаря науки.
5. Извечная проблема о соотношении науки и религии в рамках семиотической методики исследования текстов приобретает статус псевдопроблемы. Любой язык описания мира, существующий в системе культуры, представляет собой упорядоченную информационную модель (текст), которая отображает мир в присущих ей категориях. Поскольку эти тексты семантически несоизмеримы, то любые попытки противопоставить науку религии логически нелегитимны и когнитивно бесплодны. Наука как моделирующая система создает референтные тексты рационального типа (объективные корреляты внешнего мира), которые выполняют объяснительную и предсказательную функции и обладают прикладным значением. Религия удовлетворяет совсем другим потребностям. Она создает универсальные образы сакрально-когнитивного типа, которые соответствуют иррациональному компоненту человеческой психики (душе) и адекватно заполняют её. Для стабильного развития любой социокультурной системы необходим определенный баланс между влиянием на общество науки и религии, - не противоборство, а дополнительность.
6. Динамика развития самой науки, как сложной динамической информационной системы, согласно современным семиотическим представлениям, не может быть адекватно описана каким-либо одним модельным способом (т. е. одним языком), особенно, склонным к излишней рационализации и формализации. В процессе анализа истории крупных открытий, соответствующих смене парадигм (научные революции), выяснилось, что всегда и в гораздо большей степени, чем логические соображения, играли роль проявления иррационального уровня психики, т. е. то, что мы называем образно-художественным мышлением. Это роднит науку со всеми прочими формами культурного сознания и открывает возможность для междисциплинарно-интегративного синтеза, целью которого должна стать синтетическая картина мира, объединяющая все языки культуры по принципу дополнительности.
Дополнение 2.
Информационный взрыв с точки зрения синергетики.
О динамике роста научного знания в свете идей Питирима Сорокина.
Выдающийся социолог Питирим Сорокин рассматривал культуру как систему, в которой каждый её элемент функционирует в неразрывном единстве со всеми прочими, чем и обеспечивается устойчивая динамика и прогресс. В основе его подхода лежит понятие о ценности всех культурных составляющих, и наука в этом отношении обладает такой же самоценностью, как и прочие явления культуры. «Всякая великая культура, - писал он, - есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность. Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, ее философии и религии, этики и права <...> все они по своему выражают ее основополагающий принцип, ее главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры». [ А. Человек, цивилизация, общество. - М., 1992].
Анализируя основные тенденции развития культуры Запада в эпоху средневековья, Сорокин отмечает, что главной и основной ее ценностью был Бог, а господствующие нравы и обычаи, образ жизни и тип мышления подчеркивали свое единство с Богом и выражали безразличное и даже отрицательное отношение к чувственному миру с его утилитарной эмпирической реальностью. Такая унифицированная система культуры или как сейчас принято говорить - парадигма - основой которой можно назвать принцип сверхчувственности и сверхразумности Бога как единственной реальности и необходимой и достаточной ценности, получила у Сорокина название идеациональной.
Закат средневековой культуры, по Сорокину, заключался как раз в постепенном разрушении идеациональной парадигмы под воздействием новой системы ценностей, выстраивавшейся на основе представления о том, что объективная реальность и ее смысл чувственны. Именно и только то, что человек воспринимает своими органами чувств, дает возможность составить представление о внешнем реальном мире, а вне или за пределами наших ощущений нет ничего реального или есть нечто такое, что можно считать эквивалентом или обозначением несуществующего. Столкновение и взаимодействие этих двух принципов мировидения началось, как считает Сорокин, примерно в конце XII века и привело к возникновению новой парадигмы, постепенно сформировавшей совершенно особую культуру XIII - XIV столетий, основной идеей которой было то, что «объективная реальность частично сверхчувственна и частично чувственна, она охватывает сверхчувственный и сверхрациональный аспекты плюс рациональный и, наконец, сенсорные объекты, образуя собой единство этого бесконечного многообразия» [Там же]. Такую культурную среду Питирим Сорокин назвал идеалистической, синтезирующей эти две противоположные, но и взаимодополняющие друг друга идеи.
Используя современные представления о закономерностях самоорганизации и саморазвития сложных неравновесных систем и считая любую социально-культурную среду именно такой системой, можно в целом объяснить такого рода процессы смены доминирующих типов развития появлением в квазиравновесной и упорядоченной, но обладающей скрытой энергией, культурной среде - в данном случае - в средневековой Европе, новых идей, концепций, умонастроений - то есть, на языке теории самоорганизации, - новых параметров порядка, осуществивших перевод траектории развития этой системы в сторону аттракторов, объективно существующих для данного класса неравновесных систем.
«Однако этот процесс, - как пишет о нём Сорокин, - на этом этапе не закончился, идеациональная культура средних веков продолжала приходить в упадок, в то время, как культура, основанная на признании того, что объективная реальность и смысл ее сенсорны, продолжала наращивать темп в последующих столетиях. Начиная приблизительно с XVI века, новый принцип стал доминирующим, а с ним и основанная на нем культура. Таким образом возникла современная форма нашей культуры - культуры сенсорной, эмпирической, светской и соответствующей этому миру» [Там же]. Такой тип культуры получил у Питирима Сорокина название чувственной, и в качестве основной характеристики ее выступают посюсторонность и утилитаризм. «Любая система чувственной истины и реальности предполагает отрицание или, по крайней мере, совершенно равнодушное отношение к любой сверхчувственной реальности или ценности. <...> Отсюда следует, что чувственные культуры считают исследование природы Бога и сверхчувственных явлений заблуждением или бесплодными размышлениями», - так характеризует Сорокин установку культуры нашего времени в области познания мира.
Один из крупнейших мыслителей XX века Мартин Хайдеггер в работе «Время картины мира», также отмечая как важнейшую для понимания путей развития новоевропейского мышления тенденцию обезбожения и расхристианизациии картины мира, пишет, что «к сущностным явлениям Нового времени принадлежит его наука. Равно важное по рангу явление - машинная техника. <...> Сама машинная техника есть самостоятельное видоизменение практики, такого рода, что практика начинает требовать математического естествознания». Сорокин же, мотивируя переход приоритета в сфере познания мира к естественным наукам, развивает свою мысль об ограниченно-чувственном характере новой парадигмы: «Если чувственная система не поощряет какого-либо интереса к сверхчувственным аспектам действительности, то она оказывает явное предпочтение изучению чувственного мира со всеми его физическими, химическими и биологическими качествами и связями» [Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993].
По Хайдеггеру вся культурная деятельность, подчиненная данной парадигме, сосредоточивается на познании материальной, эмпирически проявляющейся картины мира, наука реализуется в многочисленных технических изобретениях и по существу начинает обслуживать чувственные потребности людей. Само понятие познания мира становится эквивалентом эмпирического знания, осуществляемого естественными науками. Процесс получения знаний и использования их в технике в таких условиях приобретает самодовлеющий характер и постепенно занимает в иерархии ценностей ведущее положение.
Культура в целом и наука, в частности, становятся, по определению крупнейшего отечественного культуролога , в самом буквальном смысле устройством, вырабатывающим информацию. Так в Европе с XVIII века реализуется рационально-эмпирический идеал познания мира, ранее философски оформленный Декартом и Бэконом и затем воплощенный в принципы научной методологии Галилеем и Ньютоном. Здесь попутно следует заметить, что четверо последних никогда не отрицали мир сверхчувственных реальностей, но настаивали на строгом разграничении метафизического и эмпирического уровней познания, что отражено в известном ньютоновском изречении - физика, бойся метафизики. В связи с этим можно также вспомнить известный исторический анекдот - ответ Лапласа Наполеону о том, что гипотеза о существовании Творца при создании трактата о небесной механике ему не понадобилась. Он свидетельствует не столько о безбожии Лапласа, сколько о его нежелании включать в научную картину мира метафизические сущности, относительно которых нельзя выдвинуть каких-либо гипотез, поддающихся достоверной эмпирической проверке или математическому моделированию.
Обезбожение не означает полного, абсолютного атеизма, но, как считает Хайдеггер, - это процесс, приводящий к состоянию принципиальной неразрешимости вопроса о существовании Бога. При таком взгляде на реальность человек, по словам Хайдеггера, «освобождает себя от обязательной истины христианского откровения и от церковного учения, переходя к самоустанавливающемуся законодательству. И поскольку в духе этой свободы освобождающийся человек сам решает, что ему будет обязывающим, <...> этим обязывающим может стать человеческий разум и его законы или учреждённое по нормам этого разума и предметно упорядоченное сущее, или тот, пока еще не упорядоченный и только еще покоряемый через опредмечивание хаос, который в определенную эпоху требует овладения. Это было возможно только так, что освобождающий себя человек сам становился гарантом достоверности познаваемого. А такое могло получиться лишь поскольку он сам для себя решал, что для него должно значить познаваемое, что - знание и удостоверение познанного, то есть достоверность» [Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993].
Таким образом, человек взял на себя роль законодателя и исполнителя в сфере того, что есть истина, как приблизиться к ее познанию, что считать критерием достоверности. «Человек освободившийся» сам формирует в пространстве своей культуры новые доминанты, представляющие процесс познания внешнего мира как эмпирической реальности, то есть процесс получения и упорядочения информации в качестве самодовлеющей ценности, это движение вовлекает в свою стихию лучшие интеллектуальные силы общества, порождает самоорганизующуюся динамичную систему, развивающуюся по своим собственным законам. Наука приобретает свойства производственного процесса по добыванию и переработке информации и по своим темпам начинает напоминать автокаталитическую реакцию. Лавинообразный характер развития науки в качестве важнейшей особенности нашего времени отмечал и : «И как раз в наше время, с начала XX века, наблюдается исключительное явление в ходе научной мысли. Темп его становится совершенно необычным, небывалым в ходе многих столетий. Одиннадцать лет назад я приравнял его к взрыву - взрыву научного творчества. И сейчас я могу это только еще более резко и определенно утверждать» [ И. О науке. Дубна, 1997].
Статистический материал по количеству научных открытий и технических изобретений, собранный Питиримом Сорокиным, и характеризующий динамику этого процесса в Западной Европе, свидетельствуют о всё ускоряющемся темпе развития науки и техники. Не останавливаясь на обсуждении достоинств и недостатков такого формально-статистического подхода к проблемам культуры и, в частности науки, приведем таблицу этих данных:
Века : VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
Количество : 65 8527
Количество научно-технических достижений за первые восемь лет XX века Сорокин оценивает в 862, что в целом соответствует тенденции резко нелинейного роста.
Анализ этих закономерностей, сделанный самим Сорокиным, выявил экспоненциальный характер роста, а отображение данных в логарифмическом масштабе позволило обнаружить кроме того и циклические закономерности, соответствующие периодам относительного спада и роста научной продуктивности. Подобные закономерности Сорокин отмечал и в области экономического развития Европы - малые циклы деловой активности и более крупные в социальной сфере, которые, в свою очередь, накладываются на ещё более длительные временные циклы, глобального уровня.
Проблема периодичности и циклических колебаний в развитии сложных систем имеет самостоятельное значение и детально изучается синергетикой, где уже существуют весьма продуктивные подходы, в частности, известная модель Лотки-Вольтерра, которая отражает общесистемные универсальные алгоритмы эволюции неравновесных сложных систем. Периодические колебания научно-технической продуктивности могут складываться из кратковременных и долговременных циклов, обусловленных разнообразными причинами, причем при анализе закономерностей развития системы «производства знаний» за сравнительно короткие промежутки времени наблюдаются весьма выраженные «биения», тогда как при рассмотрении процесса за большие интервалы времени с усреднением данных, кратковременные колебания нивелируются и более четко проступает основная тенденция развития системы.
В данной работе мы касаемся общих закономерностей саморазвития науки как сложной неравновесной системы в историческом масштабе времени, поэтому мы провели анализ данных Питирима Сорокина для больших интервалов времени - в полтора, два и даже три столетия. Этот приём приводит к сглаживанию колебаний на графике зависимости числа научно-технических достижений от времени и отражает динамику процесса в логарифмическом масштабе в виде прямой линии. К такому же результату приводит также и другой способ разбивки временных интервалов, когда вместо традиционного, но вполне условного деления исторического времени на календарные столетия, мы рассматривали столетние промежутки времени, скомпонованные из пятидесятилетних отрезков предыдущего и последующего календарного веков, и группировали данные Питирима Сорокина, суммируя соответствующие числовые значения, полученные с учетом закономерности их возрастания в масштабе линейного времени.

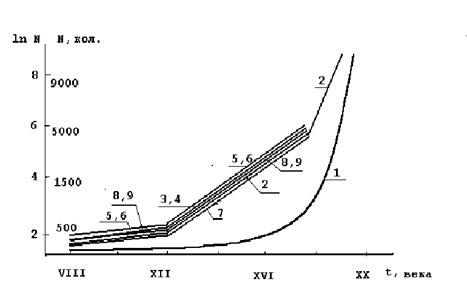 Рис. Зависимость количества научно-технических достижений от времени при различных способах усреднения в логарифмическом масштабе. 1. - аппроксимация степенным уравнением в прямом масштабе; 2. - исходные данные за календарные столетия; 3,4. - усреднённые данные за два столетия; 5,6. - усреднение за три столетия; 7. - усреднение за одно условное столетие; 8,9 - усреднение за полтора века. Прочие пояснения в тексте.
Рис. Зависимость количества научно-технических достижений от времени при различных способах усреднения в логарифмическом масштабе. 1. - аппроксимация степенным уравнением в прямом масштабе; 2. - исходные данные за календарные столетия; 3,4. - усреднённые данные за два столетия; 5,6. - усреднение за три столетия; 7. - усреднение за одно условное столетие; 8,9 - усреднение за полтора века. Прочие пояснения в тексте.
Это позволило выявить три принципиально различных по темпу роста крупномасштабных периода накопления научных знаний и технических достижений в Западной Европе (см. Рис.), между которыми происходили резкие по историческим меркам скачки научно-технической творческой активности. В рамках каждого из них процесс получения знаний имеет экспоненциальный характер, но с резко отличающимися параметрами скорости роста, причем третий период лучше описывается более сильной степенной зависимостью.
Анализ этого графического материала позволяет аппроксимировать данные зависимости логарифмическим выражением ln N = kt, где N - число научных открытий, t - время, k - параметр относительной скорости процесса. Эту закономерность можно выразить также в виде экспоненты N(t) = Nо exp (kt) , где Nо - некоторое начальное состояние изучаемого процесса. Наши расчеты дают оценки параметров k для отмеченных трёх периодов: c VII по XII век k = 0,22 (1/век) , что соответствует среднему периоду удвоения информации T* = 320 лет, с XIII по XVIII век k = 0,74 (1/век), что соответствует Т* = 94 года, и, наконец, приближенные оценки темпов роста в третьем периоде, начиная с XIX столетия, дают: k = 2,15 (1/век), Т* = 32 года, но последние результаты, по-видимому, недостаточно надежны.
Тем не менее можно констатировать, что в течение нескольких веков европейской истории наблюдается устойчивая тенденция роста научного знания в пределах выделенных эпох, а эффективные параметры темпов этого роста, характеризующие «межэпохальные» скачки творческой активности, увеличивались в среднем троекратно. Это свидетельствует о том, информационное пространство приобретало новые черты общесистемного уровня, резко активизирующие процессы производства знаний по принципу протекания химических реакций автокаталитического типа.
Если попытаться описать характер этого процесса, начиная с VII века до конца XX-го одним уравнением, то как показывают наши оценки, неплохим приближением будет нелинейное уравнение степенного типа:
dN/dt = k N r , где, согласно нашим оценкам, r=1,2 , k=0,27 и которое приводит к решению, описывающему т. н. режим роста с обострением:
N(t) = ( rnt + Nоn )1/n , где Nо= 4 ( для VII века), n=1-r.
Это уравнение соответствует ситуации «информационного взрыва», наметившейся во второй половине XX века.
Таким образом, три резко выраженных периода в историческом развитии Европы по своим временным характеристикам вполне коррелируют с выделенными Сорокиным периодами господства идеациональной, идеалистической и чувственной парадигм и еще раз подтверждают мысль о том, что наука развивается в общесистемном контексте культуры, отражая наиболее существенные её черты. С точки зрения современных синергетических представлений и обнаруженных выше закономерностей в производстве и накоплении знаний, о динамике развития науки как самоорганизующейся системы взаимодействующих идей, теоретических открытий и технических достижений можно сказать словами Вернадского: «В результате долгих споров о существовании прогресса, непрерывно проявляющегося в истории человечества, можно сейчас утверждать, что только в истории научного знания существование прогресса в ходе времени является доказанным» [ И. О науке. Дубна, 1997].
[1] Хайдеггер М. Время картины мира. // Время и бытие. – М., 1993, с. 41.
[2] Гуссерль Э. Философия как строгая наука. - Новочеркасск, 1994, с. 135.
[3] Критика чистого разума. - М., 1994.
[4] Разум природы и разум человека. – М., 2000.
[5] Две культуры. - М.: Прогресс, 1973.
[6] См. Объективное знание. – М., 2002, с. 66 – 75.
[7] См. М. Семиосфера. – М., 2000.
[8] Крафт В. Венский кружок. – М., 2003, с. 107.
[9] См. О. Трансформация философии. – М., 2001, с. 36 – 60.
[10] Цит. по: О. Трансформация философии. – М., 2001, с. 33.
[11] Цит. по: Гейзенберг В. Часть и целое. – М., 2004, с. 72.
[12] Там же, с. 31.
[13] Черные дыры и молодые Вселенные. – Спб., 2001, с. 52, 53.
[14] Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997, с. 3
[15] В поисках иных смыслов. - М., 1993.
[16] . «Современная философия науки». Введение. М., 1996, с. 6.
[17] Цит. по: П. Девис. Суперсила. - М., 1989.
[18] Русский космизм. Антология философской мысли». - М., 1993.
[19] Вопросы философии, 1991, № 6, с.41.
[20] Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.
[21] См. подробнее: Расставание с простотой. – М., 1998.
[22] Рассел Б. Искусство мыслить. - М., 1999, с. 35.
[23] Рассел Б. Там же, с. 49.
[24] Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993, с. 569.
[25] Две культуры. - М.: Прогресс, 1973.
[26] Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983
[27] См. Карнап Р. Философские основания физики. – М., 2006.
[28] Гемпель К. Логика объяснения. - М, 1998, с. 105.
[29] Эволюционная эпистемология. // Современная философия науки». - М., 1996, с. 188.
[30] Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998, с. 62 – 64.
[31] См. подробнее: Семиосфера. – М., 2000.
[32] См. подробнее: Мелик- Информационные процессы и реальность. – М., 1997.
[33] Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983, с.195
[34] Вопросы философии, 1998, №10, с. 88.
[35] Там же.
[36] Вопросы философии, 1998, №10, с. 88.
[37] Там же.
[38] Поппер К. Р. «Реализм и цель науки». // Современная философия науки. - М., 1996, с. 101.
[39] Вопросы философии, 1998, №10, с. 88.
[40] Там же.
[41] Вопросы философии, 1998, №10, с. 88.
[42] Там же.
[43] См. Гёдель, Эшер, Бах. Эта бесконечная гирлянда. – Самара, 2000.
[44] Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М., 1986, с. 371.
[45] «Критика чистого разума» - М., 1994, с. 15.
[46] Там же, с. 191.
[47] Критика чистого разума. – М., 1994, с. 192.
[48] Критика чистого разума. – М., 1994.
[49] Там же.
[50] В поисках иных смыслов. - М., 1993, с. 323.
[51] Там же, с. 275.
[52] В поисках иных смыслов».- М., 1993, с. 275.
[53] Время, хаос, квант. - М., 1994, с. 157.
[54] Поппер К. Квантовая механика и раскол в физике. - М., 1998, с. 58.
[55] Там же.
[56] Кант И. Критика чистого разума. - М., 1994, с. 237.
[57] Там же.
[58] Хокинг С. Черные дыры и молодые Вселенные. - СПб., 2001, с. 34.
[59] Семиосфера. – М., 2000.
[60] Вигнер Ю. Этюды о симметрии. - М., 1971, с. 183.
[61] Вигнер Ю. Там же.
[62] См. Уроки мудрости. – Киев, 1996, с. 59.
[63] Цит. по: Уроки мудрости. – Киев, 1996, с. 59, 60.
[64] См. Гейзенберг В. Часть и целое. – М., 2004, с. 190.
[65] См. . Семиосфера. – М., 2000.
[66] Гейзенберг В. Часть и целое. – М., 2004, с. 194.
[67] Порядок из хаоса. - М., 1986, с. 136.
[68] Рорти Р. Философия и зеркало природы. - Новосиб., 1997, с. 102.
[69] Цит. по: Рорти Р. Философия и зеркало природы. – М., 1997, с. 234.
[70] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. - М., 1994.
[71] Хокинг Ст. Черные дыры и молодые Вселенные. - СПб., 2001, с. 52.
[72] Логико-философский трактат. // Философские работы. Часть 1. – М., 1994.
[73] КЭД – странная теория света и вещества. – М., 1969.
[74] Там же, с. 38.
[75] Примечания. «Логико-философский трактат». - М., 1994, с. XVI.
[76] Там же, с. 10.
[77] Там же, с. 22.
[78] Там же, с. 24.
[79] Там же, с. 22.
[80] Там же, с. 25.
[81] Там же, с. 72.
[82] Цит. по: Гейзенберг В. Часть и целое. – М., 2004, с. 19.
[83] Там же, с. 80.
[84] Поворот в философии. // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М., 1997, с. 30.
[85] Там же. // Аналитическая философия. Избранные тексты, с. 31.
[86] Анализ ощущений. – М.: «Територия будущего», 2005, с. 71.
[87] Там же, с. 70.
[88] Шлик М. Поворот в философии. // Аналитическая философия. Избранные тексты. - М., 1997.
[89] Шлик М. Там же.
[90] Шлик М. Там же, с. 34.
[91] Там же, с. 46.
[92] Там же, с. 32.
[93] Шлик М. Там же, с. 31.
[94] Цит. по: М. Теория относительности и философия. - М., 1974.
[95] Поворот в философии. // Цит. соч., с. 34.
[96] Башляр Г. «Обыденное познание и научное». // Избранное: научный рационализм. - М., 2000, с. 275.
[97] Там же, с. 274.
[98] Характер физических законов. – М., 1968, с. 78.
[99] Предположения и опровержения. – М., 2004, с. 355.
[100] См. Хокинг Ст. Черные дыры и молодые вселенные. – СПб., 2001.
[101] Р. Объективное знание. – М., 2002, с. 181.
[102] См. подробнее: Объективное знание. сс. 99 – 101, 337 – 340.
[103] См. Логика и рост научного знания. – М., 1983.
[104] Философские основания физики. – М., 2001..
[105] Характер физических законов. – М., 1968, с. 131.
[106] Логика и рост научного знания. - М., 1983.
[107] Фейнман Р. Характер физических законов. - М., 1968, с. 172.
[108] Логика и рост научного знания. - М., 1983.
[109] Борн М. Размышления и воспоминания физика. - М., 1977.
[110] Фейнман Р. Характер физических законов. - М., 1968, с. 174.
[111] Квантовая теория и раскол в физике. - М., 1998.
[112] Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. // В кн. Структура научных революций. - М., 2001, с. 274.
[113] Фейнман Р. Характер физических законов. - М, 1968.
[114] Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001, с. 225.
[115] Кун Т. Структура научных революций. - М., 2001, с. 50-51
[116] Там же.
[117] Там же, с. 234.
[118] Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней. // В кн. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001, с. 529.
[119] Структура научных революций. - М., 2001, с. 112-113.
[120] Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993, с.579-581.
[121] Там же, с. 204.
[122] Рорти Р. Философия и зеркало природы. - Новосиб., 1997, с. 237.
[123] Кун Т. Структура научных революций. - М., 2001.
[124] Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. // - В кн. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001.
[125] История науки и её рациональные реконструкции. // В кн. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001, с. 471.
[126] Там же, с.460.
[127] Рюэль Д. Случайность и хаос. - Ижевск, 2001, с. 97.
[128] Лакатос И. В кн. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001, с. 529.
[129] Там же, с. 481.
[130] Хокинг С. Черные дыры и молодые Вселенные».СПб., 2001, с. 143.
[131] Оборотная сторона зеркала. – М., 1998, с. 5.
[132] Там же, с. 279.
[133] Там же, с. 246, 247.
[134] Шредингер Э. Что такое жизнь. С точки зрения физика. – М, 1966.
[135] Лоренц К. Там же, с. 482.
[136] Там же, с. 482.
[137] Расставание с простотой. – М., 2001.
[138] Там же, с. 222.
[139] Г. Психология бессознательного. – М., 1996.
[140] Семиосфера. – М., 2001.
[141] Оборотная сторона зеркала. с. 270.
[142] Лоренц К. Там же, с.401.
[143] Т. Кун. - Структура научных революций. – М., 2001.
[144] Оборотная сторона зеркала, с.248.
[145] Оборотная сторона зеркала, с.249 .
[146] ., Хукер К. «Эволюционная эпистемология и философия науки». // Современная философия науки. - М., 1996, с.189.
[147] Оборотная сторона зеркала, с. 396.
[148] Там же, с. 396.
[149] Ньютон- Рациональность науки. // Современная философия науки. – М., 1996, с. 249.
[150] См. Патнем Х. Как нельзя говорить о значении. // Философия сознания. – М., 1999, с. 147 – 163.
[151] Лакатос И. Доказательства и опровержения. - М., 2001
[152] Против метологического принуждения. // Избранные труды по философии науки. – М., 1986, с. 32
[153] Фейнман Р. Характер физических законов. - М., 1968, с. 53.
[154] Избранные труды по философии науки. – М., 1986.
[155] Философия и зеркало природы. - Новосиб., 1997, с. 196, 197.
[156] Характер физических законов. – М., 1968, с. 186, 187.
[157] Цит. по: Гейзенберг В. Часть и целое. – М., 2004, с. 60.
[158] Там же, с. 234, 235.
[159] Фейерабенд П. Избранные труды по философии науки. - М., 1986.
[160] Хокинг С. Краткая история времени. - СПб, 2000.
[161] Характер физических законов. – М., 1986, с. 109, 110.
[162] Черные дыры и молодые Вселенные. – СПб., 2001, с. 50.
[163] Миф машины. – М., 2001.
[164] Против методологического принуждения. // Там же. - М., 1986, с. 451.
[165] История науки и её рациональные реконструкции. // В кн. Структура научных революций. – М., 2001, с. 271, 281.
[166] Цит. по: Клайн М. Математика. Поиск истины. – М., 1988.
[167] См. Семиосфера. – М., 2000.
[168] Вопросы философии, 1990, №8, с. 25-35.
[169] Цит. по: Математика. Поиск истины. – М., 1988.
[170] Цит. по: Клайн М. Математика. Поиск истины. - М., 1988.
[171] См. Часть и целое. – М., 2004, с. 78 – 83.
[172] Синхронистичность. – М., 1997, с. 198 – 199.
[173] Смысл и назначение истории. – М., 1994, с. 506, 507.
[174] Черные дыры и молодые Вселенные. – Спб., 2001, с. 52, 53.
[175] Предположения и опровержения. – М., 2004, с. 357.
[176] Фейнман Р. КЭД – странная теория света и вещества. - М., 1988, с.13.
[177] Рюэль Д. Случайность и хаос. – Ижевск, 2001.
[178] Там же.
[179] Хокинг Ст. Черные дыры и молодые вселенные. – СПб., 2001, с. 52, 53.
[180] Фейнман Р. КЭД – странная теория света и вещества. - М., 1988, с.106.
[181] Хокинг Ст. Черные дыры и молодые Вселенные. - СПб., 2001, с. 50.
[182] Башляр Г. Механический рационализм и механика. - М., 2000, с. 168, 169.
[183] Хокинг Ст. Черные дыры и молодые Вселенные. - СПб, 2001, с. 45, 93. См. также: Хокинг Ст. Краткая история времени. – СПб., 2000, с. 196, 197.
[184] К. Стрела познания. - М., 1996, с. 23.
[185] Характер физических законов. - М., 1968, с. 58.
[186] Хокинг Ст. Черные дыры и молодые вселенные. – СПб., 2001, с. 52, 53.
[187] Цит. по: Квантовая психология. – М., 2001, с. 21.
[188] См. Шимони А. Реальность квантового мира. // В мире науки, 1988, № 3, с. 22-30.
[189] Математика. Поиск истины. – М., 1988, с.166.
[190] Там же, с. 167.
[191] Системный подход к эволюции и эволюционной эпистемологии. // Современная философия науки. – М., 1996, с. 188.
[192] Гуссерль Э. Кризис европейских наук. // Философия как строгая наука. – Новочер., 1994, с. 73.
[193] Пенроуз Р. Новый ум короля. – М., 2003, с. 88.
[194] Пенроуз Р. Там же, с. 87; 105.
[195] Цит. по: Математика. Поиск истины. – М., 1988, с. 241.
[196] Цит. по: Там же, с. 248.
[197] Пенроуз Р. Там же, с. 82.
[198] Лангер С. Философия в новом ключе. – М., 2000, с. 23.
[199] Вопросы философии, 1991, № 6, с. 51.
[200] Семиосфера. – М., 2001, с. 22, 23.
[201] См. Предположения и опровержения. – М., 2004.
[202] Витгенштейн Л. Дневники . – Томск, 1998, с. 49.
[203] Витгенштейн Л. Дневники . – Томск, 1998, с. 31.
[204] Шаги за горизонт. // Избранные философские работы. – СПб.. 2006, с. 158.
[205] Фейнман Р. Характер физических законов. – М., 1968, с. 45.
[206] Там же.
[207] См. Карнап Р. Философские основания физики. – М., 2006, с. 202 – 211.
[208] Трансформация философии. – М., 2001, с. 85.
[209] Там же. – М., 2001, с. 25.
[210] Рорти Р. Философия и зеркало природы. - Новосиб., 1997, с. 9; 284; 291.
[211] Вундт В. Введение в философию. - М., 1998, с. 73
[212] Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998, с. 24, 25.
[213] Там же, с. 25.
[214] Там же.
[215] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. // Философские исследования. Т.1. - М., 1994.
[216] Шлик М. «Поворот в философии». // Аналитическая философия. - М., 1998.
[217] Фейнмановские лекции по физике. Т. 2, с.24.
[218] Фейнман Р. Характер физических законов.- М., 1968.
[219] Характер физических законов. – М., 1968, с. 170.
[220] Там же, с. 68, 69.
[221] Там же, с. 187.
[222] Стрела познания. - М., 1996, с. 16, 17
[223] Там же, с. 18.
[224] Искусство мыслить. – М., 1999, с. 89.
[225] Там же, с. 89.
[226] П. Вопросы философии, 1998, №10, с. 98-111.
[227] Время, хаос, квант. - М., 1994.
[AM41]

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



