И, наконец (несмотря на объем цитаты), стоит привести очень важное в данном контексте мнение , который называет, слишком претенциозный, по его мнению, аппарат классической теории познания "унаследованной" философской установкой. Это мнение выдающегося философа опять-таки вполне созвучно с мнением выдающегося физика Ст. Хокинга. «Возьмем любое наше теоретико-познавательное исследование, даже самое лучшее, скажем, в русле так называемой "логики науки", анализа структур физических теорий и так далее, и посмотрим, что там анализируется - пишет Мамардашвили. – Мы увидим, что анализируются имеющиеся научные понятия, эксплицируемые в рамках самого же способа построения этих понятий, но взятых уже как понимаемые и обосновываемые философом, который видит в них идеальности мышления, разъясняемые в рамках определенного мировоззрения. Короче говоря, то, что называется "теорией познания" или "методологией", оказывается просто дополнительной работой к уже проделанной. Физик строит понятия, и ему не нужно при этом говорить о логических или гносеологических свойствах этого построения, о посылках и допущениях, которые предполагают другой его уровень, о связях, иерархии этих уровней и так далее. Это не его специальная задача, так как физик может не оперировать даже понятием "уровня теории". Но приходит методолог и выявляет всё, что содержится в физической теории и скрыто в её предметных терминах. Здесь, кстати, и возникает коварный парадокс, оправдываемый часто философом со ссылкой на процесс дифференциации и интеграции наук, когда методология становится частью самой науки, отделяясь от философии. Поэтому вполне справедливо, что "разгневанные физики", увидев наши не всегда грамотные усилия, забирают назад то, что мы незаконно себе присвоили под видом "теории познания". Ибо они могут и сами внутри физики или внутри биологии строить соответствующие разделы, и иногда, или я бы сказал, чаще всего, делают это лучше, чем профессиональные философы. Или имеет место симбиозный, промежуточный вариант, когда крупные физики являются одновременно и крупными философами»[222].
Тем не менее, считает Мамардашвили, что философия (как особый тип мышления и анализа) науке необходима и хотя «здесь предмет не тот, о котором вообще бывают теории», в определенном смысле теория познания всё-таки возможна, «но лишь при условии, что она описывает и формулирует не нормы, в которых должен выполняться познавательный акт <...>, а является органической в том смысле, что выявляет и затем описывает образования, имеющие собственную естественную жизнь, продуктом которой являются наши мнения, и наблюдение которой позволяет формулировать законы как необходимые отношения, вытекающие из природы вещей, а не правила, имеющие вселенский или универсальный характер»[223]. Бертран Рассел, научная и философская ориентация которого за долгую жизнь претерпела ряд трансформаций, в конце концов пришел к выводу, что «золотой век» философии как когнитивной панацеи остался в прошлом. «Я не думаю, - говорил он, - что в будущем философия сможет приобрести такое же значение, какое она имела во времена древних греков или в средние века. Я думаю, что развитие науки неминуемо уменьшит значение философии»[224]. Тем не менее, добавлял он, «философия имеет большое значение в сегодняшнем мире. Во-первых, потому, что она заставляет вас осознавать существование очень многих и очень важных вопросов, не входящих, по крайней мере сейчас, в сферу науки, и приводит нас к пониманию того, что научный подход сам по себе неадекватен. А во-вторых, она всё же делает людей немного скромнее интеллектуально и заставляет их сознавать, что огромное число вопросов, казавшихся решенными, оказывались неверными и что нет короткой дороги к знаниям. И что постижение мира, по моему мнению, - основная цель, которую должен ставить перед собой любой философ, - это очень долгое и сложное дело, в котором мы не должны быть догматиками»[225].
Таким образом, действительно, мы видим, что роль философии в новой системе знаний становится скромнее, однако, также очевидно, что её задачи по-прежнему остаются не менее важными, чем раньше. – Не подменять собой науку, не навязывать исследователю идеологические или философские предпочтения (например, не противопоставлять метафизику диалектике, религиозность атеизму и т. п.) и уж, конечно, не претендовать на методологический диктат в познании частных явлений природы, а осознавать и интерпретировать своими методами и вводить в общекультурный контекст те новые открытия, факты, категории и понятия современного естествознания, которые принципиально меняют представление человека о мире, о его собственном месте в биосфере Земли и в целой Вселенной, - т. е. формируют новую картину мира.
Приложение 1.
Введение в теорию погрешностей измерений.
Нормальное распределение случайных величин.
Истинным средним значением какой-либо случайной величины считается т. н. математическое ожидание – теоретический параметр, имеющий смысл среднего, вычисляемого для бесконечно большого числа измерений (повторностей). Поскольку это практически невозможно, то в реальной ситуации имеют дело с т. н. статистической выборкой той или иной мощности {Xi}, где i=1,2,3….n, считающейся достаточно большой для надежного вычисления среднего результата Xs=S(Xi)/n, который характеризует этот массив как целое.
Математически установлено, что вероятность P(Хс) любого отклонения Хс от среднего значения Xs, определяется для данного массива значений следующим выражением (т. н. нормальное распределение отклонений от среднего или функция распределения Гаусса): P(Хс)=1/(sÖ2p)×exp{-(Хс -Xs)2/2s2}. Параметр s, вычисляемый для данной выборки, называется в статистике среднеквадратичным отклонением от среднего или стандартным отклонением: s=±{1/(n-1)×S(Xs-Xi)2 }1/2. Он более или менее соответствует «истинному» значению s и характеризует ширину коридора возможных отклонений каждого отдельного результата измерений от среднего в при сохранении стандартных условий этого эксперимента. Из анализа распределения вероятностей P(Хс) следует, что наиболее вероятный результат, который получится при последующих измерениях данной стохастической величины, лежит в области значений, близких к среднему.
Это в целом согласуется с интуитивными представлениями и здравым смыслом, основанным на жизненном опыте. На основании нормального распределения вероятностей различных отклонений в статистике выбираются три способа представления результатов эксперимента. На рисунке изображена кривая нормального распределения вероятностей различных отклонений от среднего и показано, что в случае записи результата измерений в виде Xs ±1s (или Xs ±1s) истинное среднее окажется с вероятностью 68,7 % заключенным в данном коридоре ошибок, т. е. доверительная вероятность такого результата равна 68,7 %.
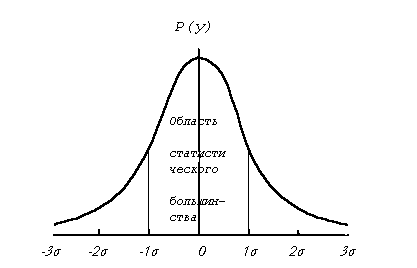 |
При записи результата в интервале Xs ±2s (или Xs ±2s) доверительная вероятность составит 94,5 %, и наконец, представляя результат в виде Xs ±3s (или Xs ±3s) мы достигаем значение доверительной вероятности, равное 99,7 %, что и принимается в науке в качестве окончательного критерия статистической достоверности экспериментально полученного результата, в котором учитываются все виды погрешностей, сопутствующие измерениям. Относительная погрешность, выражаемая в виде формулы d=DХ/Х×100 % = ks/Xs×100 %, где k=1, 2 или 3, называется статистической точностью результата и соответствует тому или иному доверительному интервалу.
Приложение 2.
Наука нормальная и наука паранормальная.
Как уже указывалось, современная научно-исследовательская деятельность – это дорогостоящее предприятие, рассчитанное не только на получение фундаментальных знаний о природе, но и обеспечивающее выход в практическую область – в технологию и технику. Это в значительной степени обусловливает её нормативность и влияние официально признанного научного сообщества. Современная нормальная наука, в некотором смысле, выступает в качестве «машины» для производства достоверных и практически значимых знаний, и её функционирование как некоторого сложного целенаправленно действующего организма невозможно без норм и правил, на которые опираются принятые исследовательским сообществом принципы научного рационализма. Но, как известно, магистральному пути нормальной науки (так же, как и религии, философии, искусству и т. д.) всегда сопутствуют некоторые маргинальные формы познания, которые образуют весьма пестрый букет т. н. паранормальных наук (или паранаук), претендующих на обладание некоторым знанием и методами, которые недоступны нормальной науке.
Мы рассматриваем паранауку – (от греч. пара – рядом и наука) как феномен в науке, проявляющийся аналогично биологическим и биосферным явлениям паразитизма некоторых форм живых организмов (паразитов), существующих за счет других, основных форм (хозяев), и видим в этом явление общесистемного характера. Паразитические формы используют для своего существования энергетические, вещественные и информационные структуры, упорядоченные в процессе антиэнтропийной деятельности «хозяина», который затрачивает для этого необходимое количество энергии. В экологии и биологии – это различные виды паразитов животных и растений, в науке – это паранаучные идеи и течения, описывающие паранормальные или сверхнормальные явления. В самоорганизующейся сложной системе (любого типа) возникают тесные сообщества паразита и хозяина и на основе общих принципов саморазвития и саморегуляции (а в биосферных экосистемах – в результате дарвиновского естественного отбора) происходит, в целом, взаимовыгодный процесс их коэволюции, причем, как показали модельные эксперименты, наличие форм-паразитов способствует большему разнообразию системы и её лучшей устойчивости.
Развитию естествознания постоянно сопутствует процесс появления квазинаучных построений и целых паранаучных систем, паразитирующих на сложных и неоднозначно трактуемых наукой феноменах природы и человека, особенно в области познания микромира, космоса и явлений человеческой психики. При этом используются категории и термины из понятийного аппарата соответствующей области знания. Но либо они толкуются слишком расширительно и неопределенно (что свойственно, например, для таких понятий, как энергия, информация, поле и т. д.), либо явления, рассматриваемые паранаукой, статистически недостоверны, невоспроизводимы в стандартных условиях, и «протекают» с нарушением фундаментальных законов сохранения. Так, например такое паранормальное явление, как телекинез или телепортация материальных объектов нарушает один из фундаментальных законов механики – закон сохранения количества движения (импульса), и поэтому в рамках нормальной науки рассматриваться не может.
Аналогичная ситуация имеет место в области изучения т. н. биополя («передача мысли» на расстояние, влияние биоэнергии на ход физических процессов, например, на радиоактивный распад, и т. п.), где до настоящего времени экспериментально не получено воспроизводимого и статистически достоверного подтверждения наличия таких эффектов. До сих пор нет эмпирических доказательств существования т. н. каталитического («холодного») термоядерного синтеза, протекающего стабильно и в количественном масштабе, о чем, как о зарегистрированном научном факте, в 70-е годы было много сообщений и дискуссий в СМИ. Современная квантовая теория допускает этот феномен, однако как маловероятный эффект туннельного характера. Существует множество и других общеизвестных явлений такого рода, в частности, астрология, НЛО и экстрасенсы, не говоря о таких примерах чистого шарлатанства и профанации, как поиск пропавших людей (или лечение больных) по их фотографиям, бесконтактная хирургия, колдовство, сеансы магии и т. п. Подобные примеры деформации общественного сознания обычно появляются в определенные кризисные периоды истории и вливаются, по выражению З. Фрейда, в общий «мутный поток оккультизма». Такие проявления можно интерпретировать как регрессивные тенденции в состоянии мышления, тяготеющие к архаическим приемам упорядочения хаоса окружающего мира.
Современный отечественный философ , обращает внимание на сложную социально-культурную подоплеку, лежащую в основе существующей во все времена устойчивой тенденции к созданию специфических форм рационализма, так сказать, альтернативных рационализму научному, который обусловлен господствующей парадигмой. Характеризуя эту ситуацию, он пишет: «И в наши дни эта традиция сводить научное знание к его мистико-религиозным оккультным первоосновам в полную силу присутствует в культуре и науке. Так, например, нередко говорят, что теория относительности, квантовая механика или новые области науки, как синергетика, возвращают нас к тому древнему знанию, которое было доступно некогда "посвященным" (мистикам и оккультистам прошлого), как бы пребывая в нетронутости, "от века" в той сакральной области, где такое тайное знание неотличимо от высшего бытия»[226].
Можно определенно утверждать, что паранаука вообще и паранаучные идеи, в частности, будут всегда существовать и сопутствовать науке как неизбежный системно-симбиотический элемент, объяснимый неравномерностью развития и образования людей в обществе и иррациональным компонентом, присущим человеческому сознанию. Возникающие на этом поле время от времени дискуссии могут быть полезны нормальной науке, поскольку выводят обсуждение проблем за пределы традиционного для естествознания рационально-логического метода мышления, ограниченного сложившейся парадигмой, и традициями научного сообщества и ставят перед наукой в качестве вызова новые нетривиальные задачи, требующие определенного ответа.
Приложение 3.
Понятие мнимого времени и теория Большого взрыва.
Ситуацию с мнимым временем так разъясняет один из создателей синергетики И. Пригожин. – В специальной теории относительности, указывает он, появляется новый инвариант (по сравнению с ньютоновской механикой в евклидовом пространстве), который в четырехмерном пространстве-времени представляет собой, так сказать, расстояние между двумя пространственно-временными событиями. Наблюдатели, которые движутся относительно друг друга прямолинейно и равномерно, приписывают разные числа расстоянию между двумя точками в трехмерном геометрическом пространстве или тому времени, которое проходит между двумя событиями, однако величина пространственно-временного интервала, разделяющего два события в пространственно-временном континууме, будет одинакова. Этот инвариант имеет следующий вид: ds2=c2dt2-(dx2+dy2+dz2), откуда следует, что при движении двух лучей со скоростью света c интервал между двумя событиями в их системе отсчета равен нулю (знак вычитания). Здесь время измеряется в обычных действительных числовых единицах, данное определение интервала сомнений не вызывает, а сама СТО давно стала фактически прикладной наукой. То, что раньше воспринималось как парадокс (замедление времени, неодновременность событий, парадокс близнецов и пр.), теперь превратилось в привычные понятия новой физики.
Как известно, введение в математический обиход комплексных чисел a+ib чрезвычайно существенно расширило возможности математики, однако переход к измерению времени в мнимых величинах далеко не всем понятен и может вызвать возражения с традиционных философских позиций. «В "Краткой истории времени", - пишет в этой связи И. Пригожин, - Стивен Хокинг предлагает ввести мнимое время t =ict (напомним, что i2=-1, т. н. мнимая единица, - А. К.). Тогда c2dt2 переходит в -dt2 и исчезает различие в той роли, которую играют в интервале ds2 время и пространство. Фундаментальное описание осуществлялось бы в терминах геометрии, и трудности, связанные с Большим Взрывом, оказались бы связанными с неправильной концепцией времени: "реальное" время стало бы "мнимым" временем»[227]. Хотя сам Пригожин не разделяет такой радикальный подход, но очевидно, что в этом математическом приеме, с помощью которого Хокинг избавился от начальной сингулярности Вселенной, нет никаких коннотаций с бытовым или философским понятием мнимых (т. е. нереальных или воображаемых) сущностей.
Приложение 4.
Модель «Кошка Шредингера» и реальность квантовой механики.
Рассуждение Шредингера выглядит так. Представим, что в закрытой коробке, снабженной устройством, содержащим отравляющее вещество, сидит живая кошка. Это устройство реагирует на световой импульс, создаваемый отдельным квантом света (единичным фотоном). Этот фотон падает на т. н. полуотражающее зеркало, которое способно как отражать свет, так и пропускать его с вероятностью 1/2. Если фотон отразится, то ничего не произойдет, но если он пройдет сквозь зеркало, то запустит механизм, который убивает кошку, но пока коробка не открыта, невозможно узнать, жива кошка или уже мертва. Если бы речь шла о ситуации, в которой прохождение фотона сквозь зеркало носило бы вероятностный характер в классическом смысле, ничего парадоксального в этом рассуждении не было бы. Но в квантовомеханическом случае, когда, согласно соотношению неопределенностей, исход опыта в микромире (прохождение фотона) нельзя предсказать принципиально, его результат, проецируемый на макромир (жизнь или смерть кошки) носит такой же квантовомеханический характер, и получается, что принцип неопределенности распространяется в некоторых случаях (пусть сугубо модельных) на реальность макромира!
Иными словами, если судьба фотона (уровень микромира) описывается как результат суперпозиции двух его микросостояний, выражаемых «пси»-функциями Шредингера (прошел через зеркало – (y1) или отразился – (y2)), то получается, что и судьба кошки (объект макромира) описывается также суперпозицией двух состояний, но уже относящихся к реальности макромира – т. е. макросостояний жизни или смерти кошки. Данная суперпозиция «пси»-функций, соответствуя квантовой неопределенности микромира, проецирует эту неопределенность на поведение объектов макромира. Другими словами, кошка в этих условиях находится между жизнью и смертью до тех пор, пока не будет подвергнута прямому наблюдению, а её существование в этом эксперименте также представляет собой суперпозицию (т. е. квантовомеханическую смесь (а1y1+а2y2) двух макроскопических «пси»-функций состояния (т. е. y1 – жизни и y2 – смерти) макрообъекта, полученных как бы посредством увеличения квантовых микросостояний.
И точно так же, как вопрос, «что было на самом деле в квантовомеханической системе до опыта над ней?», с точки зрения квантовой механики некорректен, поскольку ответить на него можно только после измерений, дающих необратимый результат (т. е. «самое дело» возникает только в процессе измерений и интерпретации результатов эксперимента наблюдателем, а до этого можно говорить лишь о виртуальных возможностях), также и здесь – вопрос о жизни и смерти макроскопического существа в этом мысленном эксперименте тесно связан с наличием наблюдателя, производящего измерения. – В его отсутствие этот вопрос лишается смысла и речь может идти только о квантовой неопределенности и суперпозиции состояний. Реальный ответ рождается в акте наблюдения и в некотором смысле является результатом коллапса волновой функции, описывающей «квантовомеханическое» состояние кошки как одного из элементов совокупной системы: «фотон – кошка – наблюдатель».
Эту же ситуацию «макроскопической неопределенности» можно повторить, рассматривая несколько иную систему: «атом – кошка – наблюдатель», в которой сигнал к «убийству» кошки подается при акте распада отдельно взятого радиоактивного атома. Дело в том, что обладая вероятностной природой, процесс радиоактивного распада может характеризоваться периодом полураспада или вероятностью распада только в среднем, т. е. при наличии достаточно большого, статистически значимого, количества атомов. Отдельный акт распада – это типично квантовомеханическое явление, подчиняющееся соотношению неопределенностей, и это событие, следовательно, принципиально непредсказуемо. Сам Шредингер по этому поводу говорил, что момент распада отдельного радиоактивного атома ещё менее предсказуем, чем момент смерти здорового воробья. Поэтому и в данном опыте жизнь или смерть кошки, т. е. судьба макроскопического объекта полностью обусловлена принципом неопределенности, свойственным микромиру. - Квантовые закономерности (т. е. принципиальная неопределенность состояний объекта и, соответственно, суперпозиция этих виртуальных состояний) как бы транслируются на макромир.
Библиография
1. Агасси Дж. Революции в науке – отдельные события или перманентные процессы. // Современная философия науки. – М., 1996, с. 136 – 154.
2. О. Трансформация философии. – М.: Логос, 2001.
3. , Э. Синергетическое знание: между сетью и принципами. // Синергетическая парадигма. – М., 2000, С. 107-120.
4. А. Синергетика и философия о соотношении эволюции в физике и биологии. // Синергетика и методы науки. – СПб.: Наука, 1998, С. 179-186.
5. Пространство и время в физическом познании. - М.: Мысль, 1982.
6. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. - М.: Наука, 1982.
7. Башляр Г. Избранное: научный рационализм. – М.: «Университетская книга», 2000.
8. Бор Н. Избр. научные труды. – М., 1970.
9. Атомная физика и человеческое познание. - М., 1961.
10. Вероятность и достоверность. – М.: Наука, 1969.
11. Физика в жизни моего поколения. – М., 1963.
12. Синергетическая алгебра гармонии. // Синергетическая парадигма. – М., 2000, С. 121-137.
13. Брайен Д. Альберт Эйнштейн. – Минск: Попурри, 2000.
14. Сочинения. Т. 1, 2. – М.: Мысль, 1971.
15. К. Теория научного знания И. Канта. – М.: Наука, 1986
16. Вейль Г. Математическое мышление. – М., 1989.
17. О науке. – Дубна: «Феникс», 1995.
18. Визгин В.П. История и метаистория. // Вопр. философии, 1998, №10, С. 98-111.
19. , Ф. Очерки истории науки и техники. - М.:
20. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат; Философские исследования. // Философские работы. Часть 1. – М.: Гнозис, 1994.
21. Воронцов- Лаплас. - М.: Наука, 1985.
22. фон. Логика и философия в ХХ веке. // Вопр. Филос., 1992, №8, С. 80-91.
23. Вундт В. Введение в философию. – М., 1998.
24. Теория относительности для миллионов. - М., 1965.
25. Шаги за горизонт. - М., 1987.
26. Физика и философия: часть и целое. - М., 1989.
27. Г. Логика объяснения. – М.: ДИК, 1998.
28. Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории. // Вопр. Филос., 1998, №10, С. 88-97.
29. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск, 1994.
30. Девис П. Суперсила. – М: Мир, 1989.
31. Случайная Вселенная. - М.: Мир, 1989.
32. Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной. - М.: Мир, 1979.
33. Рассуждение о методе. // Сочинения в двух томах. – М., 1981.
34. ., Гваттари Ф. Что такое философия? – СПб.: Алетейя, 1998.
35. История химии. - М.: Мир, 1975.
36. , Что такое общая картина мира?. – М., 1984.
37. Биосфера и место в ней человека. - М.: Прогресс, 1975.
38. Космогония и ритуал. - М., 1993.
39. Естествознание - системность и динамика (методологические очерки). Сб. Отв. Ред. . - М., 1990.
40. Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет. // Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. - М.: «Языки русской культуры», 1999, С. 381-604.
41. История биологии с начала ХХ века до наших дней. – М.: Наука, 1975.
42. О природе живого: механизмы и смысл. - М.: Мир, 1994.
43. Синергетика и культурология. // Синергетика и методы науки. – СПб.: Наука, 1998, С. 201-219.
44. Кальоти Дж. От восприятия к мысли. - М., 1998.
45. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994.
46. Эксперимент, теория, практика. - М., 1981.
47. , , Г. Синергетика и прогнозы будущего. - М.: Наука, 1997.
48. Дао физики. - СПб., 1994.
49. Уроки мудрости. – Киев, 1996.
50. Философские основания физики. - М., 1971.
51. С. Логика, детерминизм и феномен прошлого. // Вопр. философии, 1995, №5, С.72-79.
52. Математика. Поиск истины. - М.: Мир, 1983.
53. Математика. Утрата определенности. – М.: Мир, 1984.
54. Без формул о синергетике. - Минск, 1986.
55. , Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. - М.: Наука, 1994.
56. Князева Е.Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научного прогресса. - М., 1995.
57. , Антропный принцип в синергетике. // Вопр. философии, 1997, № 3, с. 62-79.
58. Концепции современного естествознания. Ред. – М.: Академический Проект, 2006.
59. А. Синергетика искусства: системно-симметрологический подход. // Синергетическая парадигма. – М., 2000, С. 156-185.
60. П. Философия и методология науки. - Ростов-Дон, 1999.
61. Н. Методы и формы научного познания. - М., 1990.
62. Крафт В. Венский кружок. – М.: «Идея-Пресс», 2003.
63. История философии для физиков и математиков. - М., 1974.
64. Этюды о меганауке. - М., 1982.
65. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1975.
66. Объективные, ценностные суждения и выбор теории. // Современная философия науки. - М., 1996, с. 61 – 81.
67. И. Познание природы. - М., 1995.
68. , , Синергетика – теория самоорганизации: идеи, методы, перспективы. – М., 1983.
69. А. Универсальный эволюционизм или коэволюция. // Природа, 1988, №8.
70. Кутырев В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культура. // Вопросы Философии, 1996, № 11, С. 23-31.
71. Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967.
72. Лакатос И. Бесконечный регресс и обоснования математики. // Современная философия науки. – М., 1996, с. 106 – 135.
73. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. // В книге: Т. Кун. «Структура научных революций». - М.: Изд-во АСТ, 2001, С. 271.
74. Лангер С. Философия в новом ключе. – М., Республика, 2000.
75. Основания трансдисциплинарной единой теории. // Вопросы философии, 1997, № 3, С. 80-84.
76. Наука и ценности. // Современная философия науки. – М., 1996, с. 295.
77. А. Введение в историю и философию науки. – М.: Академич. проект, 2005.
78. А. Основы философии науки. – М.: Академический прект, 2005.
79. А. Философия науки: Словарь основных терминов. – М.: Академический Проект, 2006.
80. Лейзер Д. Создавая картину Вселенной. – М.: Мир, 1988.
81. Начала кибернетики. - М.: Наука. 1967.
82. Великие эксперименты в физике. - М., 1972.
83. О «механизме» течения времени. // Вопр. философии, 1996, №1, С. 51-56.
84. Оборотная сторона зеркала. - М.: Республика, 1998.
85. Ф. Философия, мифология, культура. – М.: Политиздат, 1991.
86. Внутри мыслящих миров. - М., 1996.
87. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. - М., 1992.
88. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2001.
89. Лукасевич Я. О детерминизме. // Вопр. философии, 1995, №5, С. 60-72.
90. В.
91. Макеева Е.В.
92. ,
93. К. Стрела познания. - М., 1996.
94. Мах Э. Анализ ощущений. – М.: «Территория будущего», 2005.
95. Сложность и самоорганизация. Возникновение новой науки и культуры на рубеже века. // Вопр. философии, 1997, № 3, С. 48-61.
96. Мелик- Информационные процессы и реальность. - М.: Наука, 1997.
97. Краткая история классической механики. - М., 1994.
98. Меррион Дж. Б. Физика и физический мир. - М.: Мир, 1975.
99. Новая эра в физике. - М., 1963.
100. Расставание с простотой. - М., 1998.
101. Н. Проблема возникновения системных свойств. // Вопр. философии, 1992, №11, С. 25-32.
102. Н. Человек и ноосфера. - М.: Прогресс, 1990.
103. Алгоритмы развития. - М.: Прогресс, 1987
104. Н. Логика универсального эволюционизма. \\ Вопр. Филос., 1989, с. 52.
105. Назаретян А. П. Интеллект во Вселенной. - М.: Недра, 1990.
106. В. В поисках иных смыслов. - М.: Прогресс, 1993.
107. В. Критика исторической эпохи: неизбежность смены культуры в ХХ1 веке. \\ Вопр. философии, 1996, №11, С. 65-74.
108. На грани третьего тысячелетия: что осмыслили мы, приближаясь к ХХI веку. - М.: 1994 .
109. Налимов В.В., Реальность нереального. - М., 1995.
110. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье. - М., 2000.
111. П. Объяснение – функция науки. – М.: Наука, 1970.
112. Л. Философия науки: история и методология. - М.: ДИК, 1998.
113. Пригожин И. Познание сложного. - М., 1990.
114. Ньютон-Смит В. Рациональность науки. // Современная философия науки. – М., 1996, с. 246.
115. Дисциплинарная структура науки, ее генезис и основания. - М.: Наука, 1988.
116. Пассмор Дж. Сто лет философии. – М.: «Прогресс-Традиция», 1998.
117. Философия сознания. – М.: ДИК, 1999.
118. Философы и человеческое понимание. // Современная философия науки. - М.: Логос, 1996, с. 221 – 225.
119. Пенроуз Р. Новый ум короля. – М.: УРСС, 2003.
120. Современная философия науки. Введение. - М., 1996, С. 5-17.
121. Закономерности развития науки. - М., 1995.
122. Религия и естествознание. // Вопр. философии, 1990, №8, С. 25-35.
123. Планк М. Избранные научные труды. – М.: Наука, 1975.
124. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М., 1985.
125. Р. Логика и рост научного знания. - М.: Прогресс, 1983.
126. Квантовая механика и раскол в физике. – М., 1998.
127. Р. Предположения и опровержения. – М.: «Ермак», 2004.
128. Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: УРСС, 2002.
129. Строл А. Философия. Вводный курс. – М., 1997.
130. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - М.: Прогресс, 1986.
131. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. - М.: Прогресс, 1994.
132. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. - М.: Наука, 1985.
133. Философия нестабильности. // Вопр. философии, 1991, №6, С. 46-57.
134. О науке. М.: Наука, 1983.
135. Человеческое познание. Его сфера и границы. – Киев, 1997.
136. Искусство мыслить. – М.: ДИК, 1999.
137. Философия пространства и времени. - М.,1985.
138. Науки о природе и науки о культуре. - М.: Республика, 1998.
139. Родин С.М. Идея коэволюции. - Новосибирск, 1991.
140. Очерки по истории естествознания. - М.: Наука, 1975.
141. Д. Античная наука. М., 1980.
142. Л. Физические закономерности и численные значения фундаментальных постоянных. \\ УФН, 1980, Т. 131, №2, С. 239-256.
143. Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск, 1997.
144. И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974.
145. И. Самоорганизация и организация в развитии общества. // Вопр. философии, 1995, №8.
146. Русский космизм. Антология философской мысли. - М.: Педагогика-Пресс, 1993.
147. Эволюционная этика. // Вопр. философии. 1989, № 8, с. 34.
148. Наука и религия: по-прежнему война? // Вопр. филос., 1991, №2, с. 36-57.
149. Рюэль Д. Случайность и хаос. – Ижевск., 2001.
150. Ф. Система. Симметрия. Гармония. – М., 1983.
151. Самоорганизация в природе и обществе. Сб. Ред. . - СПб., Наука, 1994.
152. Синергетика и методы науки. – СПб.: Наука, 1998.
153. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000.
154. Две культуры. - М.: Прогресс, 1973.
155. Современная философия науки. - М.: Наука, 1994.
156. Концепции современного естествознания. - М., 1999.
157. И. История химии. Развитие химии с древнейших времен до 19 века. – М.: Просвещение, 1976.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



