Ушел на фронт родной дядя, родной брат моего отца, Бекбаев Кожаберген, по прозвищу Киал. Его в детстве, за его резкий характер, прозвали Киал (по-казахски – капризный, строптивый), так он в официальных документах и остался – Киал. Он – мой добрый дядя, это у него мы какое-то время ютились, оставшись без отца. Он тоже не вернулся, его потомки указаны на схеме родословной Найман.
В связи со строительством Бухтарминской ГЭС село Баты (пристань), где стояла электростанция Чердоякского рудника, попало в зону затопления. Лишенный электроснабжения рудник был зоконсервирован на срок до пуска Бухтарминской ГЭС. Чтобы людей, проживающих в поселке, занять работой, организовали совхоз. В поселок Чердояк, где достаточно было жилых и производственных помещений, перевели центральную усадьбу совхоза. Почти все бывшие работники рудника, пожелавшие остаться в Чердояке, устроились работать в совхозе, в том числе и мой дядя Мукаш-ага.
Пришло время и нас, подростков 1924 года рождения, вызвали в райвоенкомат на приписку. Поехали вчетвером: Казбек, Кабыкен, Михаил Голованов и я. Прошли комиссию, все годны к службе. Предупредили нас, что выезжать никуда нельзя, кроме как на учебу.
Через месяц на собранные боны, их у меня оказалось 30, купил первый в моей жизни настоящий молодежный костюм, туфли, рубашек и поехал доучиваться на последнем курсе педучилища. После его окончания ни одного дня работать в школе не пришлось. 2 августа 1942 года был призван в армию.
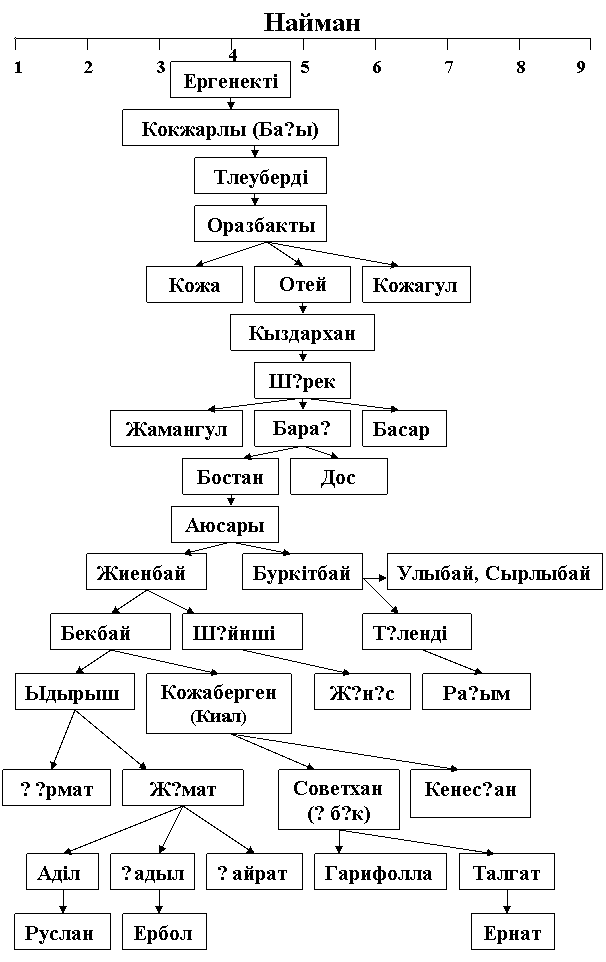
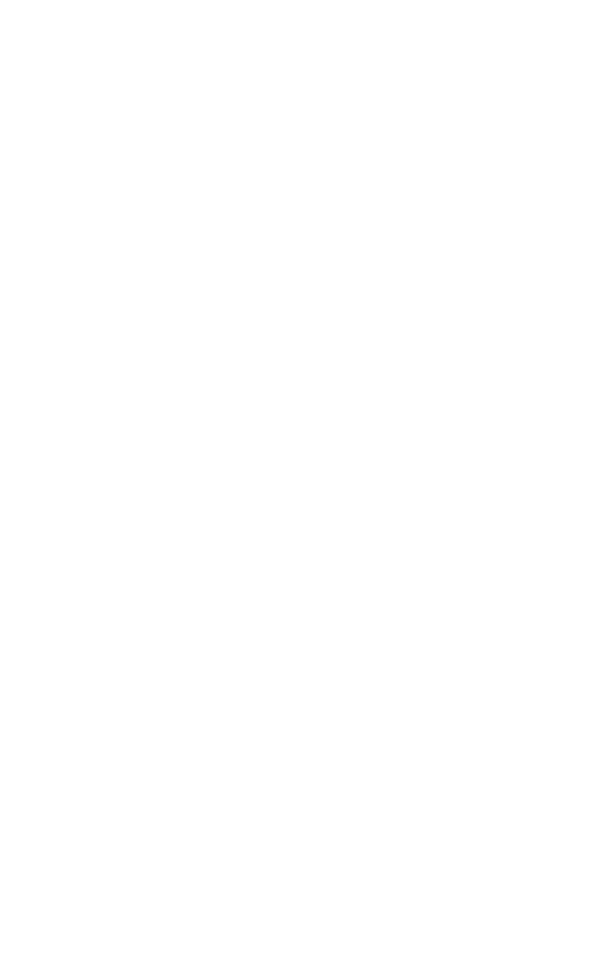
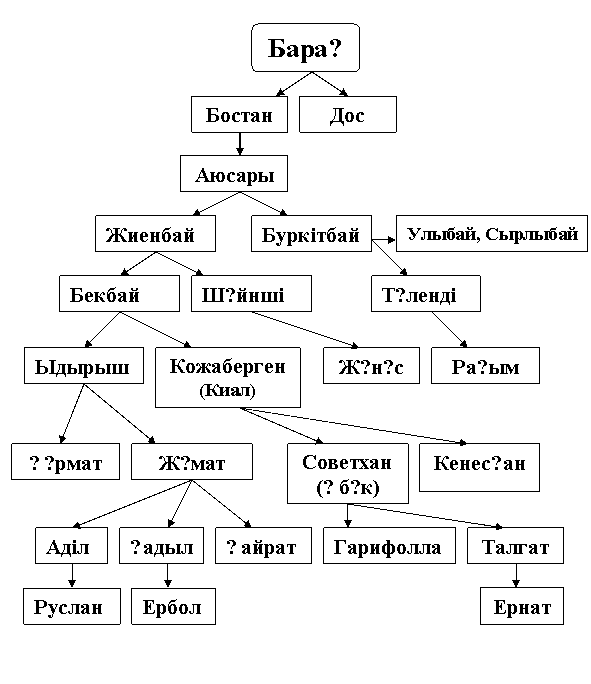
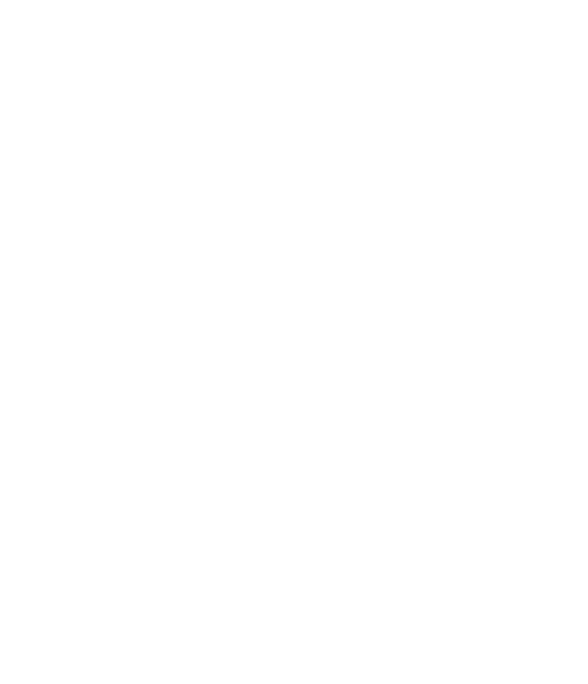
На Советско-Иранской границе
Туркмения
(одно событие 60-летней давности)
Государственная комиссия по распределению, по настоятельной моей просьбе, определила мне дальнейшее место службы - на Советско-Иранской границе, точнее, как тогда называли, в Туркменском пограничном округе. Части этого округа охраняли государственную границу от побережья Каспийского моря до границы современного Таджикистана.
Оперативная обстановка на Советско-Иранской границе была очень сложной. Во-первых, продолжалось послевоенное мироустройство. Многие бывшие колониальные государства, такие как Индия, Пакистан, ряд африканских стран добились независимости. Но продолжали поддерживать старые связи с метрополиями. В ряде центрально-азиатских стран находились еще военные базы Англии, Америки; сохранилась сеть резидентуры, созданная в этих странах фашистской Германией. Шла гражданская война в Китае, Синь-цзянь отделился от Китая и создал Восточно-Туркестанскую республику (ВТР), которая воссоединилась с КНР после победы Китайской Красной армии в 1949 году. Во-вторых, в самом Иране активизировала свою деятельность «Народная партия Ирана», которая выступала за упразднение шахской власти, и которая добилась этого почти через тридцать лет под руководством Аятоллы Хомейни. Активных членов этой партии иранские власти преследовали, поэтому, в поисках убежища, они в массовом порядке переходили на нашу территорию, где – открыто, а где – нелегально. На территории одной только части, отдельной Гауданской погранкомендатуры, которая охраняла участок границы протяженностью около 200 километров, ежедневно задерживали по 3-5 человек. Буквально, не успевали составлять первичные документы для передачи территориальным органам МГБ. Прикрываясь названием «Народной партии», проходили и контрабандисты, агентура иностранных разведок, и другие преступные элементы, которые искали какую-то выгоду.
Итак, первой остановкой на моём пути был Туркменистан. Недалеко от города Ашхабад военный городок в поселке Багир - первая отдельная Гауданская погранкомендатура. Лейтенант назначен помощником начальника разведки этой части. Моим непосредственным начальником был майор Нуруллин, вот имени не помню, тогда как-то не называли по имени и отчеству. Человек он добрый, сердечный, многоопытный разведчик. Живую работу начал я под его руководством. Он мне все объяснял иногда на русском, иногда на татарском языке. Но на любом языке сказанное им всегда было понятным.
Послевоенные годы, работа транспорта еще не отлажена. Графики движения поездов нарушаются. Пассажиров много, большие очереди за билетами. Из города Каменец-Подольск, где я окончил военное училище, пришлось добираться до Москвы (через Проскуров, Киев) трое суток. Доставались только багажные полки. Сто и более человек в пассажирском вагоне. Из Москвы до Новосибирска, оттуда пересадка на станцию Защита, далее пароходом «Мичурин» - до Славянки, чтобы заехать к родителям в поселок Ленинск. Обратный путь – причал Камышенка, до города Семипалатинска пароходом, пересадка на поезд Новосибирск – Ташкент. Офицерский вагон №6, плацкартный. В Ташкенте пересадка на поезд Москва-Ашхабад. И так на дорогу только до города Ашхабада потрачено 23 дня.
В коллективе отдела два татарина, один русский – Шаповалов, один армянин – старший лейтенант Дадашиян, два казаха – Жумагалиев из Гурьевской области и я, Рахимов – из Восточно-Казахстанской. Два татарина – начальник отдела майор Нуруллин и лейтенант Гафиатуллин. Где вы сейчас, друзья-однополчане?..
Когда называют Туркменистан, мы представляем: песчаные барханы, жара в 45 градусов, колючки перекати-поле, а ещё раньше – басмачи…. Вместе с тем в Туркмении много хорошего. Народ приветливый, гостеприимный. В любой дом зайдешь, покормят и ночлег дадут. Богат фруктами. Красивых коней выращивают, ахалтекинцев, на конезаводах. Замечательный курорт «Фируза», где стоит наша первая застава. Часть охраняет участок Советско-Иранской границы протяженностью около 200 километров. Имеет четыре заставы и оперативный пост (тоже застава, только немного в тылу), чтобы наиболее уязвимые направления охранялись в две линии.
На скуку времени нет. Информация поступает каждый час, обстановка иногда осложняется неожиданно. В один из таких дней наш отдел срочно собрал начальник отдела майор Нуруллин, это было во второй половине октября, числа не помню. Он нам рассказал: «По данным закордонного агента «Мусак» в ночь со среды на четверг на нашу сторону должны перейти два опытных контрабандиста, их имена: Жаббар и Мустафа. Предполагаемый участок нарушения границы - западнее Гауданского переезда с выходом в аул Аннау. Сегодня уже пятница. Мы опоздали на двое суток. Надо полагать, что они уже у нас в тылу. Начальник войск приказал:
1. Границу охранять круглосуточным нарядом.
2. Проводить активный поиск прорвавшихся контрабандистов в нашем тылу в усиленном варианте, используя войсковые и оперативные возможности.
3. Обстановку докладывать через каждые четыре часа, а важные изменения – немедленно.
Для организации вышеуказанных мероприятий командируем вас по заставам:
- Застава №1 «Фируза» - лейтенант Гафиатуллин;
- Застава №2 «Каранки» - лейтенант Шаповалов;
- Оперативный пост «Аннау» - лейтенант ;
- Застава № 3 – старший лейтенант Реджепов.
В штабе остается старший лейтенант Дадашиян. Сбор по тревоге, транспорт – до заставы на машинах. На местах, по приезду на заставу, на конях.
В субботу утром поступило первое донесение от Шаповалова, застава №2, что: «пограничный наряд в 12 километрах от линии госграницы, в нашем тылу, обнаружил двух саврасых (песчаный окрас) лошадей, брошенных в загнанном состоянии. Они еле передвигаются. На заставу доставить не смогли».
Лошадей взяли под круглосуточную охрану. Тщательно осмотрев близлежащую к ним местность, ничего не обнаружили. Пытались пустить собак, но они след не берут. Поиск продолжается, отдыха нет. Прошло двое суток. Люди устали. В воскресенье к вечеру с оперативного поста «Аннау» донесли, что «наш агент встретил знакомого курда-терякеша (наркомана), который рассказал ему, что «братья терякеши три дня продавали теряк (опий-сырец) по рублей за золотник. Якобы привезенный из Ирана. Кто привез – не сказали».
Продолжали поиск на базарах, маршрутах городского и пригородного транспорта. Опросили всех терякешей, проживающих в городе и окрестных поселках, особое внимание - на поселок Киши. Поселок Киши поручается Даулету, он знает почти всех жителей. Даулет, молодой туркмен, уроженец города Ашхабада, несколько лет работает переводчиком. Выезжает вместе с офицерами, не владеющими туркменским языком.
Звонки, вопросы, требования активизировать работу по поиску идут без перерыва. Не успеваем отвечать на звонки четырех телефонных аппаратов. Иногда все четыре звонят одновременно, берем обеими руками и отвечаем.
Вдруг заходит часовой у штаба, солдат-пограничник Нестеров, докладывает: «Товарищ лейтенант, к вам просится девушка. Объяснял ей, что вы очень заняты. Она настойчиво говорит, что ей нужна лишь одна минута». Подумал сразу, что она может что-то сказать по обстановке. Поэтому часовому говорю: «Ладно, проводите». Заходит молодая, красивая смуглянка. Увидев бесконечные звонки телефонных аппаратов, засмущалась, стоит, молчит. А мне невтерпеж выслушать, что она скажет: «Присаживайтесь, слушаю Вас».
Она начала рассказывать, что на днях встретила знакомую девушку - казашку (из Казахстана), от неё узнала, что «в вашу часть из Казахстана приехал молодой офицер», поэтому решила «встретиться с Вами и узнать новости о нашей родине. Я ведь тоже из Казахстана, Алматинской области поселок Чунджа, зовут меня Насима Хасанова, по национальности уйгурка. Училась в Алма-Ате, в театральном училище. После окончания по распределению попала в Туркмению». Что ей сказать? В двух словах не расскажешь, а тут такая обстановка! Назначить время и встретиться, а когда это удастся? Обдумал все и решил просить у неё визитную карточку (адрес, как её найти), о чем и сказал. Она с удовольствием дала адрес Ашхабадской филармонии и адрес общежития. Я извинился, что не смог уделить ей больше времени, и она ушла.
Во второй половине дня, в понедельник, Даулет доложил, что приезжие из Ирана (нарушители границы) Жаббар и Мустафа намерены возвращаться во вторник или среду в ночь. Места пребывания их никто из встретившихся не знает. Источник высказал предположение, что контрабандисты живут по разным адресам. Мустафа по национальности курд, уроженец Туркменистана. В 1943 году в составе советских войск попал в Иран. Изменив родине, бежал из части и остался на постоянное жительство в Иране. Город знает хорошо. Все пригородные поселки и дороги ему знакомы. Это усложняет поиск. Вероятным местом их встречи может быть район крутого лога, где выращивают бахчевые (арбузы, дыни), там имеется избушка (шалаш) бахчевника.
Складывается следующая обстановка:
1. Дорогой, по которой они перешли на нашу территорию и двигались по нашей территории, они возвращаться не будут. Выберут другую, скорее всего на участке заставы №3, чтобы выйти к источнику воды (колодцу) на иранской территории, расположенному в квадрате 3289.
2. Необходимо уплотнить войсковым нарядом участок заставы №3. Не медля направить на усиление заставы 17 человек, трех офицеров и четырнадцать солдат, пограничников старослужащих с собаками и голубями.
3. Заложить засаду в районе бахчи круглосуточно.
4. Обстановку и наши решения доложить командующему войск округа.
Поиск продолжается…
С наступлением темноты в районе крутого лога установлена засада из трех пограничников, старший наряда лейтенант Реджепов. Он находился у шалаша со сторожем-бахчевником. Пограничники напряженно смотрели в ночную темень. Не видно ни зги. Прошел час, другой, и в первом часу ночи Реджепову показалось, что среди зарослей бахчевых что-то периодически поднимается и опускается. Он решил зайти в шалаш и зарядить пистолет, но при вставлении магазина в рукоятку пистолета «ТТ» получился выстрел, огласивший всю окрестность. Услышав выстрел, от шалаша бросились бежать какие-то люди. Пограничники с засады прибежали к шалашу, растерянные, не поняв, что происходит.
Реджепов только теперь понял, что поднимали головы сами пограничники, ведущие наблюдение за полем. А бежавшие с другой стороны шалаша могли быть нарушители. Стал кричать: «Стой! Стой!». Произвел несколько выстрелов в сторону бежавших. Все! Ушли. Получилось, что сами дали сигнал, что «мы здесь, уходите!». Реджепов одного пограничника отправил на заставу, чтобы доложить обстановку, а сам, с другим, решил преследовать убегающих. Кто они? Если не нарушители, почему убегают?
Много вопросов, конкретного ответа нет. Время не терпит. Решил ехать к границе, постараться перехватить выход из ущелья, куда выходят (сходятся) дороги с трех сторон. Из трех дорог левая и правая проходят по более равнинным местам, но на несколько километров дальше, зато двигаться можно быстрее. Средняя дорога идет по ущелью, трудная, а в ночь даже опасная, крутые скалы, осыпи и др. Реджепов поехал по правой, которая подальше, но легче преодолевать. Время за полночь. Пограничники двигаются как можно быстрее.
На заставе, выслушав доклад связного Реджепова, решили: по левой, ровной дороге направить наряд лейтенанта Гафиатуллина – на опережение, по ущелью направить наряд лейтенанта Рахимова.
Все три возможных пути движения нарушителей захватили наряды. Теперь только опередить у выхода из ущелья, а там граница рядом. Время – около трех часов. Едем по ущелью.
Когда стало светлее, под утро, стали замечать признаки следов нарушителей в виде перевернутых камней, помятой растительности на песчано-каменистой тропе. Ускоряем движение, с коней выжимаем плетью и шпорами, требуем: быстрее, быстрее!.. Утром, в шестом часу, издали заметили, что тропа завалена камнями, осыпающимися с правой стороны (со скал), камнепадом. Подъезжая ближе, увидели в пропасти сначала лошадь, потом и человека, оба искалечены, двигаться не могут.
Человека из обрыва вытащили, он оказался Жаббаром, гражданином Ирана, нарушившим границу вместе с Мустафой. Времени было - получить ответ только на один вопрос, где Мустафа? Он показал рукой, что «уехал туда». Задержанному связали руки и ноги, положили солдату на седло, решив, что он будет двигаться, как сумеет. А Рахимову на самой большой скорости преследовать нарушителя. Теперь стало понятно, что Мустафа едет по этой дороге, а до границы осталось всего около девяти километров, из них более четырех километров – по ущелью, дорога каменистая, трудная.
Но, вперёд, Курмат! Помчался, как дорога позволяла. В начале восьмого часа вышли из ущелья, и на следующем перевале увидел наряд Реджепова, преследующего нарушителя, примерно в полукилометре правее меня. Время – восемь утра. Реджепов преследует впереди меня на триста-четыреста метров. Слева выскочил наряд Гафиатуллина. Все три наряда преследуют одного нарушителя. Мустафа, теперь мы сознаем, старается пересечь границу. На самом близком расстоянии к Мустафе – Реджепов, затем Гафиатуллин, я немного отстаю. До границы осталось восемьсот метров. Кричу: «Реджепов, стреляй!». Реджепов выстрелил, а конь, видимо, не приученный, чтобы с него стреляли, потащил Реджепова в сторону.
Теперь к нарушителю ближе всех стал Гафиатуллин. Кричу громко: «Гафиа-ату-уллинн! Именем Союза Советских Социалистических республик, стреляй!». Очередь с автомата и всадник свалился, а конь его отскочил несколько раз, стал как вкопанный и стоит. Подъехали к лежащему на земле нарушителю все трое одновременно. Мустафа был мертв. До линии государственной границы оставалось около трехсот восьмидесяти метров.
«Государственная граница СССР – священна и неприкосновенна, она охраняется на земле, в воздухе и на море» - из инструкции по охране государственной границы СССР.
В итоге напряженной работы в течение почти недели, охраняя границу по усиленному варианту, задержали нарушителей границы, одного живьем, второго убитым; двух лошадей, одну оставили в ущелье, куда она провалилась, на второй привезли двух седоков-задержанных, около 500 грамм нереализованного опия, - все это доставили на заставу №3.
В кавалерийских частях считают, что конь – боевое оружие, а не только средство передвижения. Если бы наши кони были резвее и выносливее, мы нарушителей настигли бы раньше и привезли бы живыми. А так подобрали убитого и покалеченного. И после оформления всех, предусмотренных инструкцией документов, доставили в часть. Служба перешла на обычный, нормальный режим. Предстояло провести опознание задержанных, опознание лошадей. Сдать на анализ опий на схожесть реализованного и остатка, найденного в переметках Жаббара. Найти свидетелей-покупателей было не трудно, тогда в Туркмении за употребление теряка не наказывали, не было закона.
Не вдаваясь в подробности, остановлюсь на том, как все это событие произошло. После того, как искалеченного Жаббара вылечили, на допросе он рассказал подробности их перехода на нашу территорию. Оказалось, что собираясь в Советский Союз, они два месяца готовили коней, приучали их есть кислое молоко, постепенно добавляя в него дозу теряка. Дозу постепенно увеличивали. К концу второго месяца давали по полтора-два литра молока и столовую ложку опия-сырца (разведенного). Подготовленная таким образом лошадь за пять-шесть часов преодолевала тридцать километров пустынно-песчаных барханов. Переехав (преодолев) государственную границу лошадей оставляли (они редко выживают). Так получилось и с теми лошадьми, которых мы находили.
Возвращаемся в часть и приступаем к своим обязанностям. Но уйгурку-то найти надо. Дождавшись субботнего вечера, вместе с Даулетом едем в Ашхабад. По адресам находим общежитие и в одной из комнат – Насиму с подругами. На столе – тексты песен, ноты, музыкальные инструменты. Поздоровавшись, обменявшись приветствиями, спрашиваю Насиму, чем они так весьма срочно занимаются. Девушки дружно отвечают, что готовятся к завтрашнему концерту в войсковой части. А, поскольку военнослужащие в основном русской национальности, им дали задание, чтобы каждая из солисток исполнила по одной песне на русском языке. Насиме досталась:
В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам струится
Русая коса.
Русые косички
Думы без конца.
Вот она ласкает
Старика-вдовца.
Старый, ну и что же,
Пусть осудит мир.
Он притом гусар же,
Ратный командир.
Вот ноты, вот слова. Мне когда-то приходилось петь эту песню на фронте, в блиндаже. «Давайте попробуем вместе спеть». И мы спели хором несколько раз, получилось неплохо. Сегодня подготовка, завтра – концерт. Так не будет времени и поговорить-то с Вами. Хотелось бы подробнее узнать, кто Вы, откуда, как здесь оказалась одна. Кто у Вас в Казахстане, чем они заняты, другие сведения в пределах возможного. Она на меня смотрит, молчит. Я – на неё, разглядываю критически, все ли красиво на её лице. Прямой нос, круглые черные глаза, готовые заплакать. Густые черные волосы. Одеть бы, думаю, ей казахскую национальную одежду, как бы хорошо подошла. Не могла бы она быть матерью моих будущих детей?..
Вдруг слышу, что она говорит: «Если позволите, на все ваши вопросы я отвечу при следующей встрече. Сегодня нам просто некогда. Поймите, пожалуйста, завтра ответственный день». Этими словами она назначила ещё одну встречу.
На следующий день всех нас: меня, Гафиатуллина и Реджепова приглашает командир пограничной части подполковник Патрикеев (все звали его батей). С участием офицеров части сделан разбор проведенной операции по поиску и задержанию нарушителей границы. Поблагодарил нас за результаты, обещал представить к поощрению правами начальника войск (пограничного округа). Когда он начал рассказывать о случайном выстреле, произведенном Реджеповым, поднялся хохот. Все офицеры смотрят на Реджепова – что, мол, не сигнал ли дал контрабандистам – «спасайтесь!». А в заключение спрашивает у членов военного совета, как они считают, кого из офицеров и к каким видам поощрения представить. Обычно это: часы, деньги, грамота, благодарность и дополнительный отпуск до десяти дней. Когда члены военного совета высказали свои предложения, командир обратился к нам, исполнителям операции: «Рахимов, ты давал команду стрелять?». Отвечаю: «Так точно, товарищ подполковник, дал команду, потому, что до границы оставалось меньше пятисот метров, чувствуем, что не догоним, а он ни на окрики, ни на выстрелы вверх не останавливается. Если он хоть на одну секунду раньше нас достигнет линию государственной границы, мы получим «двойной прорыв» - к нам и обратно, а преследовать его и, тем более, стрелять на сопредельной территории мы не имеем права». Все офицеры согласились с тем, что действия мои соответствовали требованиям инструкции. «Значит, Рахимова представляем…» - не успел командир продолжить свою мысль, я поднял руку. «Что хотел сказать?» - обратился он ко мне. «Товарищ подполковник, я бы считал самым лучшим поощрением ваше ходатайство о переводе меня в Казахстан. Мои престарелые родители постоянно пишут, чтобы я демобилизовался, но как я это могу, только что окончив военное училище, ставить вопрос о демобилизации? Просил их сюда переехать, чтобы быть всем вместе, они не хотят, боятся, что климат не перенесут. Вот в таком я затруднительном положении» - закончил я свою просьбу. Члены военного совета, один за другим, поддержали мою просьбу и решили ходатайствовать о переводе меня в Казахский пограничный округ. Я был этому рад. Поблагодарив членов военного совета, пообещал им служить в Казахстане тоже как положено советскому офицеру.
Вопрос о моем переводе решался долго. Сначала оформляли ходатайство в части. Долго доказывали, обосновывали свое решение перед округом. Затем в округе согласовывали решение с Москвой. Прошло больше двух месяцев, пока наконец-то перевод разрешили. Начал сдавать все, что за мной числилось: документы, имущество, живые и неживые средства разведки.
Теперь надо найти Насиму и сказать, что уезжаю в Казахстан. Не часто мы встречались с ней, так как она работает, в основном, вечерами (концерты, репетиции). Я же бываю занят и днями, и вечерами. Поэтому толком и поговорить-то не пришлось. Приехал в Ашхабад, знакомое здание госфилармонии. Захожу и вижу кучу девчат: туркменки, узбечки, русские и одна уйгурка – Насима, она, догадавшись, вышла за мной. Сообщил, что получил перевод в Казахстан и, не успев спросить, не желает ли она поехать со мной, как она бросилась ко мне и умоляюще просит взять её с собой в Казахстан. Откровенно говоря, я немного подрастерялся от неожиданности. Как, в качестве кого брать её? Это искреннее, откровенное предложение руки и сердца, или?.. Не осмелился я откровенно спросить, как её брать, как невесту или просто попутчицу? В любом случае нужно ей помочь. Пошли к администратору филармонии, где я и сказал о переводе в Казахстан, и, если можно, заберу с собой Насиму. «Ну что, молодые люди, мира, добра и любви. Сегодня же рассчитаем её».
Покидая Ашхабад 29 февраля мы не знали и не могли знать, что через несколько месяцев здесь произойдет страшная катастрофа. Но о катастрофе – позже.
Лепсинск, Зайсан, Покровка
На станции Алма-Ата-I нас встретил отец Насимы. Плотный, среднего роста мужчина, примерно пятидесяти лет. После взаимных приветствий мы разошлись: они к себе домой, а я за назначением в управление погранвойск, где мне предложили такую же должность в Лепсинской отдельной погранкомендатуре.
Бывший город Лепсинск, центр Лепсинского уезда, располагался на слиянии двух рек: мощной и бурной реки Лепса и тихой, журчащей речки Буленьки. В свое время город был довольно шумный. Были здесь промышленные предприятия, проходили ярмарки, организована государственная торговля. Хорошо оснащенная больница и несколько школ с русским, казахским и татарским языками обучения. Город делили: казачья станица («шушка булак» - свиной ручей) и татарский аул, каждый из них занимал определенную часть города. В тридцатые годы Лепсинский уезд подвергся административной реформе, и из уезда получилось четыре района: Саркандский, Андреевский, Дзержинский и Алакульский. А сам город превратился в село. В этом-то селе и располагалась воинская часть, в которую меня назначили. Командир части – подполковник Кочетков, лет сорока пяти, и видно, что вся его служба проходила в пограничных войсках. Среднего роста, подтянутый, старый кавалерист. Его заместитель, теперь мой непосредственный начальник и тоже подполковник, , встретили меня хорошо. Позаботились обо мне, выделив из офицерской гостиницы небольшую комнату, очень скромно обставленную мебелью.
В части был единственный казах, старший помощник Михайлова, старший лейтенант Тусумханов Ахатай, женат на татарке по имени Жавгар Шакировна Гафурова, у них годовалый сын – Мурат. По мусульманскому обычаю Тусумхановы первыми пригласили меня в гости. Я познакомился с этой доброй, гостеприимной семьей, которая впоследствии стала нашим самым ближайшим другом на всю жизнь. Мы поддерживали добрую, дружескую связь до конца их жизни. Жавгар Шакировна – медик, работала заведующей больницей. Она и принимала мою старшую дочь в роддоме, поэтому мои дети называли её бабушкой. Она была достойна этого. О моих детях заботилась, как о своих.
Ахат-аға вместе с Жавгар-апай вырастили двух сыновей. Мурату сегодня, когда я пишу эти строки, исполнилось 62 года. Он окончил Рижский авиационный институт. В настоящее время работает вице-президентом одной авиакомпании, обслуживающей туристов, побывал во многих странах мира. Проживает в Алматы (так теперь называют город Алма-Ата). Вместе с женой Жанной вырастили двух сыновей-молодцов. По старой привычке, как и к его родителям, заезжаю к ним каждый раз, когда приходится бывать в Алматы, созваниваемся регулярно. Второй сын Ахата – Алик, увлекся велоспортом. Имел хорошие результаты, мастер спорта, выступал на международных соревнованиях. В настоящее время работает государственным тренером по велоспорту, живет в Астане.
В эту часть в течение одного года пришли четыре молодых офицера. Один, русский, Таратунин, работал начальником физподготовки, второй, украинец, Цвилый, заместитель начальника заставы, военфельдшер Ахметов Абдикарим и я. Все мы подыскивали себе будущих подруг.
Раньше других я встретил девушку красивой внешности, доброй души, человечного характера. Удивительно выдержанная, терпеливая и тактичная. Её звали Раиса (по-татарски – Рәисә). Раисе только исполнилось 18 лет и мы поженились. С ней прожили вместе 58 лет и 23 дня. Вырастили двоих дочерей. Она мне помогала и поддерживала всегда и во всем. Все трудности нашей жизни преодолевали вместе. Она заботилась и о моих престарелых родителях, встречала моих родственников (коих великое множество) и друзей. Я никогда не слышал от неё обиды на то, что мы - народ небогатый, скорее, скромный. Что имели, тем и были довольны. Она все умела делать: кроить и шить, вязать и вышивать, стряпать всевозможные деликатесы и готовить вкусные блюда. Во всем было видно, что она получила хорошее воспитание в семье. Мне нравилось воспитание детей в татарских семьях, они их с малых лет готовили к жизни. Девочек учили выполнять женскую, а мальчиков – мужскую работу.
Через несколько месяцев Ахметов привез выпускницу женского педагогического института. Её звали Дариха. Итак, в течение одного года вместо одной стало три казахских семьи. Жить стало веселей. Работаем каждый на своем участке. Мы занимаемся кавалерийской подготовкой. Это одно из главных занятий, поскольку часть – кавалерийская, и за всеми нами закрепили коней. На них мы и ездим по заставам.
Все шло нормально, без особых изменений. Пока не услышали сообщение ТАСС, где говорилось: «6 октября 1948 года в 2 часа 17 минут по местному времени в районе города Ашхабада Туркменской ССР произошло землетрясение, силою до 9 баллов. В результате землетрясения в городе Ашхабаде имеются многочисленные жертвы». Другой подробной информации не было. Много позже слышал рассказ очевидцев, что в результате этого землетрясения за несколько секунд 130-тысячный город Ашхабад был полностью уничтожен стихией.
Я, конечно, задумался, что бы могло случиться, если бы я в эти дни был в Багире, всего в 8 километрах от Ашхабада. Родители настойчиво и неоднократно требовали моего увольнения с военной службы и приезда домой, что и было причиной моего перевода. Командование части тоже легко, на мой взгляд, согласилось на мой перевод в Казахстан. Вот я жив и здоров, а мог бы и погибнуть вместе с теми же офицерами и солдатами, которые остались там. Значит, позволено было судьбой мне ещё жить…
В первых числах ноября неожиданно получил письмо от Насимы. Она узнала мой адрес от пограничников и по настоянию отца написала это письмо. Насима устроилась работать в алматинскую филармонию. Туда же после землетрясения приехали работать многие из артистов разрушенной ашхабадской филармонии. Они рассказывали, что в тот день, когда в Ашхабаде произошло землетрясение, бригада артистов находилась в городе Красноводске с концертом. На второй день, 7 октября, из закавказских республик переправляли через Каспийское море и дальше поездом военнослужащих для проведения спасательных работ в Ашхабаде. И эта бригада приехала вместе с военными. Все, что произошло, увидели своими глазами. Города не было. Были одни развалины, вокруг которых ещё лежали трупы погибших. Здание филармонии также было разрушено. Город походил на огромное кладбище. Представители власти Ашхабада работников культуры, оставшихся в живых, распределили по республикам временно, до восстановления города. Так они попали в алматинскую филармонию. Отец Насимы, узнав о трагедии в Ашхабаде, заставил её написать мне письмо. Он в благодарность за то, что я помог Насиме выбраться из Ашхабада и спас от возможной гибели, хотел подарить мне скакуна. Сам он много лет работал табунщиком колхоза, но имел и собственных коней. Я от души поблагодарил его, но от подарка отказался.
Прибывший в Ашхабад в составе воинской части из Закавказского военного округа для проведения спасательных работ рассказывал, что они в Ашхабад прибыли вечером 7 октября. Вместо города – одни руины, еще не успели подобрать оставшихся в живых раненных, многие их них лежали в одной куче с умершими. В городе не было электричества, городской транспорт не ходил, дороги завалены. Несколько грузовых автомобилей увозили подобранных пострадавших на окраину города, где была организована медицинская помощь. Продуктов нет, магазины разрушены, оставшиеся в живых голодают. Пришлось срочно разворачивать солдатскую походную кухню и хлебопекарню. Из уцелевших в городе были здания ЦК Туркменистана, старая мечеть и двухэтажное здание тюрьмы. Полностью погиб личный состав стоявшей на окраине города воинской части. Рухнувшая солдатская казарма похоронила всех, кто там был. К концу дня 8 октября расчистили некоторые улицы и запустили по городу грузовые машины, в основном, для вывоза погибших в братскую или общую могилу, а также для доставки продуктов. Спасательные работы продолжались до конца октября, а строительные затянулись надолго. Надо было восстанавливать или заново отстраивать весь город: правительственные, медицинские, торговые, жилые и другие здания. Восстанавливать связь, электричество, транспорт. Все это делалось силами специальных воинских частей и подразделений. «Об Ашхабадском землетрясении 1948 года» - так называется книга академика Д. Наливкина, который в ту ночь, 6 октября 1948 года прибыл в командировку из Москвы и ночевал в здании ЦК Туркменистана. Он пишет, что первый страшный толчок был во втором часу ночи. «Когда я пришел в себя, то понял, что еще стою у открытого окна и держусь за раму, а за окном было что-то невероятное, невозможное. Вместо темной прозрачной ночи передо мной стояла непроницаемая молочно-белая стена, а за ней ужасные стоны, вопли, крики о помощи. За несколько секунд весь старый, глиняный, саманный город был разрушен, и на месте домов в воздух взметнулась страшная белая пелена пыли, скрывая все». Эпицентр землетрясения, мощностью 9-10 баллов, находился у селения Кара-Гаудан, примерно в 25 километрах юго-западнее Ашхабада. Там на поверхности земли образовались огромные трещины до 1,5-2 метров ширины и очень длинные по продолжительности. Позже в советской прессе упоминалась официальная цифра жертв землетрясения – 40 тысяч человек. Разные источники указывают на то, что реальная цифра была почти втрое больше и достигла 110 тысяч. В число жертв не были включены погибшие в других населенных пунктах, военнослужащие и заключенные. Некогда цветущий, утопающий в зелени город Ашхабад был разрушен за несколько секунд.
События в мире бывают разные, а служба идет. Ей занимаемся постоянно. Лепсинская погранкомендатура охраняла участок государственной границы протяженностью около 120 километров. Она проходила по территории Капальского, Аксуйского, Саркандского, Андреевского и Дзержинского районов Талды-Курганской области. Некоторые наши мероприятия нужно было согласовывать с руководством этих районов, поэтому нередко приходилось бывать в командировках.
Однажды я встретился с отцом бывшего акима Северо-Казахстанской области Таира Мансурова. Он работал тогда секретарем Саркандского райкома комсомола. Энергичный молодой человек, организатор и активный участник молодежных мероприятий в Саркандском районе. В Сарканде была наша (воинской части) перевалочная база, склады и весь автотранспорт находились там. От Сарканда до Лепсинска зимней дороги для автотранспорта не было. Поэтому все грузы, поступающие по железной дороге, до Сарканда доставляли на автотранспорте, а от Сарканда до Лепсинска – на гужевом транспорте. В связи с этим мы, пограничники, в Сарканд приезжали чаще, чем в другие районы. И у нас сложились хорошие отношения с молодежью Саркандского района и с их вожаком – Мансуровым.
Как я познакомился с будущей женой
В татарских аулах заведено было так, что когда подрастают девчонки, кто-то из более состоятельных семей созывают молодежь на чай. Хорошо подготовленный стол, в изобилии всякая стряпня, выпечка (треугольнички, беляши, чак-чак и много другого), и, конечно, без спиртного. В ходе чаепития знакомят всех приглашенных, потом шутки, песни, игры.
На этот раз инициативу проявила дочь зажиточного, по тому времени, татарина Хусаинова – Наиля Галимовна. Красивая татарка, окончив педагогическое училище, отработала уже один учебный год в школе. Грамотная, общительная она и вела этот вечер с начала до конца. Её избрали старшей, что позволяло ей назначить первого исполнителя - бросить платочек любому, по ее выбору, парню. А потом уже по очереди исполняли что-кому достанется или на выбор исполнителя: спеть, сыграть на каком-либо музыкальном инструменте, рассказать какой-то забавный случай или стихотворение любого поэта. Мне досталось выступить третьим, предложено было спеть любую песню, хотя бы один куплет. Подумал, как бы не оконфузиться. Спою-ка привычную, которую постоянно пели в училище, из кинофильма «Небесный тихоход»:
Однажды вечером, вечером, вечером,
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего.
Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сем,
И нашу песенку любимую споем.
Пора в путь дорогу…
Конечно, были бурные аплодисменты. С этого вечера я пошел провожать свою Раю. Попутно предложил зайти к Тусумхановым, она согласилась, потому что тоже их хорошо знала. Когда зашли в дом, нас встретила Женгей (так уважительно называют жен старших по возрасту братьев или знакомых). Я ей сказал, что привел показать невесту. Она в восторге повторяла: «Аузыңа бал, аузыңа бал», что означает «мед в твои уста», так говорят, когда желают, чтобы что-то свершилось. Это была, конечно, шутка, а впоследствии так и получилось. Мы нашли общий язык.
Через пару месяцев после этого вечера я поехал в командировку, а когда через 20 дней вернулся, мне сказали, что Раю увезли в город Джамбул. В Лепсинск приехала родная сестра ее мамы (мама Раи умерла от родов второго ребенка, мальчика, когда Рае было 2 годика; братик тоже прожил недолго). Раю растила и воспитывала ее бабушка по отцу. Отец Раи – Абдулла Гереевич Вишняков женился второй раз. Мачеху звали Файруза Камалтиновна, она-то и не давала согласия на то, чтобы Рая вышла замуж за казаха. Вот поэтому приехавшая мамина сестра и решила увезти Раю в Джамбул, якобы на учебу в технологический техникум. Так Рая оказалась в Джамбуле.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |



