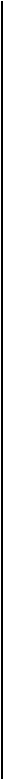
КИНО
И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ:
методологические
проблемы
ВОРОНЕЖ ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
- 1987
Монография посвящена роли современного кинематографа в формировании гармонически развитой личности. На примерах из опыта работы преподавателей средней и высшей школы раскрываются основы методики воспитания с помощью экранного искусства, дается представление о содержании, задачах, системе кинообразования, его принципах и формах.
Книга рассчитана на киноведов и кинофикаторов, педагогов, студентов гуманитарных вузов, слушателей народных киноуниверситетов, членов киноклубов, на всех, кто интересуется проблемами эстетического воспитания.
ВВЕДЕНИЕ
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Воронежского университета
Научный редактор — канд. искусствоведения
Рецензенты:
доктор педагогических наук 3. С. Смелкова,
кандидат искусствоведения ,
лаборатория воспитания школьников средствами кино и ТВ
НИИ художественного воспитания АПН СССР
Пензин и эстетическое воспитание: методологические проблемы. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 19с.
Издательство Воронежского университета, 1987
Кино — это особый мир. Жизнь любого из нас проходит под знаком кино. Каждый может по желанию (в кинотеатре или дома) «выключиться» из будней и перенестись в иную реальность — экранную. Зачем? Мы хотим знать как можно больше. нового — новых людей, новые факты. Экран расширяет наш кругозор. В нас сильна жажда красоты, а талантливый фильм — конденсат прекрасного. Не будем пока останавливаться на других причинах всеобщей любви к кино, отметим лишь, что это самое доступное, могущественное и одновременно самое уязвимое, нуждающееся в защите искусство.
От кого его защищать? Прежде всего — от... самого себя. Кинокартины, как и их создатели, отличаются характером, темпераментом, запасом энергии. «Сильные» фильмы, как ледоколы во льдах, легко обеспечивают себе путь на экран, собирают громадные аудитории, надолго захватывают кинозалы. «Слабым» среди них пробиться трудно. Все было бы просто, будь «сильные» всегда достойными, а «слабые» — плохими картинами. Чаще это не так. «Сильный» фильм, как правило, — это захватывающий сюжет, обаятельные актеры, бойкие шлягеры в исполнении популярных певцов, экзотические места действия и множество иных приманок. В итоге многогранный и многозначный мир кино для значительной части зрителей сводится к участку до обидного малому: к развлечению.
Судьба фильмов, которые завоевывают призы на фестивалях, получают высокую оценку прессы и общественности, проблематична. Они могут долго пролежать на полках филь-мохранилищ. Но когда их выпускают на экраны, публика, приученная к развлекательным зрелищам, отказывается их смотреть. Даже тот, кто ждал эти ленты, не всегда в состоянии все в них понять, оценить по достоинству. Большинство зрителей ориентируется лишь в сюжете картины, т. е. находится на начальной стадии «кинограмотности». Им неинтересно серьезный фильм смотреть повторно: уже известно, что там происходит. А ведь эстетическую сущность произведения, исполнительское мастерство начинаешь глубже постигать на втором, а то и третьем просмотрах.
Вот и выходит, что кино нуждается в защите от публики,
3
от той ее части, которая не приемлет талантливых произведений. Борьба с плохими фильмами — это борьба за зрителя; декретами и запретами тут ничего не добиться. «Предмет искусства — нечто подобное происходит со всяким другим продуктом — создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой»1, — указывал К. Маркс. Чтобы «создавать», т. е. развивать зрителей, кино должно вступить в союз с педагогикой, ибо правильно учить и воспитывать легче, чем переучивать, перевоспитывать. Новый раздел киноведения — кинопедагогика обращается в первую очередь к школьникам, к молодежи: они составляют большинство аудитории кинематографа.
Эта книга адресована наставникам в вопросах киноискусства — преподавателям школ и вузов, кинофикаторам, руководителям и членам киноклубов. Кино можно изучать самостоятельно, книга имеет в виду и самообразование, она о зрителях и для зрителей.
Единственный путь в мир настоящего, серьезного кино — полюбить его. Но любить можно лишь что-то конкретное, то, что знакомо. Что угодно — шахматы, футбол, театр, книги, путешествия, лес, реку, море — при условии, что ты это видел, знаешь. О настоящем киноискусстве многие понятия не имеют, оно не входит в круг их интересов. Поэтому надо им помочь получить представление о хорошем кино. Те, кто его полюбит, будут стремиться видеть как можно больше стоящих фильмов, интересоваться их создателями, историей киноискусства.
Казалось бы, чего проще — кинотеатров у нас достаточно. Но в них «сильные» картины теснят серьезные, публика остается в неведении об их существовании. Наибольший вред наносится молодежи; как же, спрашивается, она полюбит то, чего не знает, о чем не догадывается? Конечно, далеко не все молодые люди тратят время и силы на просмотр пустышек. К счастью, мы, преподаватели кино, наблюдаем и иную картину. Нет аудитории, наверное, благодарнее, чем молодежная! Как бурно реагирует зал, если фильм затрагивает проблемы, которые всех волнуют. Какие жаркие споры потом разгораются! Как нетерпеливо ждут юноши и девушки очередного просмотра на занятиях факультатива или киноклуба! Все глубже начинают они интересоваться киноискусством, у них рождается потребность в настоящем кино. Ради них и написана эта книга.
Так что же получается? Есть прекрасные ленты, есть люди, которым они необходимы. Значит, надо содействовать их встрече. Для этого требуются посредники — учителя кино, нужна методика их работы, нужно уметь помочь фильму найти своего зрителя, а зрителю — свой фильм. В книге предпринята попытка обобщения методологических проблем
четверть века занимающегося кинопросвещением воронежцев, и практики энтузиастов кинообразования Москвы, Ленинграда, Киева, Алма-Аты, Минска, Риги, Таллина, Кургана, Калинина, Красноярска, Новосибирока, Свердловска, Харькова, Липецка, Армавира, Пущино, Таганрога и других городов.
Специальной киноведческой проблемой воспитание киноискусством стало уже в 20-е годы. Сейчас наблюдается новая волна интереса к исследованию общественного предназначения экранного искусства3. Методические пособия, статьи, программы выпускают и те, кто стоял у истоков кинопедагогики, и те, кто пополняет наши ряды. Не претендуя на полноту охвата проблем, книга ставит прежде всего дидактические вопросы эстетического воспитания молодежи средствами кино. Стоит ли напоминать, что они далеки от окончательного решения. Но в науке важны не только ответы, но и формулирование вопросов.
У меня свои взгляды на методику кинообразования, у моих товарищей — свои. В чем-то мы сходимся, а что-то нас разъединяет. Многое меня восхищает в работе коллег, но с чем-то не согласен. Нужно время, чтобы объективно определить, кто прав, чьи методические принципы вернее. К тому же любая программа, намеченный на бумаге план реализуется конкретным человеком — учителем кино. От него все и зависит. Наши представления о целях, задачах кинообразования чуть разнятся, тем не менее у нас больше схожего и общего; этот коллективный опыт и хотелось бы донести до читателя, а также предостеречь его от ошибок, через которые нам пришлось пройти. Может показаться, что речь пойдет о привычном для педагога деле — о воспитании, преподавании еще одной дисциплины. Но предмет наш необычный — кино, и здесь учителя поджидает множество ловушек. Укажем на некоторые из них:
Ловушка № 1. Известно, что изучение серьезных дисциплин требует значительных усилий. А тут — кино! С этим коротким словом в класс врывается вольный ветер: кино — отдых, выходной, развлечение, полная свобода от дел и забот. В итоге кинофакультатив так и остается развлечением, не принося пользы слушателям.
Ловушка № 2. Еще больше будут сопротивляться те, кому доведется слушать лекцию в кинотеатре. «Кино —> место, где хочу отдохнуть, расслабиться, — рассуждают они. — А оказывается, сверх всего прочего, и здесь я обязан чему-то там учиться! Не желаю!» Такие будут скучать и ждать, когда - покажут фильм.
Ловушка № 3. Каждое дело должно приносить реальные результаты. Итог воздействия хороших фильмов сказывается не сразу. Преподаватель может так и не узнать, изменились
5
ли его воспитанники, пошел ли им на пользу его труд. Он почувствует себя обманутым, если не увидит таких перемен, или увидит не то, что ожидал.
Ловушка № 4. Впечатление от фильма юноши, не отягощенного жизненным опытом, отличается от восприятия взрослого. То, что с точки зрения педагога хорошо и полезно, подростку и даже юноше может показаться неинтересным и бесполезным. И наоборот. Педагог будет думать, что фильм пошел на пользу воспитанникам, а он никак не затронул их чувств.
Ловушка № 5. Другие факторы воспитания (семья, сверстники, ТВ и пр.) могут перевесить итог воздействия фильмов и наших занятий. (Последние по времени непродолжительны). Тогда преподаватель и ученики взаимно разочаруются друг в друге.
«Ловушки» — скрытые трудности. А сколько их находится на виду: недостаток фильмокопий, технического оборудования, учителей, методических пособий... Не стоит и рисковать, оставить все попытки? Задача книги — не отпугивать сложностями энтузиастов кинопросвещения, а помочь им избежать ошибок первопроходцев. Но на ее страницах не предлагаются и легкие решения — их попросту нет.
Преобразования средней и высшей школы оживили нашу жизнь. Все заговорили о педагогических делах, о проблемах воспитания. Реформа современного образования решает, помимо прочих, вопросы духовного обновления молодежи. В формировании гармоничной личности особенно велика роль эстетического развития. «Важнейшая задача — значительное улучшение художественного образования и эстетического воспитания учащихся»4, — говорится в «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Другой документ «Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране» подчеркивает: совершенствование деятельности вузов следует подчинить удовлетворению возрастающих духовных, эстетических запросов человека5.
Надежным помощником воспитателя становится кинематограф. К началу реорганизации образования у нас имелось целое направление остропроблемного «педагогического» кино. Имею в виду фильмы, раскрывающие ресурсы личности, ее взаимоотношения с людьми, природой, ее 'Сложные связи с прошлым своего народа, с эпохой. Эти произведения, адресованные в первую очередь молодежи, содержат богатые возможности для воспитания у юных идейной зрелости и безукоризненного эстетического вкуса, опираясь на который они всегда смогут делать безошибочный выбор.
Что они должны выбирать, чему отдавать предпочтение? Талантливым лентам? Бесспорно, но талантливой может
6
быть и развлекательная картина. Неимоверные усилия учителя кино уйдут на то, чтобы его ученики получили еще больше наслаждения от музыкальной кинокомедии или детектива? В кино есть жанры и целые направления, не нуждающиеся в посредниках. Условно в киноискусстве выделяем экстравертивные и интровертивные произведения. Первые показывают жизнь как бы взглядом постороннего, рассказывают о внешних событиях; им легче пробиться к зрителям, ибо их содержание и композиция привычнее (хотя и здесь бывают исключения, например, фильм Л. Висконти «Земля дрожит».)
Иное дело интровертивные фильмы, раскрывающие внутренний мир, духовную жизнь героя (или, что еще труднее, — автора). На просмотре экстравертивного произведения зритель находится как бы в положении пассажира, перед которым в окне-экране проносятся картины чужой жизни. Пусть перед ним биографии людей, непонятных ему, проблемы, никак не пересекающиеся с его собственными, — следит он за ними со своих привычных позиций. При встрече с интровертивным фильмом ему приходится расставаться с ролью постороннего наблюдателя; рассматривать духовную, внутреннюю жизнь другого человека извне невозможно, ее ощущаешь, лишь встав на точку зрения этого «другого», как бы уподобившись ему.
Чтобы выработать у себя способность к такому «переключению», требуется минимум два условия. Первое: признавать и ценить духовный мир. Вводить юную личность в него — эстетическая задача. Второе: относиться как к величайшей ценности к жизни других людей, откликаться на их заботы. Это уже область морали. Только при. слиянии эстетического воспитания с нравственным можно выработать у молодого человека гибкость и подвижность взгляда, необходимые для. полноценного восприятия современного искусства. Потребность в сочувствии людям — предпосылка для возникновения потребности в серьезном кино. Воспитательная роль экранного искусства порой представляется чем-то само собой разумеющимся, на самом деле проблема достаточно сложна и не исследована во всей полноте. Фильмы оказывают громадное влияние на всех нас, но механизм их воздействия не изучен. Как, каким образом повысить это влияние на молодежь? Пока не выработаны строго научные методы и рекомендации управления воздействием кинематографа, процесс этот будет протекать стихийно.
7
Искусство включено в процесс активного формирования человека. В исследовании проблем всесторонне развитой личности, гармонии человека и среды, человека и общества смыкаются интересы эстетики, этики и педагогики, точка их пересечения приходится на искусство.
1. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КИНО
1.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ
Кинематограф — искусство XX века, символизирующее научный прогресс, чутко реагирующее на технические открытия. За короткий срок сколько новшеств! Помню афиши довоенных кинотеатров: «Смотрите и слушайте новый звуковой фильм!» Исключительной редкостью была надпись «новый цветной». Сегодня никому не придет в голову писать «звуковой», почти не упоминается слово «цветной»: все картины звуковые, все цветные. Для нас это не чудо. Мы привыкли к кино с доставкой на дом — с помощью ТВ, видеокассет... Что главное, самое существенное в кино при всех его технических модификациях? Чтобы понять это, надо отчетливо представлять его многообразную роль в жизни современного общества.
Кино, как любое искусство, полифункционально, его социальные обязанности разнообразны. Это и распространение информации, комплекса знаний (познавательная функция), формирование общественного мнения, нравственной убежденности зрителей (воспитательная функция), пропаганда прекрасного, художественных ценностей (эстетическая функция). Кино помогает общению людей, служит универсальным «языком» (коммуникативная функция), играет значительную роль в проведении досуга, доставляет публике эмоциональное наслаждение и удовлетворение (гедонистическая функция). Каждое из назначений кинематографа, взятое само по себе, не отражает всей глубины воздействия фильма на людей, как не отражает сущности человека какая-либо одна сторона его деятельности. Попробуем изъять из совокупности социальных обязанностей кинематографа одну — и мы не будем иметь собственно искусства. Отсюда не следует, будто роль их всех одинакова; должна быть главная,, ведущая или, выражаясь языком точных наук, системообразующая. На наш взгляд, это познавательная функция.
Познание — не пассивный акт, а изменение мира, в том числе изменение людей. Воспитание — целенаправленная трансформация личности. Следовательно, воспитание — это конкретизация процесса познания, а воспитательная функция искусства — продолжение и развитие познавательной.
С точки зрения генезиса художественного творчества его функция, которую мы считаем системообразующей, имеет
8
9
первостепенную важность. Зарождение и развитие познания как духовного овладения человеком законами природы и общества привело к раздвоению в его сознании действительности да субъект и объект познания. Выделение субъекта выражалось в том, что человек начал осознавать свое отношение к внешнему миру, мысленно противопоставляя себя ему. Условием разделения действительности на познающий субъект и познавательный объект было появление человеческого общества с его потребностью в определенном воспитании своих членов. Но и формирование личности неосуществимо без размежевания на субъект и объект, без осознания субъектом себя, своего бытия, своего отношения к самому себе, к окружающим, к природе. Искусство, равно - как любое эстетическое явление, также невозможно вне подобной дифференциации действительности, ибо субъектно-объектное отношение — одно из условий. возникновения эстетического сознания. В противном случае художественное произведение не могло бы восприниматься публикой. Таким образом, субъектно-объектное отношение — первое, что объединяет познание, воспитание, художественное творчество.
Первостепенное значение познавательной функции накладывает отпечаток на специфику кинематографа и его воспитательной роли. Поэтому необходимо иметь четкое представление о сущности художественного познания1. Познавательный процесс осуществляется благодаря взаимодействию субъекта и объекта, в результате первый отражает второй. Художественное познание опосредовано спецификой эстетического восприятия искусства, которое проходит как бы две стадии. «Первое» восприятие — просмотр фильма, «второе» — критическое переосмысление увиденного, размышление над ним,, конструирование как бы собственного фильма. Искусство всегда рассчитано на сотворчество реципиента (наиболее яркий характер это явление приобретает при чтении книги). Зритель также опирается не на одни лишь впечатления от фильма, он исходит из своего багажа знаний и наблюдений, из собственных социальных и эстетических позиций. К этому следует еще добавить его способность к воображению (при том, что ничего принципиально нового он не создает: все уже предопределено автором, зависит от авторского мировоззрения и мастерства). Одно восприятие способно следовать за другим, но оба могут протекать одновременно,, накладываясь друг на друга.
Поскольку киноискусство — это динамическая система, коммуникативная цепь, основными звеньями которой выступают автор—герой—зритель, то субъектно-объектное отношение утраивается. Субъект и объект первые — автор и реальность; вторые — герой и экранная действительность; третьи — зритель и фильм как итог сотрудничества. Цель
10
субъекта-зрителя та же, что и субъекта-автора и субъекта-героя — проникновение в суть вещей и явлений. Но он имеет дело не с реальностью «в чистом виде», а с продуктом взаимодействия первого субъекта (автора) с первым объектом (реальным миром) и второго субъекта (героя) со вторым объектом (экранной историей), т. е. в фильме дана субъективная характеристика окружающей нас действительности. У автора имелся определенный замысел, который с неизбежностью был стократ шире, объемнее будущей ленты. Процесс производства фильма — сворачивание замысла, оформление его по определенным законам. Публика «разворачивает» его, пересоздает, дополняет пропуски, расшифровывает, наполняет собственным смыслом.
Фильм как художественное произведение живет в воображении автора и в воображении (равно как и в памяти) зрителя. Что образы, остающиеся в их сознании, не совпадают— это аксиоматично. Методология кинообразования ставит вопрос иначе: должны ли они совпадать? Можно ответить вопросом: да зачем, собственно? Пусть у каждого из нас после выхода из кинотеатра останется «свой» фильм. (Судя по противоположным, взаимоисключающим отзывам во время диспута, так оно и происходит.) И все же «наш» фильм должен максимально приближаться к тому, что было задумано автором, иначе искусство не сможет выполнять свое главное предназначение — отражать действительность, ибо именно автор принимает на себя ответственность за то, чтобы кино приходило на помощь каждому из нас — способствовало нашему познанию мира, себя в мире, мира в себе. Чтобы зрителю адекватно отобразить в своем сознании реальный мир, необходим сложный диалектический процесс разрешения противоречий между объективным и субъективным, существенным и несущественным, абсолютным и относительным. Для этого требуется не пассивное созерцание, а активное отношение человека к окружающей действительности, преобразование ее. «... Существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления, — указывал К. Маркс, — является как раз изменение природы человеком, а не одна Природа как таковая...»2. Субъект практического действия и субъект познания выступают с точки зрения диалектического материализма не двумя различными субъектами, а единым субъектом. Изменяя мир, он познает его, и, познавая, изменяет. Итак, активность субъекта — непременное условие акта познания. «Процесс отражения, — считал А. Леонтьев, — является результатом не воздействия, а взаимодействия, т. е. результатом процессов, идущих как бы навстречу друг другу. Один из них есть процесс воздействия объекта на живую систему, другой — активность самой системы но отношению к воздействующему объекту»3.
11
Точка зрения, согласно которой результат процесса познания — изменение мира, имеет основополагающее значение для решения проблемы «кино и воспитание». В самом деле, мы знаем: цель достигается внешними действиями человека (в отличие от внутренних, «умозрительных»), т. е. в ходе поведения. Следовательно, познание формирует поведение. Если признать верность данного положения, то становится очевидной связь познавательной и воспитательной функций кинематографа, поскольку у них общий итог — формирование поведения, воздействие на него.
Применительно к кинематографу следует подчеркнуть, активность отражения реальности на протяжении всего творческого процесса — от постановки фильма до его просмотра. Восприятие произведения заключает в себе ход познания; знания художника превращаются в достояние общества, публики. Для зрителя, выступающего в роли третьего субъекта, течение познания осложняется тем, что к нему поступают не только объективная информация, но и сведения об изменениях сознания автора и героя, отразившихся в произведении. От респондента требуется не меньшая активность, чем от первых двух субъектов художественного познания; последнее без сотворчества публики невозможно. Поэтому просмотр фильма — не пассивное отражение в виде созерцания, когда объект воздействует на бездействующий субъект. На эстетическое восприятие кинопроизведения полностью распространяется положение марксизма, что познание — активное взаимодействие субъекта и той части реальности, которая им осваивается. Поэтому активизация восприятия (что является прерогативой кинообразования) — не (менее важная задача, чем создание талантливых фильмов.
Художественное произведение — это определенная возможность для усвоения респондентом ранее добытых автором' знаний. Кино представляется публике наиболее приближенным к реальности искусством; оно не просто воспроизводит жизнь в максимально подобной ей форме; экранное зрелище создает иллюзию адекватной копии реального мира. Тем не менее фильм — не документальная фотография, в нем даны не объекты реальной действительности и даже не понятия,. а знаки. Чтобы знак «ожил» как понятие, кроме его объективного существования в виде аудиовизуальных данных требуется субъективная способность расшифровать его. Если у зрителя нет ключа для прочтения кинопроизведения, то оно для него — бесполезно. Публика, придя в кинотеатр, должна иметь представление об эстетической сущности кинематографа (в первую очередь о его социальных функциях), о фильме, который предстоит увидеть. Пусть ее знания неточны
12
и приблизительны, но во время просмотра новые данные не будут восприняты пассивно, поскольку попадут в уже «заполненное», т. е. подготовленное сознание.
Потом наступит следующий этап — размышление над увиденным, которое также стимулирует активность художественного познания. Просмотр фильма становится не пассивным отражением экранной информации, а сложным взаимодействием зрителя-субъекта и фильма-объекта. Таким образом, положение марксизма об активности познания, о тесной связи его с практической деятельностью, с изменениями объекта и субъекта распространяется в кинопроцессе на автора, героя и зрителя фильма. Эволюция, которую переживает автор, проявляется через рост самосознания персонажа и направлена на пробуждение активности публики, ее самовоспитание. Познавательная функция кино служит как бы фундаментом для воспитательной.
Переживания, вызванные фильмом, не исчезают после просмотра. Они возобновляются, когда жизненная ситуация потребует реализовать модель поведения, запрограммированную автором. Тогда и обнаруживается воспитательная сила кино. Конечно, положения, в которых мы оказываемся, не могут полностью совпадать с показанными на экране. Тем не менее они корреспондируют между собой; нам кажется, что картина решает проблемы применительно к нашим обстоятельствам. Фильм позволяет каждому произвести переоценку своего «я» и тем самым — собственного, индивидуального опыта. Содержание кинопроизведения, воздействуя на наш внутренний мир, продолжает «существовать» в нас; оно будет «проникать» в жизненные ситуации, в которых мы оказываемся.
Следует учитывать особый характер дальнейшего «существования» увиденного на экране в нашем сознании. Художественное произведение не дает инструкций, как поступать; оно лишь вызывает психические акты повторного переживания. Впечатления от просмотра у людей сохраняются по-разному, но главное, что они продолжают жить в сознании, наполняясь новым актуальным опытом. Человек постоянно как бы совершает моральный выбор в направлении, намеченном произведением. Отсюда ощущение, будто фильм затрагивает именно ту ситуацию, которую мы переживаем.
Среди других особенностей художественного познания необходимо отметить следующие: 1) взаимосвязь эмоционального и рационального; 2) диалектику индивидуального и общественного; 3) направленность прежде всего на человека, причем на всю его жизнь, в том числе и на внутреннюю; 4) обращение художника к себе, так что в результате его личность приобретает характер персонифицированной публики; 5) пробуждение в публике активного отношения ас жизни.
13
Признание за художественным мышлением исключительно функций эмоционального, конкретно-чувственного отражения противоречит положению о способности художника познавать мир в его существенных проявлениях и свойствах. О сложном балансе эмоционального и интеллектуального при эстетическом восприятии искусства у нас пойдет речь в параграфе, посвященном принципам кинообразования. Что касается механизма превращения особенного во всеобщее, то, здесь необходимо исходить из указания К. Маркса: «Индивид есть общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни — даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими, проявления жизни, — является проявлением и утверждением общественной жизни»5. Вместе с тем мы должны помнить, что в искусстве личность художника играет особую роль, ибо он вносит в отношение к миру личностный смысл, начинает изучение характеров с себя. В современной литературе это проявляется более отчетливо, но и в кинематографе (особенно в той его части, которую принято именовать авторским) прослеживается все более явственно. К этому восходит такое интереснейшее явление, как слияние автора и героя в одном лице.
С тем фактом, что в центре внимания искусства находится внутренний мир личности, связана его активность по отношению к публике. Фильм — не только и не просто объект для созерцания зрителей, но и средство воздействия на них, вызывающее ответную реакцию. В определении предмета художественного мышления следует исходить из того, что искусство познает и отражает в своем содержании именно становление человека как человека. «Задача, которую решает художественная мысль, в этом случае заключается в том, чтобы понять этот процесс, перевести его в план сознания и тем самым придать ему осмысленный и целенаправленный характер. Искусство не формирует человека, а лишь способствует его формированию, делает этот процесс сознательным и управляемым, снижает уровень его стихийности...»6
Л. Выготский обращал внимание еще на одну особенность художественного познания: «До тех пор, пока мы не научились отделять добавочные приемы искусства, при помощи которых поэт перерабатывает взятый из жизни материал, остается методологически ложной всякая попытка познать что-либо через произведение искусства»7. Это означает необходимость художественного образования для публики: не зная языка кино, не ориентируясь в его приемах, невозможно постичь содержание фильма и, следовательно, полностью реализовать познавательную и воспитательную функции кинематографа.
14
1.2. ИСКУССТВО И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Кинопедагогика как раздел науки находится в стадии становления, тем не менее у нее имеется прочная теоретическая база. Тайна воздействия на человека художественного творчества всегда интересовала представителей эстетической мысли. Общие принципы эстетического воспитания с помощью искусства сформулированы задолго до рождения кинематографа. Обратимся к некоторым из них.
Еще мало исследован генезис искусства; может быть, вначале — это скрытая, потайная педагогика? Обществу всегда нужно было как-то передавать из поколения в поколение накопленные знания, опыт, обычаи, нравы. Возможно, вначале для этого и использовались живопись, поэзия, танец, позднее — театр. Вспомним, что в древней Элладе не были отделены друг от друга наука и художественное творчество, среди муз числилась и Клио — покровительница истории...
Общеизвестны причины, которые делают плодотворным обращение к античным мыслителям. Одна из них связана с тем, что древнегреческая эстетика обусловлена развитием античного искусства, которое, по словам К. Маркса, еще продолжает, «доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом»8. Другой причиной, как указывал Ф. Энгельс, «является то, что в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти все. позднейшие типы мировоззрений»9.
«Мимезис» (подражание реальности), «калокагатия» (прекрасное-доброе), «катарсис» (очищение состраданием) и другие категории помогали древним грекам прояснять влияние искусства. Аристотель в противоположность Платону, выводящему эти категории из вечно существующих идей, прекрасное и полезное обосновывал земными потребностями людей. Он исследовал специфические условия восприятия произведений искусства и пришел к выводам, которые позволили ему наметить программу художественного воспитания. Согласно одному из ее пунктов, художественное восприятие немыслимо без активности воспринимающего. «И почему опять-таки мальчики должны изучать музыку сами, а не слушать, как играют и поют другие, и при этом должным образом радоваться и быть в состоянии составить себе правильное суждение?» 10 Аристотель и отвечает: «Во всяком случае, не может подлежать сомнению, что для развития человека в том или ином направлении далеко не безразлично, будет ли он сам изучать на практике то или иное дело. Само собой разумеется, невозможно или, во всяком случае, трудно стать основательным судьей в том деле, в совершенствовании которого сам не участвовал»11. В этой связи древ-
I5
негречеокий философ на примере данного искусства стремится выяснить, какие функции свойственны всему художественному творчеству: «Мы утверждаем, что музыка должна иметь полезное применение не ради одной цели, а ради нескольких: 1) ради воспитания; 2) ради очищения...; 3) ради интеллектуального развлечения, т. е. ради успокоения и отдохновения от напряженной деятельности»12. , Особый интерес представляют для нас попытки Аристотеля исследовать взаимоотношения эстетического и этического моментов при восприятии искусства. Так, он считает, что песни Олимпа «по общему признанию, наполняют наши души энтузиазмом, а энтузиазм есть эффект этического порядка в нашей психике... А так как музыка относится к области приятного, добродетель же состоит в [восприятии нами] надлежащей радости, любви и ненависти, то, очевидно, ничего не следует так ревностно изучать и ни к чему не должно в такой степени привыкать, как к тому, чтобы уметь правильно судить о благородных характерах и прекрасных поступках и достойно радоваться тем и другим»13. В «Поэтике» Аристотель касается взаимосвязи гедонистической и познавательной функций искусства: «Как кажется, вообще две причины, и притом заключающиеся в природе [человека], произвели поэзию. Во-первых, подражание прирождено людям с детства, и они тем отличаются от прочих животных, что наиболее способны к подражанию, благодаря которому приобретают и первые знания, а во-вторых, продукты подражания всем доставляют удовольствие»14.
Дошедшие до нас в неполном и искаженном виде высказывания античных мыслителей доказывают, сколь давно привлекает эстетику способность искусства управлять сознанием, чувствами, поведением публики. И в каждую последующую эпоху, для которой характерен расцвет искусства (Возрождение, Просвещение и др.), эти вопросы вновь оказываются в центре внимания философов и самих художников. Важный этап в истории исследования воспитательной функции искусства — творчество Ф. Шиллера. Он считал, что улучшение общественной системы затруднительно без изменения в лучшую сторону характера самого человека, но последнее невозможно при «варварском» государственном строе. Вывести людей из заколдованного круга способно лишь искусство. Эстетическое воспитание должно подготовить индивида к нравственному совершенству. Этой проблеме посвящены двадцать семь «Писем об эстетическом воспитании человека».
Ф. Шиллер считал, что задача воспитания — «научиться благороднее желать для того, чтобы не было необходимости возвышенно добиваться. Этого можно достигнуть путем эстетической культуры, которая подчиняет законам кра-
16
соты то, в чем человеческий произвол не связан ни законами. природы, ни законами разума»15. Эстетическое воспитание поэт связывает с совершенствованием эмоциональной сферы: «...Самая настоятельная потребность времени — развитие способности чувствовать; и это не только потому, что оно служит средством к внедрению лучшего понимания жизни, но и потому, что оно само побуждает к улучшению понимания»16' В последнем «Письме об эстетическом воспитании человека» Шиллер свои идеалы образно выражает в противопоставлении «эстетического» государства «динамическому» государству прав и «этическому» — обязанностей: «Если в динамическом правовом государстве человек противостоит человеку, как некоторая сила, и ограничивает его деятельность, если в этическом государстве обязанностям человека -противополагается величие закона, который связывает его волю, то в кругу прекрасного общения, в эстетическом государстве человек может явиться лишь как форма, может противостоять только как объект свободной игры»17. В окружающей, поэта действительности не было и не могло быть возможностей для реализации его идеалов. Отсюда грустное признание по поводу «государства прекрасной видимости»': «...В действительности же его, пожалуй, можно найти разве в некоторых немногочисленных кружках, образ действия которых направляется не бездушным подражанием чужим нравам, а собственной прекрасной природой; где человек проходит со смелым простодушием и спокойной невинностью через самые запутанные отношения; где он не нуждается ни в оскорблении чужой свободы ради утверждения собственной, ни в отказе от собственного достоинства ради проявления любезности»18.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |




