При этом мы считаем, что при всей взаимосвязи и взаимодействии данных мишеней (а мы полагаем, что данные мишени находятся в отношении взаимодействия), иерархия данных мишеней выглядит следующим образом:
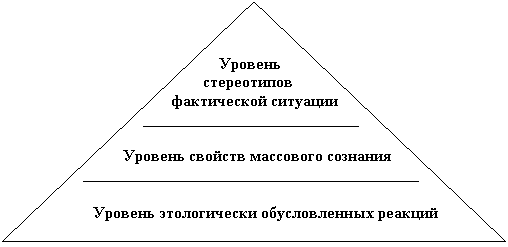 |
Из представленной схемы видно, что уровень этологически обусловленных реакций массового реципиента является более глубинным хотя бы на основании «возраста» данных реакций. Последующие два уровня, как группы свойств, появившихся гораздо позднее, выступают в качестве своеобразной «надстройки». Уровень свойств массового сознания, как и уровень стереотипов фактической ситуации (ритуалы предвыборного дискурса: произнесение речи, процесс голосования, поведение участников и т. п.) представлены в данной системе свойствами, относящимися к сфере сознания, но воспринимаемыми как не подлежащие сомнению, неосмысливаемые компоненты реальности (стереотипы и традиции), а потому уязвимыми для манипулятивного убеждения.
Как уже отмечалось выше, мы полагаем, что лингвистические средства актуализации данных мишеней манипуляции формируют собственную систему взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Подход, при котором система средств речевой манипуляции создается и описывается как отражение системы свойств и характеристик массового реципиента, релевантных для манипуляции по признакам коллективности и универсальности, мы предлагаем назвать системно-реципиентоцентрическим.
Использование данного подхода в изучении процесса речевой манипуляции в предвыборном агитационном дискурсе позволит нам создать многокомпонентную модель манипулятивной интенции политика-продуцента, каждый из компонентов которой имеет свои средства реализации на поверхностном уровне, представленные речевыми актами.
Следует отметить, что системно-реципиентоцентрический подход все же не исключает использования тактико-стратегического подхода в исследовании манипулятивных видов дискурса. Несмотря на отмеченные нами недостатки, тактико-стратегический подход позволяет выявить и описать некоторые тенденции и закономерности в использовании языковых средств при манипуляции массовым реципиентом именно в терминах стратегии и тактики. Однако использование такткико-стратегического подхода возможно исключительно после выявления четко обозначенной системы критериев, на основе которых собственно и строятся манипулятивные тактики и стратегии продуцента предвыборных агитационных сообщений, что невозможно без системно-реципиентоцентрического подхода. Таким образом, можно признать данные подходы последовательно-комплементарными, дополняющими друг друга: после выстраивания системно-реципиентоцентрической модели манипуляции возможно описание ее речевых механизмов как тактик и стратегий с использованием соответствующих наборов языковых средств.
Во Второй главе «Речевая интенция и акт речи как средство ее реализации» рассматриваются понятия речевого намерения и речевого акта как средства его выражения на поверхностном уровне. Данные понятия являются очень важными для нашего исследования, что обусловлено свойством интенциональности любого (в том числе манипулятивного) речевого поведения. Особенности интенциональной структуры речевых актов важны для нашего исследования еще и потому, что мы, как и многие исследователи феномена дискурса, понимаем его прежде всего как последовательность взаимосвязанных речевых актов, объединенных общей интенцией.
Мы полагаем, что речевое манипулирование представляет собой процесс взаимодействия интенций открытого и скрытого типов, реализующихся в соответствующих речевых актах. При этом в качестве речевых актов открытого типа могут выступать речевые акты, описанные в традиционной теории речевых актов (промиссивы, декларативы, ассертивы, экспозитивы, директивы и др.), имеющие свою интенциональную модель, состоящую из нескольких уровней. При этом исследование показывает, что доминирующей интенцией открытого типа в британском предвыборном агитационном дискурсе является интенция обещания, а средством ее реализации, соответственно, промиссивный речевой акт.
Мы принимаем за аксиому тот факт, что речевая интенция является сложным образованием и имеет иерархическую структуру. В настоящее время исследователями предпринимается немало попыток создать иерархическую модель-схему речевого намерения, так как выявление компонентов интенции и их связей между собой и соответствующими средствами вербального выражения на разных языковых уровнях поможет понять механизмы порождения (генерации) высказывания говорящим и распознавания коммуникативного намерения слушающим, а также выявить возможные лингвистические способы выражения каждой конкретной речевой интенции.
Однако, имея сложную иерархическую структуру, состоящую из нескольких компонентов, речевая интенция сама является важным компонентом в структуре вербальной коммуникации. Известно, что ни одна теория коммуникации не может обойтись без создания модели коммуникативной ситуации. Мы создали подобную модель на основе теории планирования М. Братмана, которая, по нашему мнению, наиболее полно отражает свойства и функции интенции в деятельности человека.
По Братману, человек является "планирующей личностью" (planning agent). Планирование делает его способным организовывать свои действия во времени и координировать эти действия с другими людьми, которые также являются планирующими личностями (другими словами, планирование имеет временные и социальные параметры). Планы имеют иерархическую структуру, элементами которой являются интенции: реализуя одну за другой каждую из этих интенций, человек выполняет запланированное, достигая / не достигая при этом определенного результата. Рассчитав способы реализации каждой интенции в запланированной схеме действий, человек соотносит эти способы со своими желаниями и убеждениями (desires and beliefs), которые в данном случае, согласно Братману, выполняют роль своеобразного "фильтра допустимости" (admissibility filter) [Bratman 1987: 33].
В процессе исследования мы применили идею планирования для построения абстрактной модели речевого общения с участием коммуникативной интенции.
Разумеется, интенции не берутся "из ниоткуда". Возникновению каждого конкретного намерения (и речевого в том числе) предшествует определенный отрезок объективной действительности (назовем его "фактической ситуацией") с определенным набором временных, локальных, социальных, психологических и т. п. параметров (факторов), способных повлиять на порождение интенции и на выбор способа ее реализации. Как правило, собственно речевому намерению предшествует решение участника фактической ситуации изменить данную ситуацию в лучшую для себя сторону, если в существующей фактической ситуации его что-либо не устраивает. Для достижения желаемого изменения участник ситуации под влиянием определенных факторов, действующих как admissibility filter, может выбрать один из двух способов - невербальный (не предполагает выполнения речевых действий) или вербальный (выражение намерения с помощью соответствующего вербального акта). В случае выбора второго варианта у участника формируется собственно речевая интенция, то есть намерение выразить существующее желание с помощью языковых средств. Пройдя через соответствующий admissibility filter, данное намерение реализуется в речевом акте. Схематично данная модель действий участника представляется нам следующим образом:
Схема № 1 Фактическая ситуация №1
Интенция №1 + обязательство (commitment)
"Admissibility filter" №1, влияющий на выбор способа реализации интенции
по характеру действия (речевое / неречевое)
[желания и убеждения участника +
факторы ситуации (социальный, психологический,
этнический и т. п.)]
Выбор способа реализации интенции
[невербальный / вербальный]
Интенция № 2 (речевая)+обязательство
"Admissibility filter"№2
(влияющий на выбор языковых средств
для реализации интенции №2)
Реализация интенции в речевом акте и. т.п.
Теория пошагового планирования в применении к говорящему как продуценту речевого действия во многом объясняет механизм вербального оформления речевых намерений. Так как нас в нашем исследовании интересует в большей степени именно речевая интенция, то объектом нашего внимания становится отрезок планирования действий, начинающийся с возникновения речевой интенции и заканчивающийся "оформлением" этой интенции в вербальном акте. Мы считаем, что данный отрезок имеет гораздо более сложную интенциональную структуру, которую можно объяснить с помощью Теории Релевантности (Relevance Theory) Д. Уилсон и Д. Спербера.
В центре теории релевантности [Sperber, Wilson 1986; Sperber 2000; Sperber 1982; Wilson 1994; Wilson 1998] находится иерархическая интенциональная модель коммуникации, состоящая из двух уровней: информативной интенции (informative intention) и коммуникативной интенции (communicative intention). Сам процесс вербальной коммуникации рассматривается Уилсон и Спербером не просто как процесс кодирования и декодирования информации (в котором условием успешности коммуникации является условие владения (в равной степени) кодом обоих участников), а как процесс правильной интерпретации интенции говорящего на уровне мета-репрезентаций при условии релевантности информации [Sperber 1994], так как, по мнению создателей теории, "если поведение, которое мы наблюдаем, может быть интерпретировано одновременно с физической и интенциональной стороны, мы будем склонны именно ко второй интерпретации" [Sperber 1994: 187]. Представим приблизительную иерархию интенций со стороны говорящего следующим образом (наша модель является абстрактной, поэтому в процессе реальной коммуникации некоторые из этапов могут быть опущены):
1) отправной точкой коммуникации является существующая фактическая ситуация. Предположим, что заданная фактическая ситуация является центром внимания ее участников: потенциального говорящего и потенциального слушающего (т. е. имеет свойство релевантности), которые могут описать ее средствами языка, то есть констатировать факт. В данном случае мы берем ситуацию, когда оба участника обладают информацией в одинаковом объеме, хотя может существовать три варианта ситуации:
a) факт известен и говорящему, и слушающему (обоим участникам ситуации);
b) факт известен говорящему;
c) факт известен слушающему.
2) Каждый из участников имеет свое субъективное отношение к факту, и намерение по отношению к этому факту, причем данное намерение может быть выражено вербально (с помощью средств языка).
- Один из участников имеет намерение сообщить о своем намерении по отношению к факту другому участнику. В данном случае, как мы считаем, может иметь место феномен, который мы предлагаем назвать "аттракцией" (от англ. attraction - привлечение). Привлечение внимания потенциального слушающего может происходить невербально (с помощью "приглашающего" жеста - кивка головой, взмаха рукой, пристального взгляда, улыбки) или вербально.
Выбрав вербальный способ выражения намерения по отношению к факту, говорящий формирует несколько промежуточных интенций лингвистического и прагматического свойства:
- интенцию правильно оформить высказывание с фонетической точки зрения (правильно произнести);
- интенцию правильно оформить высказывание с грамматической точки зрения (правильно связать слова в высказывании);
- интенцию правильно оформить высказывание с семантической точки зрения (если говорящему нужно выразить интенцию обещания на английском языке в эксплицитной форме, он вряд ли будет использовать глагол "to eat" или глагол " to listen " вместо глагола "to promise" или " to swear");
- интенцию правильно оформить высказывание с точки зрения жанра и регистра (обговаривая условия контракта с иностранным партнером, компетентный говорящий предпочтет глагол "to guarantee" таким глаголам, как "to vow" или "to swear").
Здесь стоит отметить, что некоторые ученые выделяют особый аспект речевого действия, который представляет собой выбор говорящим оптимальных языковых средств достижения поставленной цели. Этот аспект называется аллокутивным [Haverkate 1979: 11]. Таким образом, можно рассматривать все вышеперечисленные промежуточные интенции как компоненты одной аллокутивной интенции.
4) И, наконец, говорящий имеет намерение убедить слушающего в искренности своего намерения по отношению к факту (для этого он будет использовать различные языковые средства для экспликации и интенсификации вербального выражения намерения по отношению к факту). Интенцию убеждения в искренности намерения мы предлагаем назвать персуазивной (от англ. persuade - "убеждать").
Таким образом, наша предыдущая модель может быть расширена с помощью включения следующих этапов (см. Схему № 2)
Схема № 2 Речевая интенция
Аттракция (вербальная / невербальная)
Информативная интенция
(под информативной интенцией мы понимаем намерение сообщения нового или уже известного факта говорящим)
Собственно коммуникативная интенция
(под этой интенцией мы понимаем интенцию сообщить о намерении по отношению к факту)
Аллокутивная интенция
Интенция убеждения в искренности
("персуазивная")
РЕЗУЛЬТАТ №1
(реализация в конкретном речевом акте)
РЕЗУЛЬТАТ № 2
(достижение / недостижение так называемого перлокутивного эффекта)
Созданная нами модель подтверждается обобщенным интент-анализом следующих высказываний:
a) I heartily promise I will do that again.
1) факт: I will do that again (информативная интенция);
2) намерение по отношению к факту: обещание (собственно коммуникативная интенция)
I promise
3) убеждение в искренности намерения: интенсификатор heartily (персуазивная интенция)
I heartily promise I will do that again.
b) I do declare he was not there.
1) факт: he was not there (информативная интенция);
2) намерение по отношению к факту: утверждение, заявление (собственно коммуникативная интенция)
I declare
3) убеждение в искренности намерения: интенсификатор do (персуазивная интенция)
Т. е. в рамках реализации отдельных речевых интенций, объектами которых являются обещание и заявление, говорящий реализует три основные интенции (информативная, собственно коммуникативная и персуазивная) и так называемую аллокутивную интенцию, включающую в себя несколько промежуточных намерений (намерение правильно оформить свое высказывание с точки зрения норм произношения, грамматики, жанра и т. п.)
В нашем исследвании мы определяем открытые интенции как намерения говорящего, предназначенные для открытого узнавания. Приэтом мы считаем, что данные интенции необязательно реализуются в эксплицитных речевых актах, содержащих соответствующие перформативные глаголы и комментарии. Открытые интенции продуцента могут быть выражены как с помощью имплицитных, так и с помощью косвенных речевых актов, если узнаваемость данных интенций обеспечивается экстралингвистическими условиями фактической ситуации, в которой в данный момент находятся продуцент и его реципиент(ы). Кроме того, в процессе исследования нами было выявлено, что существуют открытые интенции двух видов: открытые интенции, потенциально способные к эксплицированию на поверхностном уровне, и открытые интенции, потенциально не способные к прямому выражению в речи.
К первому виду интенций мы относим намерения говорящего, имеющие возможность быть прямо обозначенными с помощью соответствующего перформативного глагола без нарушения норм и конвенций речевого поведения; ко второму виду – намерения, чье эксплицитное выражение приводит к так называемому «иллокутивному самоубийству» с точки зрения этики речевого поведения, но чье имплицитное или косвенное выражение планируется как явно читаемое из фактической ситуации. Так, например, обещание (я обещаю) или извинение (я прошу прощения) можно отнести к интенциям первого вида, а интенцию оскорбления (я оскорбляю) - к интенциям второго вида.
Хотелось бы отметить, что интенции воздействия, к которым относится и интересующая нас манипулятивная интенция, можно отнести к интенциям скрытого вида: эти интенции определенно не планируются для узнавания реципиентом и не способны к экспликации на поверхностном уровне (теоретически, перформативная формула «я манипулирую вами, говоря…» существовать может, но экспликацию ее в речи представить себе можно только в случае, например, иронии). Однако, имея в виду то, что как явление речевая манипуляция все же существует, можно с уверенностью утверждать, что скрытая речевая интенция манипуляции использует в качестве средства реализации открытые речевые акты обоих видов. Иными словами, скрытая манипулятивная интенция «маскируется» под открытые и выражается в открытых речевых актах. Рассмотрим особенности функционирования открытых речевых актов в предвыборном агитационном дискурсе на примере речевого акта обещания (промиссивного речевого акта), так как промиссивная интенция традиционно является доминирующей интенцией в данном виде дискурса.
Согласно созданной нами универсальной речеактовой модели, любой акт речи состоит из четырех интенциональных уровней, представляющих собой аллокутивную интенцию (намерение говорящего правильно оформить свое высказывание с точки зрения норм языка, на котором совершается речевое действие), информативную интенцию (намерение продуцента сообщить реципиентам о каком-либо объективном факте существующей реальности), собственно коммуникативную интенцию (намерение говорящего сообщить о своем намерении по отношению к факту) и персуазивную интенцию (намерение продуцента убедить реципиентов высказывания в искренности своего намерения по отношению к факту, содержащемуся в сообщении). Таким образом, в промиссивном речевом акте I heartily promise that I will go there информативная интенция представлена той частью высказывания, которую в терминах традиционной английской грамматики принято называть дополнительным придаточным (I will go there – сообщение о факте), персуазивный компонент эксплицирован с помощью приглагольного наречия heartily, собственно коммуникативный компонент общей речевой интенции обещания представлен перформативной формулой, состоящей из местоимения в первом лице и глагола промиссивного ряда (I promise).
В нашем исследовании глагол to promise признается ядром класса промиссивов, однако стоит отметить, что интенция обещания может быть выражена на поверхностном уровне с помощью других промиссивных глаголов (при этом логичным было бы утверждать, что практически все члены синонимического ряда глагола to promise можно отнести к промиссивным иллокутивным глаголам: все они содержат сему говорения, что является обязательным условием для причисления к разряду иллокутивных глаголов; практически все из них имеют лексическое значение обещания в качестве основного).
Как показывает анализ эксплицитных речевых актов обещания, совершаемых продуцентами предвыборных агитационных речей, многие из глаголов cинонимического ряда с ядром to promise могут быть использованы в их перформативных формулах. Например:
a) We pledge to cancel the council tax revaluation in England. This will save £ 100 million in administration and prevent hardship for many people.
( David Spelman: Lower taxes, local accountability,
http://www. )
Кроме того, эксплицитно намерение обещания может быть выражено с помощью существительных, образованных от соответствующих перформативных глаголов путем конверсии. Например:
b) If we get it wrong, we face what they themselves call an age of austerity. If we get it right, we can achieve an age of shared prosperity.
The economy is more central and the choice more serious in this election than any time in my lifetime.
That is why top of Labour’s pledges to the people is economic recovery.
(Gordon Brown: Election pledges,
http://www. labour. org. uk)
В соответствии с предложенной нами моделью речевого намерения мы выделяем следующие виды промиссивных речевых актов: промиссивные речевые акты с реализацией всех трех компонентов речевой интенции (эксплицитные интенсифицированные речевые акты или акты с полной реализацией интенций); промиссивные речевые акты с реализацией двух компонентов интенции; промиссивные речевые акты с реализацией одного компонента интенции.
Все данные категории речевых актов представлены в предвыборных речах британских политиков для реализации манипулятивной тактики обещания, например:
a) So I promise you, I will not shrink from taking on the union barons that threaten another spring of discontent; from tackling parts of the teaching establishment that don’t want our school reforms; or from demanding more corporate responsibility from our businesses.
As a young MP, I watched Tony Blair and saw what happened when you obsess about the news cycle and fight each day as if it were an election. You waste your mandate and fail to deliver anything but the most superficial change. So I can promise you, if elected, we will govern differently. We will be quietly effective, getting on with things patiently and working hard to deliver real reforms.
And as Leader of the Opposition, I have watched Gordon Brown and seen what happens when you use crude party politics to calculate every decision. You tear your government apart and end up drifting without direction. So again I can promise that you will get a different style of government from me. It will be a collegiate one, where the team I appoint are trusted to get on with the job; where cross-party consensus will be sought; where decisions are based on the national interest, not the political interest.
(David Cameron: My credo for my country,
http://www. )
В данном микротексте на поверхностном уровне реализуются все три компонента промиссивной речевой интенции:
I promise you – собственно коммуникативный компонент, выраженный с помощью перформативной формулы, содержащей глагол промиссивного ряда;
I can promise you – модально-интенциональная перформативная формула, содержащая модальный глагол can, указывающий на способность продуцента брать на себя определенные обязательства, и перформативный глагол промиссивного ряда;
I will not shrink from taking on the union barons that threaten another spring of discontent, from […] – информативный компонент, передающий обещаемые события;
we will govern differently. We will be quietly effective, getting on with things patiently and working hard to deliver real reforms – информативный компонент, передающий обещаемые события;
that you will get a different style of government from me. It will be […] – информативный компонент, передающий обещаемые события;
we will govern differently. We will be […] – персуазивный компонент, выражающийся с помощью анафорического повтора;
I can promise you […]. So again I can promise – персуазивный компонент, выражающийся с помощью повтора модально-интенциональной перформативной формулы с маркером повтора (again).
b) I’ve set up a new system for selecting our candidates so we guarantee more women and ethnic minority MPs.
(David Cameron: I don’t believe in Isms
http://www. )
В данном речевом акте обещания на поверхностном уровне реализуются два компонента из трех: собственно коммуникативный (we guarantee) и информативный (more women and ethnic minority MPs).
c) But neither will I adopt the barren pragmatism of merely “doing what works”.
(David Cameron: I don’t believe in Isms
http://www. )
Двухкомпонентный речевой акт с представлением персуазивного (инверсированный порядок слов neither will I) и информативного компонентов.
d) We will cut taxes for those who are on middle and low incomes – so that no one pays a penny on income tax on the first 10 thousand pounds they earn..
(Lynne Featherstone: Speech about equality to Autumn Conference, http://www. libdems. org. uk )
Однокомпонентный промиссивный речевой акт с представлением на поверхностном уровне одной информативной интенции (предложение с футуральной ориентацией).
С ситуативно-структурной точки зрения можно выделить два типа промиссивных речевых действий, функционирующих в политическом дискурсе:
- сложный промиссив, представляющий собой сложноподчиненное предложение с придаточным дополнительным, где перформативная формула выступает в роли главного предложения, а содержание обещания заключается в придаточном предложении, представленном пропозицией, реализующей информативную интенцию говорящего:
a) And today, I promise to you that a Conservative Government will not stand-by and watch rural life falter and fade.
(Grant Shapps, Housing - A rural revolution,
http://www. :)
- инфинитивный промиссив, в котором информативная интенция выражена инфинитивной фразой, следующей сразу за перформативной формулой. Инфинитивный промиссив указывает на то, что лицо, совершающее речевой акт обещания, одновременно является продуцентом "обещаемого" действия в будущем, то есть данное действие предицируется самому говорящему. Например:
b) That's why today, with this pledge, we promise:
To support the return of social and employment legislation to national control.
To cut the administration costs of all EU legislation by a quarter.
And to defend our opt-out from the Working Time Directive.
(David Cameron: European Election Campaign Launch,
http://www. )
Особой разновидностью промиссива являются транслирующие речевые акты обещания, под которыми подразумеваются случаи, когда говорящий сопровождает свой акт обещания определением условий, при которых возможно совершение действий, отраженных в пропозиции. Такой промиссив имеет форму сложноподчиненного предложения с придаточным условия, с помощью которого на поверхностном уровне передаются условия, необходимые для совершения какого-либо действия, мыслимого как "обещаемое". Например:
a) Giving people the right to fire their MP. Cutting the number of quangos. The plans in these pages have the potential to be era-changing, to end the age of state power and bring in a new age of people power. I promise you: if we achieve even half of our ambitions, it will be the biggest change in how the country is run for more than a generation.
(David Cameron: Welsh Manifesto launch,
http://www. :)
С точки зрения предполагаемого перлокутивного эффекта речевые акты обещания в политическом дискурсе можно разделить на собственно промиссивные и менасивные (соответственно, промиссивная манипулятивная тактика может быть представлена собственно промиссивным и менасивным вариантами).
Как справедливо утверждает один из основателей традиционной теории речевых актов, Дж. Остин, "произнесение каких-то слов часто, и даже обычно, оказывает определенное последующее воздействие (effect) на чувства, мысли или действия аудитории, говорящего или других лиц, и это может быть рассчитанный, намеренный целенаправленный эффект…" [Остин 1986: 84]. Мы считаем, что следствием совершения речевых актов обещаний может быть проявление каких-либо положительных чувств и эмоций со стороны того, кому непосредственно адресуется обещаемое продуцентом действие, а именно: радость, благодарность, чувство внутреннего удовлетворения и покоя и т. п. Однако положительные эмоции как перлокутивный эффект могут возникнуть у слушающего лишь в том случае, если обещаемое ему совершение какого-либо действия является для него желательным (подобные речевые акты являются собственно промиссивными). Например:
a) Only by voting Conservative can you vote for no nonsense action in the fight against crime. And I promise you this: I’ll get the job done.
(Michael Howard: Our hope is for a better Britain,
http://www. )
Если же обещаемое говорящим действие является нежелательным для слушающего, то можно говорить об иллокутивном акте угрозы (так называемый менасив - от англ. menace - "угроза") и соотвествующим ему намеренном прерлокутивном эффекте испуга, тревоги и т. п. Очень часто менасивная интенция выражается на поверхностном уровне с помощью транслирующей модели речевого акта, выступая, таким образом, угрозой-предупреждением. Например:
b) I don’t care what the armies of apologists and politically correct do-gooders have to say about the stand I’ve taken on crime. They’ve had their way for too long. So if you’re watching this on television and you’re a mugger, a vandal, or a burglar – whatever. I suggest you think twice before voting Conservative: because people have had enough and we’re not going to settle for it.
(Michael Howard: Our hope is for a better Britain,
http://www. )
Как мы можем увидеть, в примере a) речевой акт является средством выражения собственно промиссивной интенции, так как электорату обещается активная борьба с преступностью, что в качестве перлокутивного эффекта может вызвать чувство радости со стороны слушающих. Практически то же обещание (борьба с преступностью) в примере b) нацелено на то, чтобы вызвать негативные эмоции у другой группы слушающих – самих преступников – и может расцениваться как менасивная интенция.
По степени выраженности собственно коммуникативной промиссивной интенции на поверхностном уровне речевые акты обещания, задействованные в соответствующих предвыборных агитационных речах, можно разделить на акты с эксплицитным выражением и акты с имплицитным выражением интенции.
Для эксплицитного выражения промиссивного намерения используются перформативные формулы с глаголами ряда promise, а также прямые комментарии говорящего, исходящие от самого продуцента речевого действия (чаще всего это бывает лексема-существительное, имеющая один корень с соответствующим иллокутивным глаголом).
a) As the Party of the NHS, we promise (перформативная формула) we will be true to those values. And we will back it by two strong commitments.
(Andrew Lansley: Our NHS - our number one priority, http://www. )
b) So today we make a new promise to young people that they will not be unemployed for longer than 90 days before we find them work or training.
(Nick Clegg: Leader’s Speech to Conference,
http://www. libdems. org. uk)
В имплицитных промиссивах намерение говорящего восстанавливается из ситуации, но не выражено на поверхностном уровне, например:
c) People who see the values they grew up with and still believe in trashed.
No one worries about their sensitivities. No one cares if they feel excluded.
No one stands up for them. Well I will.
(Michael Howard: Fair play and equal treatment under the law, http://www. )
Итак, речевые акты с интенцией открытого типа имеют особую структуру. Они состоят из трех основных интенциональных компонентов, представляющих собой информативный компонент, отражающий фактическую ситуацию участников общения; собственно коммуникативный компонент, представляющий собой намерение продуцента по отношению к данной фактической ситуации, а также персуазивный компонент как намерение убеждения реципиента в искренности собственно коммуникативного намерения продуцента.
Доминирующим интенцией открытого типа в предвыборном агитационном дискурсе является интенция обещания.
Третья глава «Структура манипулятивной интенции и мишени манипуляции массовым реципиентом в политическом дискурсе Великобритании» посвящена созданию модели манипулятивной интенции, построенной на основе выявленных мишеней манипуляции массовым реципиентом. Кроме того, в данной главе исследования анализируются особенности реализации компонентов манипулятивной интенции в текстах предвыборных агитационных речей британских политиков. Описываются языковые средства актуализации выявленных мишеней манипуляции массовым реципиентом.
Мы считаем, что рассмотрение манипулятивного дискурса именно как речеактовой системы позволит описать многие из его механизмов. По нашему мнению, конкретное речевое действие заканчивается там, где, по мнению продуцента сообщения, мыслится достижение определенного планируемого перлокутивного эффекта: возникновения эмоции, действия, умозаключения и т. п. При этом перлокутивный эффект может делиться на доминирующий и сопутствующие, а также дистантный и контактные. Речевые акты могут объединятся в речевые единицы, которые мы предлагаем назвать микротекстами – единицами сообщения, нацеленными на достижение доминирующего и сопутствующих планируемых перлокутивных эффектов. Речевые акты в подобных микротекстах формируют логически законченное интенционально-смысловое единство. Например:
a) Conference, shelter is one of the most basic human needs.
Without shelter, how can you keep yourself fit and healthy, study for your exams, or work to earn a living?
Yet Labour have failed in their duty to provide shelter for those most in need. If a Labour government can’t get this right, then everything becomes irrelevant.
(Sarah Teather: Conference speech on housing,
http://www. libdems. org. uk)
b) The tragedy is that if the Government had followed our advice the national debt would be lower and, because credit would now be flowing to businesses, jobs could have been saved.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |





