Повышает ли антимонопольная политика благосостояние потребителя? Оценка данных*
Роберт Крэндалл и Клиффорд Уинстон†
(перевод под ред. Вадима Новикова)
Должны ли Соединенные Штаты проводить жесткую антимонопольную политику? Вскоре после принятия в 1890 г. антимонопольного Акта Шермана экономисты во главе с Джоном Бейтсом Кларком [Clark 1901] выдвинули точку зрения, согласно которой применение подобных законов должно руководствоваться доминирующей экономической теорией в отношении конкурентной борьбы и степенью, в которой то или иное поведение компании способно усилить или ослабить конкуренцию. Но с течением времени стало очевидным, что экономическая теория может с равным успехом толковать самые разные действия компаний то как содействующие, то как противодействующие конкуренции. Так, например, если при существенном падении цен в отрасли ни одна из компаний не может работать с выгодой для себя, и некоторым фирмам приходится покидать рынок, это свидетельствует либо о высококонкурентной рыночной среде, которая таким образом регулирует ситуацию временного затоваривания, либо же о том, что крупный участник рынка прибегает к стратегии искусственного занижения цен для выдавливания конкурентов. Точно так же, если компания строит крупную фабрику, это может говорить о том, что она активно участвует в конкуренции и намерена выпустить на рынок новый товар, равно как и о том, что она создает избыточные производственные мощности для запугивания конкурентов, угрожая расширить выпуск продукции и резко снизить цены при наличии подходящих условий. И хотя экономическая теория может помочь в изучении различных экономических составляющих, затрагиваемых антимонопольной политикой, чаще всего она не в состоянии дать вразумительных рекомендаций для этой политики, поскольку практически любые действия той или иной компании, за исключением прямого фиксирования цен, могут в итоге оказаться как способствующими, так и противодействующими конкуренции.
При таком разбросе теоретических возможностей любые доводы в пользу проведения жесткой антимонопольной политики в широком диапазоне должны с необходимостью основываться на фактических доказательствах, свидетельствующих о том, что эта политика проводится в широком смысле в интересах общества. В нашей работе мы утверждаем, что существующие фактические свидетельства применения антимонопольного законодательства говорят не в его пользу. Мы начинаем исследование с рассмотрения бюджетов и деятельности соответствующих антимонопольных государственных органов. Затем мы сводим воедино доступные результаты исследований, касающиеся экономического эффекта применения антимонопольного законодательства в трех основных областях: в области изменения структуры или поведения монополий, в области преследования фирм, прибегающих к антиконкурентной тактике, а именно, к фиксированию цен и прочим формам сговора, и в области расследования уведомлений о предполагаемых слияниях. Нам не удалось найти достаточно веских фактических доказательств того, что в прошлом вмешательства государства приводили к непосредственной и ощутимой потребительской выгоде или ощутимо сдерживали антиконкурентное поведение[1]. Мы понимаем, что в этих исследованиях использованы далеко не все потенциально полезные источники данных, а кроме того, почти не использованы последние эмпирически наблюдаемые сдвиги в отраслевой организации, которые могли бы помочь в анализе последствий отдельных антимонопольных дел. Таким образом, недостаточная изученность вопроса не позволяет нам давать сколько-нибудь масштабные рекомендации относительно проводимой антимонопольной политики. И все же, экономистам следует иметь в виду, что до тех пор, пока ими не будут представлены неоспоримые доказательства значительного повышения благосостояния потребителей вследствие действий антимонопольных органов, и пока они не смогут объяснить, почему одни действия и рекомендации полезны, а другие вредны, таким органам лучше ограничиться пресечением только наиболее очевидных и грубых антиконкурентных нарушений.
Предмет антимонопольной практики
Применение антимонопольного законодательства в США возложено в основном на Министерство юстиции и Федеральную комиссию по торговле (ФКТ) (Некоторые антимонопольные законы находятся в ведении генеральных прокуроров штатов, но на федеральном уровне антимонопольная деятельность распространена гораздо шире). Министерство юстиции применяет положения статьи 1 Акта Шермана, запрещающей контракты, объединения и сговоры, направленные на ограничение торговли; оно также применяет положения статьи 2 Акта Шермана, запрещающей действия, монополизирующие рынки или направленные на монополизацию рынков. И Министерство юстиции, и ФКТ применяют положения статьи 7 антимонопольного Акта Клейтона (1914 г.), запрещающей слияния компаний, если это грозит значительным ограничением конкуренции в какой-либо отрасли. Акт Клейтона также запрещает антиконкурентное поведение, такое как связывающие соглашения (когда потребителей вынуждают покупать товары определенного производителя, например, при покупке бритвы навязывается покупка лезвий того же производителя), а кроме того, Акт запрещает конкурирующим компаниям включать в состав своих советов директоров одних и тех же лиц. ФКТ может также возбуждать дела в соответствии со статьей 5 Закона о Федеральной комиссии по торговле о «применении нечестных методов конкурентной борьбы» и, таким образом, бороться с нарушениями, которые Министерство юстиции атакует в соответствии со статьями 1 и 2 Акта Шермана. Так, например, ФКТ изначально расследовала дело компании «Майкрософт» как дело об антиконкурентном поведении. Поскольку ФКТ в итоге не стала подавать иска, Министерство юстиции возбудило дело в соответствии с положениями статьи 2.
В Табл. 1 сведены данные о расследованиях и бюджетных ассигнованиях, связанных с работой Министерства юстиции и ФКТ, доступные только за последние 20 лет. Каждый год дела о монополизации составляют лишь небольшую часть антимонопольных расследований, но тем не менее на них расходуется значительная часть антимонопольного бюджета Министерства юстиции. Министерство юстиции расследует все меньше дел по обвинениям в фиксировании цены и иным сделкам, основанным на умышленном сговоре, таким как вертикальное ограничение рынка, и все же на эти расследования уходит целая треть его бюджета. Расследования планируемых слияний на сегодняшний день являются наиболее затратной частью антимонопольной деятельности, при этом ФКТ ведет несколько большее количество дел о слияниях, чем Министерство юстиции. До недавнего времени средства, выделяемые в бюджете ФКТ на ведение дел о слияниях, были сравнимы с общим бюджетом всех расследований Антимонопольного отдела Министерства юстиции.
Таблица 1. Расследования и бюджетные ассигнования Минюста и ФКТ: 1981, 1991, 2000 (в млн долл. США 2000 года)
|
Расследования | ||||
|
Агентство |
Деятельность |
1981 |
1991 |
2000 |
|
Антимонопольный отдел Минюста |
Монополизация |
8 |
5 |
8 |
|
Слияния |
66 |
92 |
177 | |
|
Фиксирование цен |
145 |
77 |
82 | |
|
ФКТ |
Слияния |
104 |
136 |
189 |
|
Итого |
323 |
310 |
456 | |
|
Бюджет | ||||
|
Агентство |
Деятельность |
1981 |
1991 |
2000 |
|
Антимонопольный отдел Минюстаа |
Монополизация и слияния |
31,1 |
23,3 |
57,2 |
|
Фиксирование цен |
22,2 |
24,6 |
30,7 | |
|
ФКТb |
Слияния |
54,4 |
45,5 |
59,0 |
|
Итого |
107,7 |
93,4 |
146,9 |
Источники: Бюджет США за 1982, 1992, 2002; бюджет Министерства юстиции за 1981, 1991, 2000 финансовый годы; статистика загрузки антимонопольного отдела , ; 5-й, 14-й и 23-й доклады по Акту Харта-Скотта-Родино (финановые годы 1981, 1991, 2000).
a Бюджетная информация антимонопольного отдела не различает расходы на монополизацию и слияния.
b Несмотря на то, что она отвечает прежде всего за слияния, ФКТ также время от времени возбуждает дела, касающиеся связывающих соглашений, ценовой дискриминации и нечестных способов конкуренции в соответствии с Актом Клейтона и Законом о Федеральной комиссии по торговле.
В целом ресурсы, потребляемые применением антимонопольного законодательства, далеко не сводятся к бюджетам антимонопольных органов, приведенным в Табл. 1. Компании, вовлеченные в антимонопольные процессы, вынуждены оплачивать работу юристов, особенно при получении одобрения слияний и приобретений контрольных пакетов акций. В своем исследовании Фишер и Лэнде [Fisher and Lande 1983] утверждают, что расходы фирмы, связанные с изучением слияния в правительственном органе, могут достигать 1,5 млн долларов (на 1980-е гг.). Компании, которым предстоит судебное разбирательство, должны оплачивать услуги адвокатов в течение всего (иногда весьма длительного) процесса и последующих апелляций. Антимонопольные процессы также требуют значительных затрат времени и сил со стороны руководства компаний и ключевых сотрудников, которым приходится объяснять поведение компании, предоставлять финансовые отчеты и т. п. Нам неизвестны оценки затрат компаний на участие в антимонопольных расследованиях и процессах, но они, без сомнения, исчисляются миллиардами долларов в год. И наконец, среди наиболее существенных издержек применения антимонопольного законодательства ― возможный отказ компаний от слияний, которые могли бы стать весьма продуктивными, отказ от ценовой конкуренции, от разработки новых товаров и инвестиций из страха попасть под действие антимонопольного законодательства, особенно, если в антимонопольные органы обращаются конкуренты, строя козни друг другу. Разумеется, может оказаться, что выгоды для потребителей потенциально перевесят все эти издержки правоприменения.
Идеальным способом определить, выиграли ли потребители от проведения антимонопольной политики и применения антимонопольного законодательства в случаях монополизации, сговоров и слияний, было бы сопоставление благосостояния потребителей при наличии и в отсутствие антимонопольных действий (при прочих равных)[2]. Тем не менее, в ХХ в. история США дает только один пример, допускающий подобное сопоставление. Во времена Великой депрессии действие антимонопольных законов было приостановлено для отдельных отраслей вследствие принятия в1933 г. Закона о национальном промышленном возрождении. Биттлингмайер [Bittlingmayer 1995], проанализировав этот факт, обнаружил, что цены за тот период не поднялись, ― наблюдение интригующее, но относящееся к прошлому и связанное с необычной ситуацией периода Великой депрессии. Другие свидетельства можно найти, сравнивая цены до и после вмешательства антимонопольных органов, а также рассматривая показатели разных отраслей, подвергнувшихся различным по интенсивности антимонопольным вмешательствам.
Монополизация
Ежегодно Министерство юстиции занимается расследованием менее десяти случаев вероятных случаев монополизации. Чтобы доказать существование монополии, государству необходимо продемонстрировать способность данной компании контролировать цены и объем предложения на рынке и показать, что эта способность вытекает из деловых решений, направленных главным образом на устранение конкуренции и приводящих к нему [Areeda 1988]. Способы излечения недугов монополизации могут быть отнесены к структурным, поведенческим или ведущим к ослаблению контроля над интеллектуальной собственностью. К структурным средствам относятся судебные предписания об изменении структуры компании или отрасли, например, горизонтальное разделение, предполагающее создание двух или нескольких непосредственно конкурирующих компаний на основе компании-ответчика, или вертикальное разделение, при котором на основе компании-ответчика создается несколько компаний, занимающихся различными этапами производства. Воздействие на поведение компаний направлено на пресечение такого поведения, которое, по мнению правительства, является антиконкурентным, например, связывающие соглашения, сговоры для устранения конкурентов, хищническое ценообразование и т. п. Правоприменительные органы должны отслеживать выполнение рекомендованных действий, а судебные инстанции с неизбежностью вовлекаются в разрешение конфликтов, возникающих между компаниями и антимонопольными органами. И наконец, в результате воздействия правоприменительных органов компанию могут заставить отказаться от основной интеллектуальной собственности, которая является предполагаемым источником ее монопольной власти, или лицензировать эту интеллектуальную собственность.
Невозможно анализировать все случаи монополизации без разбора, поскольку они имеют место в различных рыночных условиях и по-разному квалифицируются в разные периоды времени. Соответственно, мы будем изучать действенность ограничения монополизации посредством антимонопольной политики, сосредоточившись на самых важных примерах прошлого [XX] века, включая процессы против «Стандард ойл», «Америкэн тобакко», «Элкоа», «Парамаунт», «Юнайтед шу машинери» и «Эй-Ти-Энд-Ти». Подробное обсуждение этих и других антимонопольных дел и анализ их воздействия на благосостояние потребителя можно найти в работе [Crandall 2001]. Эти случаи представляют особый интерес для данного исследования, поскольку в каждом из них правительство одержало верх, добившись существенных перемен, что позволяет ожидать итоговой потребительской выгоды. Разумеется, все рассматриваемые случаи имели место много десятков лет тому назад, однако современное законодательство и его позиция в отношении монополизации основано на установленных этими делами прецедентах. Мы коротко обрисуем ситуацию для каждого случая и обратимся к доступным фактическим данным, чтобы оценить, действительно ли рекомендованные меры способствовали повышению благосостояния потребителя.
«Стандард ойл»
В конце XIX ― начале XX в. компания «Стандард ойл» занималась очисткой и продажей сырой нефти, произведенной в Пенсильвании, Огайо, Индиане и ряде соседних штатов, а также развивала транспортную инфраструктуру и производственные мощности. Жалобы на деловое поведение компании звучали с разных сторон. «Стандард ойл» обвиняли в использовании жесткой тактики ведения переговоров с железными дорогами и в том, что она отказывала другим независимым нефтяным компаниям в праве доступа к своим трубопроводам и транспортной инфраструктуре. Кроме того, считалось, что она прибегала к хищническому ценообразованию для удаления своих конкурентов с рынка ― обвинение, которое было оспорено в [McGee 1958]. Государственные власти опасались, что «трест» «Стандард ойл», который объединял все прибыли компании, станет источником захвата рыночной власти и фиксирования цен. В 1911 г. Верховный суд США подтвердил решение суда низшей инстанции 1909 г., признавшего «Стандард ойл» виновной в нарушении статей 1 и 2 Акта Шермана, а именно, в попытке монополизировать национальную нефтеперерабатывающую промышленность и ограничить торговлю с помощью «Нью-Джерсийского треста» (Standard Oil Company of New Jersey v. United States, 221 U. S. 1 [1911]). По решению суда этот трест должен был прекратить существование, разделившись на 38 отдельных и независимых компаний, которым было запрещено создавать единый орган управления.
Очевидно, правительство США рассчитывало, что разделение компании «Стандард ойл» приведет к снижению цен на очищенную нефть, а также, возможно, ожидало ослабления монопсонической власти на рынке сырой нефти. Из-за открытия новых месторождений реальные цены на сырую нефть начали падать еще до начала процесса по делу «Стандард ойл», а после его завершения они даже слегка поднялись, как показано на Рис. 1. Цены на керосин и бензин после вынесения решения начали колебаться. Для проведения простого формального анализа мы собрали данные по годам с 1889 по 1917 и сделали регрессию для цены на нефть на основе ВНП, общего количества зарегистрированных автомобилей и общего объем апроизведенной электроэнергии (от этих факторов, в основном зависит колебание спроса на бензин), тренда 1889–1900 гг., позволяющего учесть открытие новых нефтяных месторождений на западе США, и дамми - коэффициент прекращения деятельности (взятый за единицу в 1912–1917, и за ноль в другие периоды). Дамми-коэффициент в действительности оказался положительным и равнялся 0,50, однако все же статистически незначимым с t-статистикой 0,88. (Знак и значимость дамми-коэффициента не менялись, если мы удаляли некоторые из объясняющих переменных).
Еще ранее эксперты отмечали, что разделение «Стандард ойл» мало сказалось как на благосостоянии потребителя, так и на доходах компании, поскольку приписываемая «Стандард ойл» рыночная власть уже давно была далеко не той, что в ее лучшие времена. Так, рыночная доля «Стандард ойл» в очистке нефтепродуктов по стране падала еще до вынесения решения с 82% в 1899 г. до 64% в 1911 г. по мере того, как развивалось аналогичное производство в нефтепроизводящих регионах Центральных штатов, Мексиканского залива и Запада США, а независимые компании со значительной капитализацией, такие как «Галф ойл», «Юнион ойл», «Тексас компани», «Сан ойл», «Филлипс» и «Ситиз сервис», составили ей конкуренцию. К 1920 г. доля «Стандард ойл» в производстве очищенных нефтепродуктов упала до 50%, но этот спад явился ни чем иным, как проявлением обозначившейся ранее тенденции [Comanor and Scherer 1995; Williamson et al. 1963]. Кроме того, разбиение «Стандард ойл» на большое количество независимых компаний нисколько не ослабило контроль клана Рокфеллеров над всеми вновь образованными фирмами. Таким образом, Бернс [Burns 1977] констатирует, что фондовый рынок воспринял решение по делу «Стандард ойл» как «щадящее». Если бы такое решение было вынесено до 1900 г., оно могло бы способствовать усилению конкуренции, но к 1911 г. конкуренция в нефтеперерабатывающей отрасли была уже достаточно высока, и решение практически не принесло никаких результатов.
«Америкэн тобакко»
Компания «Америкэн тобакко» производила мелкие и обычные сигары, прессованный и курительный табак, нюхательный табак и сигареты. К 1910 г. по каждой группе товаров на ее долю приходилось примерно 75% продаж, за исключением обычных сигар, доля в продажах которых была меньше. По форме организации «Америкэн тобакко» представляла собой трест и занимала столь высокие рыночные позиции благодаря приобретению крупных фирм, таких как «Юнион тобакко компани» и «Континентал тобакко компани», а также благодаря агрессивной ценовой политике, предположительно часто выражавшейся в установлении цен ниже производственных издержек [Tennant 1950]. В 1908 г. федеральное правительство возбудило (и выиграло) против «Америкэн тобакко» дело о нарушении Акта Шермана с требованием разделения треста. После этого Верховный суд признал вынесенное судом первой инстанции решение о роспуске треста излишне суровым и вынес решение по делу «США против „Америкэн тобакко“» (221 U. S. 106 [1911]) в соответствии с которым производство сигарет было поделено между тремя фирмами: «Америкэн тобакко» сохранила за собой активы, производящие 37% всей сигаретной продукции США, компания «П. Лорилард» получила 15%, а вновь образованная «Лиггет и Майерс» ― 28%. Аналогичным образом были поделены активы предприятий, производящих прессованный и курительный табак, а также сигары.
Рисунок 1. Реальные цены на нефтепродукты,
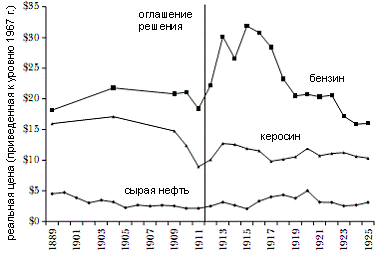
Примечания: В ценах на бензин и керосин учтена инфляция в соотвествии с Индексом потребительских цен для всех потребителей в городах. В цене сырой нефте инфляция учтена с применением дефлятора ВНП.
Источники: Williamson et al. (1963); U. S. Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Bicentennial Edition 224, 593-594 (U. S. Department of Commerce, 1975); Bureau of Labor Statistics internet.
Рис. 1. Реальные цены на нефть и нефтепродукты, 1899―1925
Однако реструктурирование табачной отрасли путем превращения ее в трехстороннюю олигополию привело к развязыванию борьбы за рынок средствами рекламы, а не ценовой политики [Tennant 1950]. Реальные цены на сигареты были достаточно стабильны в течение нескольких лет, предшествовавших и последовавших за вынесением решения, а несколькими годами позже они поднялись из-за повышения акциза на табачную продукцию. Разделение «Америкэн тобакко» никак не повлияло и на закупочные цены для фермеров. Отсутствие ценовой конкуренции и олигополия трех компаний оказались весьма прибыльными и позволили получать в 1912–49 гг. прибыль примерно того же порядка, что и прибыль треста в 1898–1908 гг. Стабильность ставки прибыли в отрасли и отсутствие заметного падения цен после 1911 г. позволяют предположить, что дело «Америкэн тобакко» не слишком подстегнуло здоровую конкуренцию в отрасли.
«Алкоа»
«Американская алюминиевая компания» («Алкоа», ранее «Питтсбург ридакшн компани»), получила это имя в 1907 г. и уже к 1909 г. интегрировалась вниз и вверх, начав добывать руду и производить продукцию из алюминия. Кроме того, «Алкоа» контролировала канадскую компанию «Алюминум лимитед», которая в то время была крупнейшим источником импорта алюминия в США. Производство алюминия предполагает добычу алюминиевой руды (как правило, бокситов), переработку руды для выделения глинозема, выплавку алюминиевых болванок и изготовление из этих болванок различной продукции, такой как листы, трубы и проволока. В 1912 г. Министерство юстиции обвинило «Алкоа» в ограничении торговли и монополизации алюминиевой отрасли. «Алкоа» вынуждена была согласиться с предписанием суда, заставляющим ее отказаться от контроля над канадской дочерней компанией, разорвать контракты с двумя химическими компаниями, у которых она приобретала бокситовую руду, а также отказаться от любых основанных на сговоре соглашений или слияний и дискриминации при продаже болванок конкурирующим производителям алюминиевых изделий.
Однако данное предписание не лишило «Алкоа» доминирующего положения на небольшом рынке, который вследствие экономии на масштабах производства, скорее всего, мог прокормить лишь одного производителя. К концу 1930-х основное производство «Алкоа» и ее же импорт все еще обеспечивали 90% поставок алюминия в США. В 1937 г. Министерство юстиции завело еще одно гражданское дело по Акту Шермана и вновь обвинило «Алкоа» в монополизации рынка алюминия и ограничении свободы торговли. Правительство оспорило вердикт о невиновности, вынесенный окружным судом, в Верховном суде США, кворум для которого невозможно было собрать, так как многие из его членов ранее участвовали в деле «Алкоа». Тогда в законодательном порядке было принято решение разрешить трем старшим судьям в составе выездной сессии Окружного апелляционного суда с соответствующей территориальной юрисдикцией выступить в качестве окончательной апелляционной инстанции. В деле «США против „Американской алюминиевой компании“» (United States v. Aluminum Company of America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945)) судья Лернед Хэнд отменил решение суда низшей инстанции, заключив, что «Алкоа» монополизировала рынок первичного алюминия и была вовлечена в 1925–32 гг. в установление низких цен, продавая алюминиевый лист по цене, практически не превышающей цену болванок, что не позволяло независимым компаниям выходить на соответствующий рынок и продавать лист по ценам, делающим производство рентабельным. Решение судьи Хэнда не было основано на этом конкретном нарушении, но именно оно лежало в основе проблемы, которую должно было решить назначенное наказание.
Окончательное вынесение решения было отложено до завершения Второй мировой войны, во время которой правительство построило новые заводы для передела алюминия, его выплавки и формования. В своем исследовании Крэндэлл [Crandall 2001] представляет фактические доказательства того, что решение суда не сказалось на ценах на алюминий и почти не повлияло на размер разницы в ценах на алюминиевую продукцию и алюминий. После войны практически все алюминиевые предприятия, принадлежавшие государству, были переданы компаниям «Рейнольдс Металз» и «Кайзер» (которая тогда называлась «Перманенте металз корпорейшн»), и таким образом у «Алкоа» появилось два серьезных конкурента. В 1950 г. окружной суд вынес решение против ликвидации «Алкоа», но оставил дело в своем производстве еще на пять лет на случай, если две вновь образованные компании не смогут составить ей реальной конкуренции. В период 1950–55 гг. на рынок производства алюминия вышли еще три компании, вновь при поддержке государства, и в 1956 г. окружной судья Кашин признал достаточными доказательства конкурентности отрасли и не стал продлевать срок нахождения дела в производстве на следующие пять лет[3].
Неспособность первого судебного решения 1912 г. подорвать монополию «Алкоа» на рынке алюминия объяснялась невысокими и даже снижающимися объемами этого рынка, который к середине 1930-х гг. едва достигал 150 тыс. тонн в год. В противоположность первому решению, решение 1945 г. вообще не требовало от «Алкоа» никаких действий, так как правительственные программы сами распределили производственные мощности среди новых участников рынка. Когда ежегодный спрос на алюминий вырос в 1940–50-х гг. до 1,25 млн тонн, естественным было бы ожидать появления на этом рынке новых компаний и без государственной поддержки. Учитывая, что «Алкоа» не контролировала поставки двух наиболее важных для производства алюминия компонентов ― бокситов и электроэнергии, ― трудно представить себе, как бы она могла после Второй мировой войны помешать вхождению на рынок новых компаний. Более того, рынок стал достаточно большим, и «Алкоа» просто не обладала необходимыми для создания естественной монополии характеристиками. К 1955 г. рыночная доля «Алкоа» снизилась более чем вдвое по сравнению 1937 г., когда против нее был подан иск, хотя ее производство выросло в четыре раза.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |




