Зная зрительные возможности детей, педагоги должны целенаправленно влиять на развитие зрения, создавать условия в процессе воспитания и обучения детей для закрепления результатов лечебно-восстановительной работы.
Большое значение в организации работы по развитию зрительного восприятия имеют различные наглядные пособия, дидактический материал, которые педагоги используют на занятиях. Они должны быть лаконичны и понятны детям, выполнены яркими, контрастными, насыщенными цветами. Показ наглядных пособий следует сопровождать четким, ясным и конкретным словесным пояснением, позволяющим детям понять, выделить конкретные визуальные признаки предметов и явлений окружающего мира.
На занятиях по изобразительной деятельности следует учить детей выделять признаки предметов, чтобы они затем смогли более точно отобразить их в своих рисунках. Психофизические методы восстановления зрения (светостимуляция, представление изображений на световом табло и др.) сочетаются с психолого-педагогическими методиками.
К примеру, на занятиях по математике формируются понятия широкое — узкое, длинное — короткое; можно предложить детям в зависимости от величины объекта (машины, гусеницы, ослика) нарисовать для него дорожку соответствующей ширины. Тем детям, которые по состоянию зрения не могут справиться с таким заданием, предлагается из набора лент выбрать ленты соответствующей ширины. В подобных заданиях упражняется зрение, и таким образом усиливается результат лечебно-оздоровительной работы.
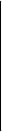
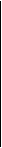 По рекомендации врача-офтальмолога, в зависимости от периода восстановительного лечения, педагоги используют различные дидактические игры и упражнения для активизации остроты зрения, стимуляции сетчатки глаза, глазодвигательных функций. Так, в период плеоптического лечения, направленного на повышение зрения, врачи-офтальмологи предлагают проводить с детьми занятия по нанизыванию бус, обводку через кальку контурных изображений, выкладывание из мозаики и т. д.
По рекомендации врача-офтальмолога, в зависимости от периода восстановительного лечения, педагоги используют различные дидактические игры и упражнения для активизации остроты зрения, стимуляции сетчатки глаза, глазодвигательных функций. Так, в период плеоптического лечения, направленного на повышение зрения, врачи-офтальмологи предлагают проводить с детьми занятия по нанизыванию бус, обводку через кальку контурных изображений, выкладывание из мозаики и т. д.

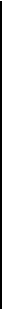
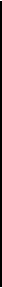 Большое внимание, особенно перед началом лечения на медицинских аппаратах, педагоги уделяют подготовительным упражнениям, которые они проводят совместно с медицинскими сестрами. Так, при исправлении косоглазия на ортоптическом приборе «Синаптофор», детей предварительно знакомят с изображениями, используемыми на приборе, а затем предлагают игры: «Подбери пару», «Наложи одно изображение на другое», «Соедини два изображения в одно», «Подбери к контурному изображению силуэт». Используются такие упражнения, как накладывание одного изображения на другое.
Большое внимание, особенно перед началом лечения на медицинских аппаратах, педагоги уделяют подготовительным упражнениям, которые они проводят совместно с медицинскими сестрами. Так, при исправлении косоглазия на ортоптическом приборе «Синаптофор», детей предварительно знакомят с изображениями, используемыми на приборе, а затем предлагают игры: «Подбери пару», «Наложи одно изображение на другое», «Соедини два изображения в одно», «Подбери к контурному изображению силуэт». Используются такие упражнения, как накладывание одного изображения на другое.
В период выработки стереоскопического зрения особенно эффективны настольные игры «Футбол», «Баскетбол», «Бильярд», «Колпачки», «Набрось кольцо», «Попади в обруч», «Прокати шар в ворота», а также игры с различными конструкторами, мозаиками. При игре упражняются глазомерные функции. Дети учатся соизмерять по величине предметы, определить расстояние между объектами. Большие возможности для упражнения зрительных функций в определении расстояния, удаленности предмета, протяженности пространства имеются в подвижных играх, включающих элементы поиска.
В ходе занятий и игр происходит повышение общей функциональной активности и различительной чувствительности зрительной системы, идет формирование бинокулярной фиксации, упражняются глазодвигательные функции. Стимуляция цветоразличения, стреоскопичности видения в условиях изменения насыщенности и интенсивности цвета и размера стимула дает хорошие результаты в развитии зрительных функций.
7.10. Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения зрения
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением зрения прежде всего состоит в организации компенсаторной перестройки слухового, кожного, тактильного и др. анализаторов. Коррекционная работа строится как многоуровневая система целостного, комплексного, дифференцированного, регулируемого процесса психофизического развития и восстановления зрения детей на основе стимуляции всех потенциальных возможностей. Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного возраста заключается: во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда и т. д.); в интеграции ребенка в общество зрячих на основе сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения.
Успешность коррекционной работы зависит от: учета иерархии отклонений и нарушений в психофизическом развитии детей; реализации основных принципов коррекционной работы; выбора содержания, форм и методов коррекционной работы; взаимосвязи психолого-педагогической и лечебно-восстановительной работы.
Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в двух направлениях: 1) специальные коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия, лечебной физкультуре, ритмике, социальной адаптации пространственной ориентировке, коррекции речевых нарушений; 2) организация коррекционных упражнений на различных занятиях (по математике, рисованию, физической культуре, ручному труду и др.) в играх, бытовой деятельности. Система упражнений, способствующих активизации зрительного восприятия и познания окружающей действительности, согласуется с врачом-офтальмологом.
При проведении любого вида коррекционной работы учитываются задачи лечебного процесса, включая работу по снятию побочного влияния медицинских процедур на психику ребенка. Знание психических особенностей ребенка позволяет педагогу целенаправленно влиять на развитие зрения, создавать условия для закрепления результатов восстановительного лечения и корригировать негативные психоэмоциональные проявления, обусловленные влиянием лечебного процесса.
Компенсаторная перестройка во многом зависит от сохранности зрения. Даже незначительные остатки зрения важны для ориентации в познавательной деятельности детей с глубокими нарушениями зрения.
Коррекционная работа при полном отсутствии зрения должна быть направлена на использование специальных приемов и способов наблюдений явлений и предметов с опорой на слух, осязание, обоняние, что позволяет формировать у детей сложные синтетические образы реальной действительности.
Большое значение в восприятии и познании окружающей среды у слепых и слабовидящих имеет осязание, которое помогает определять форму, размеры предмета.
Наряду с осязанием большое значение имеет слух. С помощью звуков дети с нарушением зрения могут свободно определять предметные и пространственные свойства окружающей среды. Высокий уровень развития слуха у слепых и слабовидящих обусловлен необходимостью ориентироваться в условиях разнообразного звукового поля. Поэтому в процессе обучения и воспитания детей с нарушением зрения проводятся упражнения на дифференциацию, различение и оценку с помощью звука характера предмета, анализ и оценку сложного звукового поля: звуковые сигналы присущи определенным предметам, устройствам, механизмам и являются проявлением процессов, происходящих в них.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением зрения в школе при обучении и воспитании предусматривает развитие процессов компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков познавательной деятельности. Сохранность речи и мышления, достаточный уровень компенсаторного развития у большинства слепых и слабовидящих детей позволяют им овладеть высоким уровнем образования, развить восприятие, память и т. д.
Комплекс воспитательных мероприятий при коррекционно-педагогической работе должен быть направлен на раскрытие широких возможностей слепых и слабовидящих детей, формирование уних активной жизненной позиции, предполагающей возможно полное участие в жизни, полноценный труд и т. д.
Для развития у детей с нарушением зрения познавательно-образного мышления используют игру, учение, труд, которые можно рассматривать как познавательно-оценочную, преобразующую деятельность, в которой отображается взаимодействие с окружающей действительностью. При этом дети могут убедиться в успешности ориентации и адекватности своих предметно-практических действий, осознать свои потенциальные возможности.
Итак, коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением зрения направлена на гармоничное развитие ребенка в той степени, в которой это позволяет сделать уровень нарушения зрения в каждом отдельном случае, а также психологическое и физическое развитие детей.
Список литературы
1. Волкова и коррекция устной речи у слепых и слабовидящих детей. - Л, 1982.
2. Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих.- Л,1984.
3. Воспитание аномальных детей в дошкольных учреждениях.- М,1978.
4. , Якунин , воспитание и обучение детей с нарушениями зрения.- М,2000.
5. , , Плаксина детей, страдающих содружественным косоглазием и амблиопией. - М,1989.
6. Жильцова особенности развития речи и фонематического слуха у старших дошкольников с глубокими нарушениями зрения.// Дефектология,1971 -№ 2.
7. Земцова дошкольное воспитание детей с нарушением зрения и его коррекционная направленность. Материалы Всесоюзного симпозиума по дошкольному воспитанию детей с нарушениями зрения (отв. ред. ) - М,1980.
8. К вопросу о психолого-педагогическом изучении слабовидящих дошкольников, поступающих в детский сад. Вопросы обучения воспитания слепых и слабовидящих. - Л,1981.
9. Кондратов ребенок не видит. - М,1991.
10. Коробко речевых недостатков у слабовидящих школьников.- М,1973.
11. К вопросу об особенностях смысловой стороны речи слабовидящих дошкольников.// Дефектология,1985.- № 6.
12. Морозова активного познавательного отношения к окружающей действительности у дошкольников с нарушением зрения. Вопросы активизации обучения в школах для детей с нарушениями зрения.// Сб. научных трудов НИА дефектологии АПН СССР - М,1976.
13. Методика ознакомления детей с природой в детском саду (под ред. П.Г. Саморуковой). - М,1992.
14. Малаев для слепых и слабовидящих детей.- М,1992.
15. Малаев -пе6дагогические предпосылки по воспитанию дефицита нравственного и физического развития слепых и слабовидящих детей в игре. // Дефектология,1993. - № 5.
16. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением зрения.- СПб,1995г.
17. Пакутнева связной речи дошкольников с нарушением зрения. Автореферат дис. ….канд. пед наук. - М,1988.
18. Плаксина -воспитательное значение подвижных игр в развитии детей с амблиопией и косоглазием. Воспитание аномальных детей в дошкольных учреждениях.// Сб. научных трудов НИИ дефектологии АПН СССР.- М,1978.
19. О работе тифлопедагога.\\ Дефектология,1983. - № 3.
20. , Гладких работа по рисованию с натуры в детском саду для детей с нарушением зрения//. Дефектология,1988. - № 2.
21. , Григорян медико-педагогической помощи в дошкольных учреждениях для детей с нарушением зрения. - М,1988.
22. Плаксина основы коррекционной работы в детском саду для детей с нарушением зрения.- М,1988.
23. Рудакова направления работы специализированного детского сада для детей с нарушением зрения. Вопросы воспитания слепых и слабовидящих. - М,1982.
24. О готовности слабовидящих детей к обучению. Особенности учебной и трудовой деятельности при глубоких нарушениях зрения.- Л,1983.
25. Свиредюк -воспитательная работа со слабовидящими детьми дошкольного возраста.- Киев,1981.
26. Свиредюк слабовидящих детей к школе. Киев,1984.
27. Сековец двигательного режима детей дошкольного возраста с нарушением зрения.\\ Дефектология,1987. - № 6.
28. Слабовидящие дети./ Под ред. , , .- М,1967.
29. 33.Совершенствование процесса обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей /Под. ред. , , .- М,1986.
30. Солнцева слепого дошкольника.- М,1967.
31. Самбикин для слепых детей.- М,1979.
32. 40. У истоков обучения слепых в России. //Дефектология,1984. - № 4.
33. Хорош как средство познания окружающего мира слепыми дошкольниками.// Дефектология,1983.- № 2.
34. Хрестоматия по истории тифлопедагогики// Дефектология,1983.- № 2.
35. О некоторых особенностях развития речи детей с глубокими нарушениями зрения.- Л,1972.
Раздел 8. Синдром раннего детского аутизма
8.1. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. Этиология РДА
Синдром раннего детского аутизма в сферу научных исследований отечественной дефектологии включен в последние три десятилетия. Речь идет о детях с особой, недостаточно ясной патологией нервной системы генетического или экзогенного (внутриутробные и постнатальные поражения головного мозга) происхождения, при которой затруднено формирование эмоциональных контактов ребенка с внешним миром и прежде всего — с человеком. Отсутствие общения, возникающее с раннего детства, искажает ход всего психического развития ребенка, грубо препятствует его социальной адаптации.
Высокая частота РДА (12—15 на 10000 детей) указывает на социальную значимость этой проблемы. Но несмотря на то, что со времени первого описания РДА прошло почти полвека (Ь. Каппег, 1943), проблемы этой аномалии развития еще далеки от разрешения. В нашей стране, где долгие годы РДА традиционно рассматривался в рамках прогредиентного шизофренического процесса, задачи его ранней дифференциальной диагностики от других аномалий развития, разработки системы психолого-педагогической коррекции вообще считались неактуальными.
В 1977 году при НИИ дефектологии АПН СССР была впервые создана специальная экспериментальная группа по комплексной коррекции РДА, в которой совместно работают врачи, психологи и педагоги-дефектологи.
Основной ее целью является разработка системы клинико-психолого-педагогической коррекции РДА. Решению этой проблемы способствовали проведенные нами исследования по выделению критериев максимально ранней, на 1—2 году жизни диагностики РДА; разграничению его клинико-психологических вариантов; определению критериев ранней дифференциации с другими аномалиями развития, имеющими сходную симптоматику; выделению патогенетических механизмов, имеющих значение для построения системы коррекции.
Отдельные профессиональные описания как детей с аутистическими нарушениями психического развития, так и попыток врачебной и педагогической работы с ними стали появляться еще в прошлом столетии. Так, судя по ряду признаков, знаменитый Виктор, «дикий мальчик», найденный в начале прошлого столетия недалеко от французского города Аверона, был аутичным ребенком. С попытки его социализации, коррекционного обучения, предпринятой доктором , и началось, собственно, развитие современной специальной педагогики.
В 1943 г. американский клиницист Л. Каннер, обобщив наблюдения 11 случаев, впервые сделал заключение о существовании особого клинического синдрома с типичным нарушением психического развития, назвав его «синдром раннего детского аутизма». Доктор Каннер не только описал сам синдром, но и выделил наиболее характерные черты его клинической картины. На это исследование в основном опираются и современные критерии этого синдрома, получившего впоследствии; второе название — «синдром Каннера».
В настоящее время большинство авторов полагают, что ранний детский аутизм является следствием особой патологии, в основе которой лежит именно недостаточность центральной нервной системы. Был выдвинут целый ряд гипотез о характере этой недостаточности, ее возможной локализации. В наши дни идут интенсивные исследования по их проверке, но однозначных выводов пока нет. Известно только, что у аутичных детей признаки мозговой дисфункции наблюдаются чаще обычного, у них нередко проявляются и нарушения биохимического обмена. Эта недостаточность может быть вызвана широким кругом причин: генетической обусловленностью, хромосомными аномалиями (в частности, фрагильной Х-хромосомой), врожденными обменными нарушениями. Она может также оказаться результатом органического поражения центральной нервной системы в результате патологии беременности и родов, последствием нейроинфекции, рано начавшегося шизофренического процесса. Американский исследователь Э. Орниц выявил более 30 различных патогенных факторов, которые способны привести к формированию синдрома Каннера. Аутизм может проявиться вследствие самых разных заболеваний, например врожденной краснухи или туберозного склероза. Таким образом, специалисты указывают на полиэтиологию (множественность причин возникновения) синдрома раннего детского аутизма и его полинозологию (проявление в рамках разных патологий).
Безусловно, действие различных патологических агентов вносит индивидуальные черты в картину синдрома. В разных случаях аутизм может быть связан с нарушениями умственного развития различной степени, более или менее грубым недоразвитием речи; эмоциональные расстройства и проблемы общения могут иметь различные оттенки.
Таким образом, (по ) детский аутизм – это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким его проявлением является нарушение развития социального взаимодействия, коммуникации с другими людьми, что не может быть объяснено просто сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. Другая характерная особенность – стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении сохранить привычные условия жизни, сопротивлении малейшим попыткам изменить что-либо в окружающем, в собственных стереотипных интересах и стереотипных действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам.
8.2. Дифференциальная диагностика РДА
Приведенные ниже данные получены на основании сравнения ранних признаков РДА с симптоматикой многочисленной нервно-психической патологии раннего детского возраста, наблюдаемой ей в течение сорокалетней клинической практики и нередко имеющей определенное сходство с проявлениями РДА.
Проблема дифференциальной диагностики РДА представляет большую актуальность. У 82% наблюдаемых ею аутичных детей на 1—2 годах жизни ошибочно диагностировались другие заболевания: невропатия, перинатальная энцефалопатия, последствия родовой травмы, олигофрения или ЗПР, детский церебральный паралич, алалия, глухота. Соответственно не назначалась адекватная терапия и, естественно, не ставился вопрос об особенностях воспитания.
Дифференциация с умственной отсталостью и ЗПР. При тяжелых формах РДА, осложненных (либо обусловленных) церебрально-органической недостаточностью, может формироваться и умственная отсталость. Кроме того, в неблагоприятных условиях среды интеллектуальное недоразвитие аутичного ребенка может быть обусловлено «наложением на его аутистическую самоизоляцию явлений социальной депривации. При этих двух вариантах речь идет о так называемом «олигофреническом плюсе». Но относительно часты и случаи, когда постановка вопроса о дифференциации РДА с умственной отсталостью и ЗПР правомерна. Это те достаточно многочисленные наблюдения, когда ошибочное впечатление умственной отсталости и ЗПР создается самими аутистическими особенностями поведения и деятельности. Сходство со 2-й группой РДА проявляется в трудностях привлечения внимания, сложностях обучения бытовым навыкам, в манипулятивности игры, неразвернутости речи, задержке в развитии тонкой моторики. Сходство с 4-й группой РДА— в пассивности, безынициативности, бедности речи, слабости психической активности. Различие: при умственной отсталости и церебрально-органической ЗПР сохраняются зрительный контакт, стремление к общению вообще; витальные потребности нередко усилены. Отсутствуют типичные для РДА особенности речи, интерес к знаку, эмоциональная хрупкость. Нет явной разницы интеллектуальной продуктивности в привычной среде и вне ее.
Дифференциация с органической деменцией. Сходство с 1-й группой РДА проявляется в распаде целенаправленной деятельности с потерей речи, навыков, появлением полевого поведения, а также двигательных стереотипии; возникновении патологии после инфекции, травмы ЦНС. Различие: при органической деменции — отсутствуют грубые нарушения контакта, чаще резко усилены витальные потребности, распад речи — чаще по типу афазии, двигательные стереотипии — чаще по типу органических персевераций; типично появление неврологической симптоматики.
Дифференциация с первичными нарушениями речи (сенсорной и моторной алалией, дизартрией). Сходство этих нарушений речи с 1-й и 2-й группой РДА — в «непонимании» речи окружающих, невыполнении словесных инструкций, отсутствии речи; с 4-й группой РДА — в невнятности произношения, частых запинках. Различие: при органическом недоразвитии речи — сохранность невербальных коммуникаций (жестов, мимики), зрительного контакта, наличие возгласов с целью привлечь внимание; отсутствие разницы в «понимании» речи и внятности произношения в аффективно индифферентных или значимых для ребенка ситуациях, «прорывов» в аффекте слов иди фраз, а также эффективность логопедического вмешательства.
Дифференциация с невропатией. Ее сходство с 4-й группой РДА проявляется в слабости физического тонуса, чувствительности к перемене обстановки, нередкой тормозимости и ранимости в контактах, неустойчивости настроения, а также наличии двигательных стереотипии. Различие: при невропатии имеется стремление к контактам, двигательные стереотипии носят характер тиков; отрицательное отношение к перемене обстановки возникает обычно в объективно неблагоприятной ситуации; имеется способность имитации, отсутствуют типичные для РДА особенности моторики, речи, восприятия.
Дифференциация с остаточными явлениями раннего органического поражения ЦНС. Сходство со 2-й группой РДА проявляется в психомоторной расторможенности, импульсивности, негативизме, нарушениях внимания, наличии судорожных припадков. Сходство с 3-й группой РДА— в агрессивности, патологии влечений, склонности (при гидроцефалии) к рассуждательству, речевым штампам. Сходство с 4-й группой РДА — в истощаемости. Различие: при церебрально-органической резидуальной патологии сохранено стремление к контакту, в расторможенности движений отсутствуют компоненты манерности, вычурности, в речи нет неологизмов, отставленных эхолалий. Следует, однако, отметить, что ряд из этих дифференциально-диагностических различий не может быть использован при органических формах РДА, характеризующихся сочетанием аутистической и церебрально-органической симптоматикой.
Дифференциация с глухотой. Внешнее сходство глухоты с 1-й и 2-й группами РДА — в отсутствии отклика на обращение, оборачивания на источник звука. Различие: в данных объективной аудиометрии; при глухоте — отсутствии реакции на звук, голос и в аффективно значимой ситуации, отсутствии слежения за движениями губ собеседника.
Дифференциация с детским церебральным параличом (ДЦП). Сходство со 2-й, реже с 4-й группой РДА в наличии мышечного гипо - и гипертонуса, запаздыванием формирования моторики, нарушениях плавности, синхронизации движений (в том числе — мимических), их силы, точности; двигательных стереотипиях, диз-артрических расстройствах; нарушениях моторных действий с предметами, в том числе — в игре; наличие симбиотической связи с матерью; психической тормозимости, страхов, боязни нового; отставании в психическом развитии, а также нередкости вторичных аутистических проявлений. Различие: для ДЦП характерны отсутствие эффекта от кратковременного массажа; нарастание затруднений в движениях и речи по мере усиления аффективного к ним отношения; отсутствие вычурности, манерности движений. В симбиозе с матерью больше выступает компонент физической зависимости. Сохранен визуальный контакт. Страхи преимущественно адекватно замкнуты на физическую беспомощность. Психическая тормозимость связана с реальными трудностями, выраженными церебрастеническими явлениями. Нарушения эмоционального развития — чаще по типу «органического инфантилизма»: сочетании недостаточной дифференцированности эмоций с их определенной инертностью и монотонностью. Часто наблюдаются черты эгоцентризма, обусловленного гиперопекой. Характерна постепенность формирования аутистических черт именно как вторичных, обусловленных псевдокомпенсаторным уходом от реальных трудностей. Большое значение имеет массивность и специфика неврологической симптоматики.
8.3. Клинико-психологическая характеристика детей с РДА
Наиболее яркими внешними проявлениями синдрома детского аутизма, обобщенными в клинических критериях, являются:
— аутизм как таковой, т. е. предельное, «экстремальное» одиночество ребенка, снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию. Характерны трудности установления; глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Обычны сложности в выражении, ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им состояний других людей. Трудности контакта, установления эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с близкими, но в наибольшей мере аутизм нарушает; развитие отношений со сверстниками;
— стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни; сопротивление малейшим изменениям в обстановке, порядке жизни, страх перед ними; поглощенность однообразными действиями — моторными и речевыми: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки, повторение одних и тех же звуков, слов, фраз; пристрастие к одним и тем же предметам, одним и тем же манипуляциям с ними: трясению, постукиванию, разрыванию, верчению; захваченность стереотипными интересами,' одной и той же игрой, одной темой в рисовании, разговоре;
- особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего — ее коммуникативной функции. В одной трети, а по некоторым данным даже в половине случаев это может проявляться как мутизм (отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации; при котором сохраняется возможность случайного произнесения отдельных слов и даже фраз). Когда же устойчивые речевые формы развиваются, они тоже не используются для коммуникации: так, ребенок может увлеченно декламировать одни и те же стихотворения, но не обращаться за помощью к родителям даже в самых необходимых случаях. Характерны эхолалии (немедленные или задержанные повторения услышанных слов или фраз), длительное отставание в способности правильно использовать в речи личные местоимения: ребенок может называть себя «ты», «он», по имени, обозначать свои нужды безличными приказами («накрыть», «дать пить» и т. д.)- Даже если такой ребенок формально имеет хорошо развитую речь с большим словарным запасом, развернутой «взрослой» фразой, то она тоже носит характер штампованности, «попугайности», «фонографичности». Он не задает вопросов сам и может не отвечать на обращения к нему, т. е. избегает речевого взаимодействия как такового. Характерно, что речевые нарушения проявляются в контексте более общих нарушений коммуникации: ребенок практически не использует также мимику и жесты. Кроме того, обращают на себя внимание необычный темп, ритм, мелодика, интонации речи;
— раннее проявление указанных расстройств (по крайней мере, до 2,5 года), что подчеркивал уже доктор Каннер. При этом, по мнению специалистов, речь идет не о регрессе, а скорее об особом раннем нарушении психического развития ребенка.
8.4. Нарушение развития системы аффективной организации сознания и поведения у детей с аутизмом
Специалист, работающий с аутичным ребенком, должен представлять себе логику развития этого нарушения, очередность появления проблем, особенности поведения ребенка. Именно понимание психологической картины в целом позволяет специалисту работать не только над отдельными ситуативными трудностями, но и над нормализацией самого хода психического развития.
Нарушение развития системы аффективной организации сознания и поведения у детей с аутизмом связано с биологической недостаточностью, которая в свою очередь создает особые патологические условия, в которых живет, развивается и к которым вынужденно приспосабливается аутичный ребенок. Со дня его рождения проявляется типичное сочетание двух патогенных факторов:
— нарушение возможности активно взаимодействовать со средой;
— снижение порога аффективного дискомфорта в контактах с миром.
Первый фактор дает о себе знать и через снижение жизненного тонуса, и через трудности в организации активных отношений с миром. Сначала он может проявиться как общая вялость ребенка, который никого не беспокоит, не требует к себе внимания, не просит есть или сменить пеленку. Чуть позже, когда ребенок начнет ходить, аномальным оказывается распределение его активности: он «то бежит, то лежит».
Уже очень рано такие дети удивляют отсутствием живого любопытства, интереса к новому; они не исследуют окружающую среду; любое препятствие, малейшая помеха тормозят их активность и заставляют отказаться от осуществления намерения. Однако наибольший дискомфорт такой ребенок испытывает при попытке целенаправленно сосредоточить его внимание, произвольно организовать его поведение.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что особый стиль отношений аутичного ребенка с миром проявляется, прежде всего, в ситуациях, требующих с его стороны активной избирательности: отбор, группировка, переработка информации оказываются для него наиболее трудным делом. Он склонен воспринимать информацию, как бы пассивно впечатывая ее в себя целыми блоками. Воспринятые блоки информации хранятся непереработанными и используются в той же самой, пассивно воспринятой извне форме. В частности, так ребенок усваивает готовые словесные штампы и использует их в своей речи. Таким же образом овладевает он и другими навыками, намертво связывая их с одной-единственной ситуацией, в которой они были восприняты, и не применяя в другой.
Второй фактор (снижение порога дискомфорта в контактах с миром) проявляет себя не только как часто наблюдаемая болезненная реакция на обычные звук, свет, цвет или прикосновение (особенно характерна такая реакция в младенчестве), но и как повышенная чувствительность, ранимость при контакте с другим человеком. Мы уже упоминали о том, что общение глазами с аутичным ребенком возможно только в течение очень короткого промежутка времени; более продолжительное взаимодействие даже с близкими людьми вызывает у него дискомфорт. Вообще, для такого ребенка обычны малая выносливость в общении с миром, быстрое и болезненно переживаемое пресыщение даже приятными контактами со средой. Важно отметить, что для большинства таких детей характерна не только повышенная ранимость, но и тенденция надолго фиксироваться на неприятных впечатлениях, формировать жесткую отрицательную избирательность в контактах, создавать целую систему страхов, запретов, всевозможных ограничений.
Оба указанных фактора действуют в одном направлении, препятствуя развитию активного взаимодействия со средой и создавая предпосылки для усиления самозащиты.
Аутизм развивается не только потому, что ребенок раним и мало вынослив в эмоциональном отношении. Стремление ограничивать взаимодействие даже с близкими людьми связано с тем, что именно они требуют от ребенка наибольшей активности, а как раз это требование он выполнить не может.
Здесь нельзя разделить аффективную и когнитивную составляющие: это один узел проблем. Искажение развития когнитивных психических функций является следствием нарушений в аффективной сфере. Эти нарушения приводят к деформации основных механизмов аффективной организации поведения — тех механизмов, которые позволяют каждому нормальному ребенку устанавливать оптимальную индивидуальную дистанцию в отношениях с миром, определять свои потребности и привычки, осваивать неизвестное, преодолевать препятствия, выстраивать активный и гибкий диалог со средой, устанавливать эмоциональный контакт с людьми и произвольно организовывать свое поведение.
У аутичного ребенка страдает развитие механизмов, определяющих активное взаимодействие с миром, и одновременно форсируется патологическое развитие механизмов защиты:
— вместо установления гибкой дистанции, позволяющей и вступать в контакт со средой, и избегать дискомфортных впечатлений, фиксируется реакция ухода от направленных на него воздействий;
— вместо развития положительной избирательности, выработки богатого и разнообразного арсенала жизненных привычек, соответствующих потребностям ребенка, формируется и фиксируется отрицательная избирательность, т. е. в центре его внимания оказывается не то, что он любит, а то, чего не любит, не принимает, боится;
— вместо развития умений, позволяющих активно влиять на мир, т. е. обследовать ситуации, преодолевать препятствия, воспринимать каждый свой промах не как катастрофу, а как постановку новой адаптационной задачи, что собственно и открывает путь к интеллектуальному развитию, ребенок сосредоточивается на защите постоянства в окружающем микромире;
— вместо развития эмоционального контакта с близкими, дающего им возможность установить произвольный контроль над поведением ребенка, у него выстраивается система защиты от активного вмешательства близких в его жизнь. Он устанавливает максимальную дистанцию в контактах с ними, стремится удержать отношения в рамках стереотипов, используя близкого лишь как условие жизни, средство аутостимуляции. Связь ребенка с близкими проявляется прежде всего как страх их потерять. Фиксируется симбиотическая связь, но не развивается настоящая эмоциональная привязанность, которая выражается в возможности сопереживать, жалеть, уступать, жертвовать своими интересами.
Столь тяжелые нарушения в аффективной сфере влекут за собой изменения в направлении развития высших психических функций ребенка. Они также становятся не столько средством активной адаптации к миру, сколько инструментом, применяемым для защиты и получения необходимых для аутостимуляции впечатлений.
В клубке поведенческих проблем трудно выделить самую значимую. Наиболее очевидная — активный негативизм, под которым понимается отказ ребенка делать что-либо вместе со взрослыми, уход от ситуации обучения, произвольной организации. Проявления негативизма могут сопровождаться усилением аутостимуляции, физическим сопротивлением, криком, агрессией, самоагрессией. Негативизм вырабатывается и закрепляется в результате непонимания трудностей ребенка, неправильно выбранного уровня взаимодействия с ним. Такие ошибки при отсутствии специального опыта почти неизбежны: близкие ориентируются на его высшие достижения, способности, которые он демонстрирует в русле аутостимуляции — в той области, в которой он ловок и сообразителен. Произвольно повторить свои достижения ребенок не может, но понять и принять это близким почти невозможно. Завышенные же требования рождают у него страх взаимодействия, разрушают существующие формы общения.
8.5. Особенности формирования навыков социального
поведения при РДА
Оказание коррекционной помощи детям с РДА невозможно без точного определения доступного ребенку уровня взаимодействия с окружением, превышение которого неизбежно вызовет у него уход от возможного контакта, появление нежелательных протестных реакций — негативизма, агрессии или самоагрессии и фиксацию негативного опыта общения.
По каким параметрам определить наиболее адекватный в данный момент ребенку уровень контактов с окружающим миром и людьми?
— Какая дистанция общения для него более приемлема? Насколько близко он сам приближается к взрослому и насколько близко подпускает его? Можно ли взять его на руки и как он при этом сидит (напряженно, приваливается, карабкается), как относится к тактильному контакту, смотрит ли в лицо и как долго? Как он ведет себя с близкими и как с незнакомыми людьми? Насколько он может отпустить от себя маму?
— Каковы его излюбленные занятия, когда он предоставлен сам себе: бродить по комнате, забираться на подоконник и смотреть в окно, что-то крутить, перебирать, раскладывать, листать книгу и др.?
- Как он обследует окружающие предметы: рассматривает; обнюхивает; тащит в рот; рассеянно берет в руку, не глядя, и тотчас бросает; смотрит издали, боковым зрением? Как использует игрушки: обращает внимание лишь на какие-то детали (крутит колеса машины, бросает крышечку от кастрюли, трясет веревку), манипулирует игрушкой для извлечения какого-либо сенсорного эффекта (стучит, грызет, кидает), проигрывает элементы сюжета (кладет куклу в кровать, кормит, нагружает машину, строит из кубиков дома)?
— Сложились ли какие-то стереотипы бытовых навыков, насколько они развернуты, насколько жестко привязаны к привычной ситуации?
— Использует ли он речь, и в каких целях: комментирует, обращается, использует как аутостимуляцию (повторяет одно и то же аффективно заряженное слово, высказывание, выкрикивает, скандирует)? Насколько она стереотипна, характерны ли эхолалии, в каком лице он говорит о себе?
— Как он ведет себя в ситуациях дискомфорта, страха: замирает, возникают панические реакции, агрессия, самоагрессия, обращается к близким, жалуется, усиливаются стереотипии, стремится повторить или проговорить травмировавшую ситуацию?
— Каково его поведение при радости — возбуждается, усиливаются двигательные стереотипии, стремится поделиться своим приятным переживанием с близкими?
— Как он реагирует на запрет: игнорирует, пугается, делает на зло, возникает агрессия, крик?
— Как легче его успокоить при возбуждении, при расстройстве — взять на руки, приласкать, отвлечь (чем? — любимым лакомством, привычным занятием, уговорами)?
— Насколько долго можно сосредоточить его внимание и на чем: на игрушке, книге, рисунке, фотографиях, мыльных пузырях, свечке или фонарике, возне с водой и т. д.?
— Как он относится к включению взрослых в его занятие (уходит, протестует, принимает, повторяет какие-то элементы игры взрослого или отрывки его комментария)? Если позволяет включаться, то насколько можно развернуть игру или комментарий?
Наблюдения по перечисленным выше основным параметрам, характеризующим поведение ребенка, могут дать информацию о его возможностях как в спонтанном поведении, так и в создаваемых ситуациях взаимодействия. Обычно эти возможности существенно различаются. Так, в. своей непроизвольной активности ребенок может достаточно ловко манипулировать объектами: быстро листать страницы, собирать кусочки мелкой мозаики, соединять детали конструктора, расслаивать веревочку, но когда родители пытаются вложить ему в руку ложку, чтобы приучить его к самостоятельной еде, или карандаш, чтобы научить его рисовать, он оказывается страшно неловким, несостоятельным. Такой ребенок может неожиданно произнести достаточно сложное слово «в пространство», но не может повторить по просьбе даже самое простое сочетание слогов.
Это не упрямство, не нежелание, а реальные трудности произвольной организации ребенка с серьезными нарушениями аффективного развития. И оценивая уровень его наличных возможностей взаимодействия с окружающим, мы должны, прежде всего определить, насколько он в данный момент вынослив в контакте и насколько велики эти трудности.
Вместе с тем, зная, на что способен ребенок в своей аутостимуляционной активности, мы можем рассчитывать на реализацию этих потенциальных возможностей в правильно организованной среде.
8.6. Клинико-психологическая классификация детей с РДА
(1985—1987) выделены четыре основные группы РДА.
Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений взаимодействия с внешней средой, и тип самого аутизма.
У детей I группы речь будет идти об отрешенности от внешней среды, II — ее отвержения, III — ее замещения и IV сверхтормозимости ребенка окружающей его средой.
Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по характеру и степени первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогенетических образований, в том числе гиперкомпенсаторных.
Дети I группы с аутистической отрешенностью от окружающего характеризуются наиболее глубокой агрессивной патологией, наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Их поведение носит полевой характер и проявляется в постоянной миграции от одного предмета к другому. Эти дети мутичны. Нередко имеется стремление к нечленораздельным, аффективно акцентуированным словосочетаниям. Наиболее тяжелые проявления аутизма: дети не имеют потребности в контактах, не осуществляют даже самого элементарного общения с окружающими, не овладевают навыками социального поведения. Нет и активных форм аффективной защиты от окружающего, стереотипных действий, заглушающих неприятные впечатления извне, стремления к привычному постоянству окружающей среды. Они не только бездеятельны, но и полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания.
Скорее всего, здесь речь идет о раннем злокачественном непрерывном течении шизофрении («люцидная кататония»), часто осложненной органическим повреждением мозга.
Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Они остаются мутичными, полностью несостоятельными в произвольных действиях. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у них могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания; они могут освоить письмо, элементарный счет и даже чтение про себя, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.
Дети II группы с аутистическим отвержением окружающего характеризуются определенной возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными страхами за счет вышеописанной аутостимуляции положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. Такие аффективно насыщенные действия, доставляя эмоционально положительно окрашенные ощущения и повышая психологический тонус, заглушают неприятные воздействия извне.
Внешний рисунок их поведения — манерность, стереотипность, импульсивность многочисленных движений, причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации речи. Эти дети обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. С гримасами либо застывшей мимикой обычно диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, стереотипные бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. У них часто наблюдается примитивная, но предельно тесная «симбиотическая» связь с матерью, ежеминутное присутствие которой — непреложное условие их существования.
С точки зрения нозологии и у этой группы детей речь, скорее, идет либо о шизофрении, либо, возможно, биохимической, на настоящем уровне диагностики не определяемой, энзимопатии.
Прогноз на будущее для детей данной группы лучше. При адекватной длительной коррекции они могут быть подготовлены к обучению в школе (чаще — в массовой, реже — во вспомогательной).
Дети III группы с аутистическими замещениям окружающего мира характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей аффективной патологии, прежде всего страхам. Эти дети имеют более сложные формы аффективной защиты, проявляющиеся в формировании патологических влечений, компенсаторных фантазиях, часто с агрессивной фабулой, спонтанно разыгрываемой ребенком как стихийная психодрама, снимающая пугающие его переживания и страхи. Внешний рисунок их поведения ближе к психопатоподобному. Характерны развернутая речь, более высокий уровень когнитивного развития. Эти дети менее аффективно зависимы от матери, не нуждаются в примитивном тактильном контакте и опеке. Поэтому их эмоциональные связи с близкими недостаточны, низка способность к сопереживанию. При развернутом монологе очень слаб диалог.
Нозологическая квалификация этой группы представляет определенные трудности. Здесь нельзя исключить вариант самостоятельной дизонтогении.
Эти дети при активной медикопсихолого-педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.
Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. У них не менее глубок аутистический барьер, меньше патологии аффективной и сенсорной сфер. В их статусе на первом плане — неврозо-подобные расстройства: чрезвычайная тормозимость, робость, пугливость, особенно в контактах, чувство собственной несостоятельности, усиливающее социальную дезадаптацию. Значительная часть защитных образований носит не гиперкомпенсаторный, а адекватный, компенсаторный характер, при плохом контакте со сверстниками они активно ищет защиты у близких; сохраняют постоянство среды за счет активного усвоения поведенческих штампов, формирующих образцы правильного социального поведения, стараются быть «хорошими», выполнять требования близких. У них имеется большая зависимость от матери, но это не витальный, а эмоциональный симбиоз с постоянным аффективным «заражением» от нее.
Их психический дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной задержке развития с достаточно спонтанной, значительно менее штампованной речью. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность.
Нозологически здесь, очевидно, следует дифференцировать между вариантом синдрома Каннер как самостоятельной аномалией развития, реже — синдром Аспергера как шизоидной психопатией. Эти дети могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки.
Выделенные клинико-психологические варианты РДА отражают, очевидно, различные патогенетические механизмы формирования этой аномалии развития, быть может, разную степень интенсивности и экстенсивности патогенного фактора (о чем говорит возможность их перехода друг в друга в сторону ухудшения при эндогенных колебаниях, экзогенной либо психогенной провокации и, наоборот, улучшения, чаще при эффективности медико-коррекционных мероприятий, а иногда и спонтанно), разный характер генетического патогеннного комплекса, особенности «почвы», как конституциональной, так и патологической.
8.7. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РДА
в раннем и дошкольном возрасте
Любой маленький ребенок усваивает общий эмоциональный смысл происходящего, а в непосредственном сопереживании близкому человеку смысл вызревает как механизм организации поведения. Однако сопереживание невозможно без возникновения особого «настроя» на другого человека, устойчивой душевной связи с ним, поэтому первой задачей лечебного воспитания становится установление с аутичным ребенком эмоционального контакта.
Первый шаг в работе с аутичным ребенком — установление с ним эмоционального контакта. Как известно, всякий младенец начинает свое индивидуальное развитие, осмысление происходящего вокруг в тесном эмоциональном единстве с мамой. Аутичный же ребенок испытывает трудности в развитии уже самых ранних форм эмоционального контакта с близкими.
Для того чтобы установить эмоциональный контакт с ребенком сейчас, мы должны хорошо представлять себе, что помешало этому произойти естественным образом в раннем возрасте. Опыт показывает, что потребность в общении у таких детей существует — они тянутся к людям; проблема же состоит в том, что в психическом отношении они не выносливы — ранимы и тормозимы в контакте. Взгляд, голос, прикосновение, прямое обращение могут оказаться для них слишком сильными впечатлениями, и человек вообще, особенно же человек, активный в общении, способен очень быстро вызвать у них чувство дискомфорта. Таким образом, чтобы сделать попытку установления эмоционального контакта успешной, мы должны постараться организовать ситуацию общения так, чтобы она была для ребенка комфортной, подкреплялась приятными впечатлениями и не требовала недоступных для него форм взаимодействия.
В некоторых случаях для восстановления эмоционального контакта используется специальный метод холдинг-терапии. Этот достаточно трудный путь может использоваться только родителями ребенка, по специальной рекомендации и под наблюдением специалистов.
Специалист способен помочь близким правильно оценить возможности ребенка и выбрать соответствующий уровень взаимодействия. Он может подобрать приемы организации контакта, научить способам привлечь к себе внимание ребенка, найти общие занятия, определить, что вызовет у него сопереживание, как избежать дискомфорта и чем стимулировать его к развитию активного взаимодействия.

|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |





