Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии" (ВНИРО)
Ministry of Agriculture of the Russian Federation
Federal Agency for Fisheries
Federal State Unitary Enterprise
«Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography» (VNIRO)
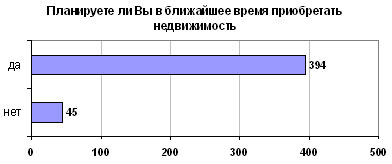
А. Б. КОРОЛЕВ
ВОДОЛАЗАНИЕ В РОССИИ
ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ
Москва
Издательство ВНИРО
2004
A.B. KOROLYOV
DIVING PRACTICE IN RUSSIA
FROM ANCIENT TIME TO PRESENT DAYS
Moscow
VNIRO Publishing
2004
УДК 626.02
Рецензенты:
(зам. директора ВНИРО)
(гл. ред. журнала «Нептун XXI век»)
Водолазание в России от древних времен до наших дней. - М.: Изд-во ВНИРО, 2004.
«Водолазание» – термин, которым наши далекие предки называли ныряние под воду для выполнения той или иной работы. «Известия о порядках, кои соблюдать должно при водолазании и вытаскивании товаров из воды» – название первого наставления по водолазным работам, изданного в 1763 г. в Санкт-Петербурге.
Автор собрал неизвестные и малоизвестные факты проникновения россиян под воду в снаряжении и без, в подводных аппаратах и подводных домах.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся подводным плаванием, водолазным делом, гидронавтикой, дайвингом и историей отечественной техники.
Фотографии из Российского государственного архива кино-фото документов (РГЛКФД), архивов Центрального военно-морского музея (ЦВММ), Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), журнала «НЕПТУН XXI век» и из личных архивов В. Афонченко, В. Гудзева, А. Игнатьева, А. Королева, С. Королева, В. Муравьева, И. Оскольского, А. Подражанского, С. Смолицкого, В. Суетина.
Рисунки: Игоря Никонова.
Korolyov A.B.
Diving practice in Russia from ancient time to present days. - M.: VNIRO Publishing, 2004.
«Vodolazanie» – is a tern used by our ancestors for explaining diving practice aimed at fulfilling various kinds of job. The first diving instructions published in St. Petersburg in 1763 were named: «Information on the regulations of diving and salvaging of goods from depth».
The author has collected unknown and little known facts concerning the penetration of Russian people into submarine space with and without diving equipment, in mini-submarines and underwater laboratories.
The book is designed for broad sections of the readers interested in diving practice, hydronautics, divingship and history of Russian submersible techniques.
Photographs are submitted by the Russian State Archives of Film and Photo Documents (RGLKFD), Archives of Central Naval Museum (TsVMM), Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Journal «Neptun, XXI century» and from private archives of Afonchenko V., Gudzev V, Ignatiev A., Korolyov A., Korolyov S., Muravyov V., Oskolskiy I., Podrazhanskiy A., Smolitsiy S. and Suetin V.
Drawings are made by: Igor Nikonov.
ISBN -9
© , 2004
© A. B. Korolyov, 2004
© Издательство ВНИРО, 2004
© VNIRO Publishing, 2004
ВВЕДЕНИЕ
Минувший XX век – время бурного развития техники и новых технологий. Столетие славно не только первыми шагами в космос и внедрением компьютеров во все области нашей жизни, но и массовым проникновением человека в толщу вод морей и океанов.
Если за всю предыдущую историю человечества проводились лишь эпизодические, пионерские спуски под воду, были только намечены пути развития технических средств, обеспечивающих пребывание под водой, то в наши дни тысячи людей погружаются под воду для научных исследований, в производственных и военных целях и просто для отдыха в отпуске.
Практически опробованы все возможные технические и физиологические средства и методы подводных спусков. Окончательно сложились два магистральных пути в глубины океана: человек под давлением окружающей среды в водолазном снаряжении и человек при атмосферном давлении, в прочном корпусе, изолирующем его от несвойственной среды; на том и другом пути достигнуты практические пределы.
На первом пути имеются небольшие резервы, однако связаны они не с развитием технических средств погружений, а с физиологией человека. Основных препятствий два: общее гидростатическое давление и плотность дыхательной среды. Экспериментально доказана возможность пребывания человека на глубине 701 м (СОМЕХ Франция, эксперимент «Гидра-10», 1993 г.). Рабочие спуски под воду проводятся во многих странах мира на глубины 300-500 м. Опробованы все возможные сочетания индифферентных газов. В последних экспериментах активно использовались наиболее легкие смеси водорода и кислорода с гелием, аргоном или азотом. Но нет гарантий, что применение водорода и высокое общее давление не приведут к отдаленным необратимым изменениям в организме человека.
Как бы то ни было, дальнейшее повышение глубины погружения до 1000 м и более потребует, скорее всего, уже оперативного вмешательства в организм человека, в его кровеносную систему. Потребуется изменение всей дыхательной функции человека. Об этом мечтали Александр Беляев и Жак Ив Кусто. Вряд ли это допустимо по морально-этическим соображениям. Да и нужно ли нам становиться ихтиандрами и гомо-акватикусами? Наш дом все-таки суша, а не море. Все подводные приключения хороши еще и тем, что они заканчиваются, и ты оказываешься на земле, дома, где можешь рассказать о них друзьям за кружкой пива.
В аппаратах с прочным корпусом достигнуты максимальные глубины погружения 10919 м (батискаф «Триест», ВМФ США, 1960 г.). Продолжительность пребывания под водой в прочном корпусе ограничена лишь целесообразностью (атомные подводные лодки «Наутилус», США, 1954 г., «Ленинский комсомол», СССР, 1957 г.). Дальнейшее развитие технических средств по этому пути лежит в области еще большей специализации подводных аппаратов и применении новых технологий при их создании.
Пик подводной деятельности как в нашей стране, так и за рубежом пришелся на 60-70-е годы. Толчок развитию водолазного дела дали «комплект № 1» (ласты, маска и трубка) и акваланг, широко распространившиеся по всему миру. Фильмы Фалько Квиличи и Жака Ива Кусто привлекли к погружениям под воду многих последователей-энтузиастов во всех странах. Среди них был и я, всеми правдами и неправдами проникший на одни из первых курсов аквалангистов, организованных в 1957 г. известным водолазом Вячеславом Ивановичем Кронштадским при Московском государственном университете.
Смена общественного строя в нашей стране привела к ломке старых структур, их преобразованию, к возникновению новых. Не все, что уничтожено, было плохо. Не все, что возникло вновь, хорошо. Хорошо, что приостановлен бег в никуда, что можно, не спеша, оценить достигнутое и наметить пути дальнейшего развития водолазного дела, гидронавтики, подводного спорта и туризма.
Может быть, кому-то материалы по истории водолазания в России покажутся скучными и далекими от реальности. Однако мы, подводники старшего поколения, с грустью наблюдаем, как в современных книгах и цветных журналах, претендующих на объективность, мировыми рекордсменами обычно называют зарубежных ныряльщиков, но отнюдь не отечественных. В минувшем веке стараниями наших идеологов мир был вывернут наизнанку, и мы не знали зарубежных достижений. Качнулся маятник истории, и мы уже забыли (или не знали?) своих рекордсменов. Забыли, что практически все рекордные для своего времени погружения в XIX и XX веках были выполнены российскими водолазами.
Нет, не господин Келлер с доктором Бюльманом первыми преодолели 300-метровую глубину. Сделали это за шесть лет до них Буленков, Коваль, Выскребенцев и Иванов с докторами Смолиным и Кривошеенко и водолазами Шалаевым, Ковалевским и Курочкисом и другими. Еще показательней рекордные спуски на сжатом воздухе. Заочно соревновались лучшие подводники мира: Фредрик Дюма – 93 м, Брет Гилльям – 137 м. Ден Меньон, достигший 154 м в 1994 г., пришел в сознание только на глубине 50 м. Эти рекорды зарегистрированы. У нас же их никто не регистрировал. Хотя обаятельный молодой парень, водолаз Владимир Михайлович Медведев, в 1938 г. (!) достиг глубины 157 м в вентилируемом снаряжении и выполнил порученную ему работу... Народ, не помнящий свою историю, лишен будущего...
Книга, которую ты, Уважаемый читатель, держишь в руках, – попытка собрать в одном издании достоверные сведения о проникновении под воду наших соотечественников. О наших достижениях и неудачах. Попытка разобраться – кто мы и на какой ступени развития находится наше водолазное дело, гидронавтика без легенд и назначенных идеологией героев.
Аналогичные книги о достижениях зарубежных подводников издаются в большинстве развитых стран мира. Переведены на русский язык исторические изыскания Роберта Девиса [13], Рэмона Вэсьера [10], Жака Ива Кусто [58] и других исследователей прошлого. Естественно, в них нет и намека на существование такой страны, как Россия. И это не удивительно. В свое время отечественные достижения были под грифом "секретно", по прошествии времени про них забыли совсем...
Мы специально не затрагиваем рабочие спуски под воду в производственных или военных целях. Ведь они не являются пионерскими, а осуществляются по отработанным инструкциям и методикам, хотя именно они и являются движущей силой водолазной науки и техники.
Во многих описанных работах автор участвовал лично, некоторые данные получены от друзей и соратников. Часть материала взята из открытых архивов, из газет, журналов и книг, которые автор собирает с 1950 г. Вошли в книгу материалы из архива известного водолазного врача Ильи Ивановича Оскольского, любезно переданные нам его женой, Генриеттой Ивановной.
Автор выражает глубокую благодарность А. Дроздову, С. Игнатьеву, Г. Рогачеву и Л. Шабуровой, оказавшим помощь в создании книги.
НА ВОЛЖСКИХ УЧУГАХ
(первые ныряльщики)
Издревле человек использовал моря, реки и озера как источник пищи и как удобные пути сообщения. Водоемы щедро дарили нашим предкам рыбу и морского зверя. Ловили раков, съедобных моллюсков и водоросли. Что было не пригодно в пищу, использовалось для хозяйственных нужд. Из шкур водных животных получали прекрасную одежду. Кости, раковины и панцири ракообразных служили простейшими орудиями труда и украшениями. Но не все можно было достать с поверхности. Иногда за добычей надо было нырять под воду.
Как и во многих других странах, первые упоминания о водолазах-ныряльщиках в России связаны с промыслом рыбы и «зеньчуга» (жемчуга). В XVI-XVII веках для лова рыбы в дельтах Волги и Яика (Урала) сооружали учуги: отдельные рукава и протоки перегораживали частоколом из вбитых в дно и скрепленных между собой деревянных свай – чегеней. В определенном месте к загороди пристраивали загон – "избу" из переплетенных жердей (кошаков) и прутьев (кирчин). Попавшую в загон рыбу баграми вытаскивали на поверхность, где на рыбацком стане ее солили. Рыбы было так много, что, по словам стариков, на Урале от ее напора учуг ломался, и тогда рыбу прогоняли назад выстрелами из пушек.
Обычно и рукав реки, и учуг, и рыбстан объединяли в одно понятие: Чюрка, Басарга, Бирюль, Иванчуг... Принадлежали учуги государству и монастырям. Из «поручных записей» – договоров о найме работников мы и узнали, что на учуги нанимали «атамана», которому вменялось лазать под воду и содержать учуг в исправности. Он же под свое поручительство нанимал «тяглых ярыжных», баграчей, солильщиков. Всем им вменялось вместе с атаманом лазать в воду, строить и содержать в исправности и учуг, и «...шалаши и онбарные рыбные избы и баня ставити и плот делати..». «...и с наемными людьми сваи и жерди и прутья готовити и сваи тесать и заострять, и с весны и после половодья в осень учуг заделывать Иванчуг и с протоками мастерски накрепко заграждения плести и в воду запускати накрепко ж, и в воду лазити и дыр отыскивати, чтоб под учуг и сквозь учуг рыбе проходу не было, и учуг подказливати и заграждения переменяти и проломные и худые места заделывати и от наносу очищати...». Эту запись, сделанную 29 июня 1615 г., обнаружил в астраханском архиве Рубен Абгарович Орбели – известный исследователь истории водолазного труда [44]. Это одно из первых, подтвержденных документально, упоминаний о водолазании в России, о реальном применении труда ныряльщиков. Никаких сведений о применяемых для ныряния приспособлениях ни , ни другие исследователи не обнаружили [23, 38, 39].
А вот о запрещенных в те времена табаке и вине, торговля которыми регулировалась указами царя Алексея Михайловича, записей много: «...А учужному де их промыслу без вина быти невозможнопотому что водолазы для окрепья учужных забоев и водяной подмойки и дыр без вина в воду не лазят, и оттого астраханскому их учужному промыслу чинитца поруха великая ...» – так писал патриарх Иоаким царю и просил не отбирать учужное вино на царский кружечный двор.
Арестованного за табак учужного Кудай-Бердейку стрельцы освобождают из Приказной избы: «... Тянуть было ему самому на учуге, о которую пору учнет лазить в воду, а вина у них де нет и прежде сего водолазам заповеди в табаке не было...». Видно ценили в XVII веке водолазов!
Учужный промысел просуществовал до начала ХVIII века. Мы не знаем достоверно, как выглядел в те времена рыбацкий стан, фотографирования еще не было, поэтому предлагаем читателю рисунок учуга и фотографию рыбацкого стана в дельте Волги конца XIX века (рис. 1,2).
Наряду с астраханскими находками приводит запись [44] в приходно-расходной книге «купчины казначея старца Иринарха» Спасо-Прилукского монастыря в изгибе Вологды: «Дал старику Якиму Лузоре за водолазное и на горшки девять алтын». По мнению , эта запись, сделанная в 1606 г., свидетельствует о водолазном промысле жемчуга, при котором использовали упомянутые в купчине горшки.
Доктор в «Морском сборнике» за 1881 г. сообщает еще об одной исторической находке, на этот раз в псковском архиве. Запись свидетельствует о том, что в XIV веке жители Пскова спасались от непомерных поборов и налогов, погружаясь под воду с тростниковой трубкой во рту, прожженной раскаленной проволокой.
Во время становления Московского государства отважные ныряльщики выполняли на реках и озерах различные строительные работы: сооружали запруды, устанавливали мельничные колеса, углубляли судоходные пути, очищая дно от топляков и больших камней, оборудовали причалы. Использовали ныряльщиков и в военном деле. Так, в середине XVIII века под Астраханью [7, 23] с помощью водолазов был перекрыт проход судам персов по одному из рукавов Волги. Для этого с воды забили в грунт деревянные сваи с некоторым наклоном в сторону моря. Затем водолазы спускались под воду, спиливали их на аршин (71,12 см) от поверхности и заостряли топором.
Смекалку и мужество проявляли воины-водолазы в борьбе с турками за крепость Азов в гг. Разведчики с тростниковыми трубками во рту не раз преодолевали речные протоки и рвы, заполненные водой, и высматривали позиции врага (рис. 3, 4). Однажды перед утренней атакой более полусотни воинов-водолазов переправились под водой через крепостной ров к позициям турков. Их неожиданный бросок к редутам неприятеля позволил русским войскам закрепиться у стен крепости.
Подвиг русских ныряльщиков почти через 250 лет повторили их потомки [42]. Когда советские войска освобождали от фашистских захватчиков Левобережную Украину, они с ходу решили форсировать Днепр. Однако выполнить этот замысел не удавалось. На правом берегу реки гитлеровцы создали мощный оборонительный рубеж. К Днепру невозможно было подойти, вода в реке кипела от разрывов бомб, мин и снарядов. И тогда было решено использовать отряд водолазов. Подобрали физически крепких и рослых, надели на них кислородные аппараты, хорошо вооружили и темной ночью отправили по дну реки на занятый неприятелем правый берег. Здесь им удалось без единого выстрела снять часовых, в рукопашной схватке перебить спящих в траншеях фашистских солдат и дать сигнал ударной армии. Так, с минимальными людскими потерями был форсирован Днепр на Лютежском направлении. Все водолазы были награждены орденами и медалями, а их командир Петр Евдокимович Филоненко удостоен звания Героя Советского Союза.
Из XXI века нам трудно оценить огромную роль ныряльщиков в жизни наших предков. Однако и «учужные», и добытчики жемчуга, и первые воины-водолазы оставили в истории добрую память. Они были первыми покорителями водной стихии, зачинателями водолазного дела в России.
ОТ ЕФИМА НИКОНОВА ДО ПЕРВОГО СКАФАНДРА
Изучив все доступные публикации и архивные источники, касающиеся истории создания первого отечественного водолазного снаряжения, мы нашли всего несколько достоверных сведений. Может быть, в будущем археологам или работникам архивов удастся добыть новые данные, обнаружить еще не известных нам изобретателей, новаторов, одиночек, которыми так богата Русь.
Итак, первым из них был крестьянин подмосковного села Покровское-Рубцово . В 1719 г. он предложил проект подводной лодки и водолазного скафандра: «... А для ходу в воде под корабли надлежит сделать на каждого человека из юхотных кож по два камзола со штанами, да на голову по обшитому или по обивному деревянному бочонку, на котором сделать против глаз окошки и убить свинцом скважины и с лошадиными волосами, и сверх того привязано будет для грузу к спине по пропорции свинец или песок и когда оное исправлено будет, то для действия по провертке и зажиганию кораблей сделать надобно инструменты особые, которым подает роспись..». К сожалению, не предусмотрел ничего для обновления воздуха в шлеме-бочонке. Его проекты не были реализованы, «потаенное судно» было повреждено на испытаниях, а до водолазного скафандра дело вовсе не дошло: умер покровитель – Петр I, любимое детище которого – флот, осталось без надлежащего призора.
Вообще представители Военно-Морского ведомства любят хвалиться своей ролью в становлении водолазного дела в России. Однако вот незадача: от Ефима Никонова до АПРК «Курск» нет у них денег на водолазов. О других, попавших «под сукно» новаторских предложениях российских изобретателей мы расскажем чуть позже.
Вернемся к Ефиму Никонову. Его предложение было пионерским только в России. Задолго до него, в гг. [10], по словам Франческо Марчи – автора «Военной архитектуры», Гульельмо де Лорена соорудил цилиндрическую камеру высотой около 1 м и диаметром 60 см со стеклянными оконцами. В перевернутом положении импровизированный шлем покрывал грудную клетку и голову водолаза. Камера держалась на плечах при помощи двух опор. Предложение было даже реализовано. Гульельмо де Лорена погружался в озеро Неми, чтобы отыскать и поднять на поверхность затонувшие увеселительные галеры императора Калигулы. Условия погружения и смены воздуха в этом аппарате неизвестны, а галеры были найдены и подняты только в 30-е годы XX века.
в изобретатели первой в мире подводной лодки, что, конечно же, не соответствует действительности, советские историки упустили из виду, что он первым в мире высказал идею о возможности выхода человека из погруженной подводной лодки. Спустя более столетия, эта идея была осуществлена на подводной лодке, построенной в 1886 г. по проекту [19]. В носовой части лодки была предусмотрена специальная камера для выхода водолазов. Подобными камерами в 1904 году были оборудованы подводные лодки «Осетр», «Сиг», «Кефаль», «Палтус», «Бычок» и «Плотва». Подготовка водолазов для этих лодок осуществлялась в учебном отряде подводного плавания в Либаве. Водолазы использовали вентилируемые шланговые скафандры для диверсионных действий.
Однако нельзя недооценивать роль Ефима Никонова, нельзя относиться без симпатии и уважения к простому крестьянину, скорее всего, никогда не видевшему моря, но заботившемуся о благосостоянии Отечества. О своих предшественниках он, конечно, знать не мог, и тем дороже для нас его бесхитростные, но смелые и талантливые предложения.
Кстати, рисунки – исторические реставрации к книге – писал талантливый художник и водолаз Игорь НИКОНОВ! А предки его родом из того самого подмосковного села Покровское! Сейчас Игорь воссоздает по описаниям снаряжение своего именитого однофамильца (а может быть и предка?) и обязательно хочет испытать его под водой. Может быть, почти через 300 лет, идеи Ефима Никонова будут, наконец, подтверждены практически.
Теперь еще о четырех нереализованных изобретениях.
в 1853 г. предложил оригинальный водолазный аппарат с дыхательной трубкой и клапанами вдоха и выдоха [38, 45, 51, 52]. Аппарат представлял собой клапанную коробку, размещавшуюся у рта водолаза. На поверхность воды выходила трубка, имеющая на конце поплавок. Вдох осуществлялся через трубку, а выдох – в воду. Снаряжение комплектовалось скафандром из рубахи и штанов, укрепленных металлическими кольцами. (Вероятно, автор хотел сохранить в скафандре атмосферное давление). Конечно, в таком снаряжении можно было погружаться только на очень небольшие глубины, но клапанная коробка, разделяющая потоки воздуха, используется и в самой современной водолазной аппаратуре.
В 1871 г. изобретатель угольной нити для лампы накаливания предложил оригинальный водолазный аппарат для автономной работы под водой [3]. Аппарат состоял из стальной оболочки, прикрывающей голову и грудь водолаза, гидрокостюма из каучука, гальванической батареи и реактора, предназначенного для электрического разложения воды на водород и кислород, необходимые для дыхания под водой. Это пионерское предложение, заключавшееся в использовании электролиза воды (впервые) и создании искусственной дыхательной смеси, также почило в бозе «под сукном» Морского ведомства.
Оригинальное и весьма совершенное для своего времени, автономное водолазное снаряжение предложил мичман российского флота А. Хотинский в 1873 г. [4]. Гидрокостюм из двойной ткани, проклеенной резиной, дополняла полумаска из листовой меди со стеклянным иллюминатором. Дыхательный прибор имел аккумуляторы (баллоны) со сжатым воздухом и кислородом, дыхательные мешки из резины, механический регулятор подачи воздуха и кислорода и патрон с поглотителем («натриевой солью») для очистки дыхательной смеси от двуокиси углерода. В 1885 г. снаряжение Хотинского было изготовлено и испытано [19]. Дальнейшая судьба его неизвестна.
В 1878 г. поручик Мамота сконструировал водолазный аппарат специально для военных целей. Водолаз дышал атмосферным воздухом через шланг, соединенный со свободноплавающим поплавком. При погружении на большие глубины для дыхания использовался сжатый кислород из баллона, который водолаз носил на себе. Предпринимались попытки использования аппарата на Дунае во время русско-турецкой войны.
«Так что же? – спросит удивленный читатель. – Так ничего и не построили россияне для водолазных спусков?» Построили. Снаряжение механика из Кронштадта и скафандры водолазной школы широко и успешно использовались в XIX и XX веках.
[26] предложил в 1829 г. весьма совершенное снаряжение, состоящее из водонепроницаемой рубахи (из мягкой промасленной кожи), грузов и металлического шлема, снабженного иллюминатором с решеткой. Сверху к шлему крепились рым для спускового конца и шланг подачи воздуха. Первая конструкция представляла собой опрокинутый котел [29], надеваемый на голову водолаза. Нижний край его крепился на водолазе стальной дугой, пропущенной между ног водолаза (рис. 5). Благодаря постоянному притоку свежего воздуха, свободно вырывающегося наружу из-под нижнего края шлема, водолаз мог долго находиться под водой. Однако шлем не имел невозвратного клапана, и в случае прекращения подачи воздуха водолаз мог захлебнуться. Так и случилось в 1873 г. с кронштадтским водолазом, который во время работы, вероятно, споткнулся, принял наклонное положение, о чем не успел сообщить сигналом. Водолаз был извлечен из воды без признаков жизни.
Шлем Гаузена широко использовался для водолазных работ и постоянно совершенствовался. Вторая его модель не имела неудобной дуги и крепилась на водолазе ремнями и веревками. Третья, наиболее совершенная, модель имела шлем с манишкой, опиравшейся на плечи и грудь водолаза (рис. 6).
Объективности ради следует упомянуть, что подобное снаряжение за десять лет до Гаузена предложил немецкий оружейный мастер Август Зибе. В 1837 г. А. Зибе пошел еще дальше, соединив шлем, манишку и водолазную рубаху вместе. Совместно с Горманом они получили в 1855 г. патент на водолазный скафандр в Лондоне (в 1816 г. А. Зибе стал подданным Ее Величества). С этого времени фирма «Зибе, Горман и К.» стала первым предприятием, серийно производящим водолазное снаряжение.
На базе скафандров Гаузена и Зибе в Кронштадтской водолазной школе было разработано первое отечественное водолазное снаряжение, дошедшее до нас в почти не измененном виде под названием вентилируемое снаряжение [13]. Авторитетнейший водолазный специалист, капитан I ранга А. Кононов приводит [27] рисунок водолаза в снаряжении школы (рис. 7) и пишет: «...На рисунке водолаз в костюме водолазной школы, освещает себе дорогу электрическою лампою, которая получает источник света из ящиков со вторичными элементами, которыми заменили свинцовые грузы – на груди и на спине (изобретатель-поручик Золотухин при минном офицерском классе в Кронштадте, 1885 г.). Водолаз тащит за собой водолазный аккумулятор, откуда получает для дыхания сжатый воздух, давление которого он может регулировать сам». О разработках и изобретателях Кронштадтской водолазной школы мы расскажем ниже.
Россия – холодная страна. Уже одного этого достаточно, чтобы мы не стали колыбелью первых ныряльщиков, зачинателями водолазного дела в мире. По этой же причине бессмысленно ожидать большого притока к нам дайверов – туристов из других стран.
За много тысяч лет до появления первых ныряльщиков в дельте Волги вначале приматы, а за тем и первобытные люди добывали себе пищу в теплых тропических морях.
ШКОЛА В КРОНШТАДТЕ
(с 1882 г. до наших дней)
До середины XIX века водолазное дело в России не было организовано, хотя интерес к нему проявляли и Петр Великий, и многие прогрессивные флотоводцы и военачальники. В 1708 г. по указанию Петра неким Волковым был сделан перевод с голландского языка трактата «Книга о способах, творящих восхождение рек свободное». В 1763 г. были переведены правила использования водолазных колоколов. Однако штатных водолазов на кораблях флота и в портах не было [27]. На судах работы под водой, если в них возникала потребность, выполняли умельцы-матросы. Лишь некоторые капитаны имели на борту водолазное снаряжение и использовали его по разумению, на свой страх и риск.
В портах, на реках и озерах использовали частных водолазов, имевших собственное снаряжение, – «вольных водолазов». Их брали на верфи и заводы Адмиралтейства, где в 20-е годы XVIII столетия возникли первые организованные бригады водолазов. Корабельные мастера вместе с водолазами изготавливали и усовершенствовали водолазное снаряжение. Именно адмиралтейские бригады водолазов использовал адмирал в 1848 г., чтобы поднять тендер «Струя», затонувший в районе Новороссийской бухты во время ураганного северо-восточного ветра. За два месяца водолазы на глубине десяти сажен (21 м) сумели отклепать цепи от якорей, поднять их наверх, снять и поднять мачты, орудия, снаряды, паруса, большую часть балласта, а затем завести стропы (!) под корпус тендера с двух барж. С помощью этих барж корабль подняли на поверхность и после откачки из трюмов воды отвели в Севастополь на ремонт [17].
Первое водолазное снаряжение – в основном это было усовершенствованное снаряжение, предложенное российским мастером Гаузеном, скафандры и помпы Денейруза, Шредера и фирмы «Зибе, Горман и К» – стало поступать на флот в 1861 г., однако вплоть до основания водолазной школы водолазами на судах назначались матросы по выбору судового начальства [29]. Естественно, что необходимая квалификация у «назначенных» водолазов отсутствовала. По корабельному расписанию тех времен водолазы, как правило, состояли служками корабельной церкви, буфетчиками, лавочниками корабельной лавки.
Командиры кораблей предпочитали использовать наемных ныряльщиков и вольных водолазов. Они же обучали водолазному делу «назначенных» матросов с судов. Вольные водолазы не были заинтересованы в подготовке конкурентов, да и их знания оставляли желать лучшего. После русско-турецкой войны в 1878 г. такое положение стало недопустимым – Россия нуждалась в значительном количестве хорошо подготовленных водолазов. Это и послужило толчком к учреждению школы.
Но сначала, в 1865 г., Морское ведомство особым приказом оговорило отбор претендентов в водолазы: «Избирать крепких людей, моложе 26 лет, с развитою грудью, свободным дыханием и без малейших признаков страдания сердца. Не должны быть принимаемы подверженные головным болям и шумам в ушах холерического темперамента, с синеватыми губами и слишком красными щеками, имеющие короткую шею, флегматики и пьяницы».
Эти требования аналогичны тем, что приведены в книге Зибе и Гормана «Руководство для водолазов и подводных работ», переведенной на русский язык Сергеем Керном в 1873 г.
А в апреле 1882 г. в Кронштадте, при минной части, была открыта первая в России водолазная школа «... для приготовления опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ» [38]. Основателем и идейным вдохновителем ее был капитан I ранга (впоследствии адмирал) (рис. 8). Первым начальником стал капитан-лейтенант Леонтьев, однако, основные достижения школы были достигнуты при втором начальнике – полковнике . Под школу было выделено помещение бывшего провиантского магазина и выдано 3991 руб. на его переоборудование. Жили ученики во флотском экипаже [18].
Первые годы работы школы были посвящены сбору материалов, переводам, составлению инструкций, учебных пособий. За четыре года существования школа подготовила около 200 водолазов. Они были обучены практическим спускам на глубины до 21 сажени (около 45 м) и работе под водой в сложных условиях.
Важнейшей своей задачей школа считала выпуск рабочих водолазов для флота. Одновременно обучались водолазные старшины для руководства спусками, привлекались и офицеры, которые после изучения водолазного дела могли руководить работами, осуществлять приемку выполненной водолазами работы, следить за всеми новшествами в водолазном деле за границей (рис. 9, 10).
Курс обучения делился на две части:
1. Зимний курс в школе – подготовительно теоретический со спусками в бассейн школы. Особое внимание уделялось сборке – разборке снаряжения.
2. Летний курс на судах с выполнением водолазных спусков и работ на глубинах до 40 м.
В 1884 г. вышел циркуляр Морского ведомства: «Правила приема и хранения водолазных аппаратов на судах флота с образцом формуляра водолазного аппарата». Врач школы составил «Пособие ученикам водолазной школы». В школе издали также «Общие наставления для постепенного обучения водолазов спускам под воду» и «Программу водолазной школы», согласно которой обучаемые должны были получить знания по основным законам физики, устройству подводной части корабля и минному делу, а также физиологическим особенностям организма применительно к спускам под воду. К необходимым практическим навыкам были отнесены: сборка и разборка снаряжения, его полная и рабочая проверка, такелажные работы, умение спускаться под воду и ремонтировать снаряжение.
Отечественные Правила водолазной службы, составленные в водолазной школе и изданные Морским ведомством в 1885 г. были просты и лаконичны, содержали самые необходимые требования к водолазу при проведении водолазных спусков и работ. Положения эти актуальны и для современных подводников:
1. К выполнению подводных работ должно считать способным того человека, который привык правильно и гигиенично спускаться под воду.
2. Пределом глубины, на которой может работать человек в водолазном аппарате, считается глубина в двадцать пять морских сажень (40 м). На большей глубине работать не дозволяется.
3. Воспрещается спускать в водолазном аппарате человека, жалующегося на болезнь или просто не желающего почему-либо идти под воду.
4. Каждый водолаз, чтобы безвредно для себя работать, должен соблюдать следующее:
– за несколько часов перед работою не пить спиртных напитков;
– за два часа не есть ничего сытного;
– должен быть спокоен и уверен в исправном состоянии своего здоровья.
5. Спускающийся под воду должен быть твердо уверен в исправности всех частей своего аппарата.
6. Воспрещено спускать водолаза без сигнального или спасательного линя.
7. Управлять сигнальным концом может только человек опытный в водолазном деле и пользующийся доверием водолаза.
8. Спуск водолаза и подъем его со дна следует производить медленно, не менее половины минуты на каждую сажень глубины; чем на большей глубине и чем долее находился водолаз в воде, тем медленнее должен совершаться его подъем.
9. Все люди, находящиеся в числе прислуги при водолазном аппарате, должны помнить, что невнимательное отношение к своим обязанностям может повергнуть их наказанию по законам, как виновных в членовредительстве или убийстве по неосторожности.
В марте 1888 г. вышло постановление Адмиралтейского совета, где определялся штат школы: начальник, заведующий снаряжением (преподаватель для офицеров), два преподавателя для матросов, врач, завхоз-писарь, фельдшер и десять «указателей-водолазов» (так называли водолазов-инструкторов). Ежегодный расход на школу составлял 2928 руб.
В 1892 г. школа имела 15 комплектов водолазного снаряжения, из них скафандров (шлем с платьем, так называемая рубаха) Денейруза было 3, Зибе и Гормана – 4 и Шрадера – 1 (рис. 11). Из оборудования использовались компрессор до 25 атм. для закачивания воздуха в аккумуляторы Рукейроля (баллоны), помпы Денейруза, генератор Сименса и аккумуляторы. Имелись классы для тренировок водолазов с «водолазным баком»-гидротанком, аппаратная комната (рис. 12, 13), небольшая мастерская с кузней и станками для ремонта водолазной техники и поделок, физический кабинет для регулировки снаряжения и опытов со сжатым воздухом, лазарет и библиотека [22, 31].
Школа стала центром, где создавалась новая водолазная техника и проводились исследования в области водолазного дела. Преподаватели школы и подготовленные ими морские офицеры разработали отечественные шлемы, рубахи и шланги, благодаря чему к концу 90-х годов российский флот перешел на отечественное водолазное снаряжение. За образец для российского скафандра, по решению экспертов Военно-морского музея в Санкт-Петербурге, был принят шлем Денейруза.
Мичман изобрел в 1889 г. отечественную водолазную помпу. Он же совместно с Еноховичем сконструировал подводный телефон.
Врач и инженер предложили первый отечественный подводный фотоаппарат, а лейтенант Тверетинов разработал в 1885 г. подводный электрический фонарь [30].

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |




