Глава 3
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ
()
Михайловское артиллерийское училище
В 1911 г. в России было два артиллерийских училища: Михайловское и Константиновское. Оба училища были равноценны: учебные программы были одни и те же, качество обучения — совершенно одинаковое, по многим предметам были те же самые преподаватели. Срок обучения в обоих училищах был трехлетний. В общем училища отличались только погонами: в Михайловском училище погоны были красные, без канта, с буквою «М», в Константиновском — красные, с черным кантом и буквою «К».
Поэтому вопрос о том, в какое училище поступать, по существу, не имел никакого значения. Я пошел учиться в Михайловское училище только потому, что 27 лет тому назад там учился мой отец.
Михайловское артиллерийское училище вместе с Артиллерийской академией и Артиллерийским техническим училищем занимали целый квартал, ограниченный Невой и Нижегородской и Симбирской улицами.
В здании, расположенном фасадом на Нижегородскую улицу, размещалось Артиллерийское техническое училище, а на остальной территории, фасадом на Неву, был расположен другой огромный корпус, в котором вместе размещались Академия и Михайловское училище. Я употребляю слово «вместе» потому, что между ними никакой «вещественной» границы не было, а некоторые аудитории и лаборатории, например, химические, даже были общие.
Михайловское артиллерийское училище и Артиллерийская академия были основаны в 1820 г. и вначале составляли одно целое. Лишь в дальнейшем училище и академия были разделены и стали существовать самостоятельно.
Училищу принадлежало также расположенное во дворе большое одноэтажное здание, в котором размещались артиллерийские орудия всех образцов, бывших в то время на вооружении русской артиллерии, а также учебные пособия, необходимые для изучения материальной части.
Училище имело 4 манежа, из которых один был такой большой, что в нем целая батарея могла выполнять конные учения.
Помещения, где юнкера спали, а также могли находиться в свободное от занятий время, на «местном» языке назывались «каморами». Они находились на третьем этаже. Это были высокие светлые помещения, по одному на каждый класс. В них размещались кровати и тумбочки для хранения строевого обмундирования и обуви.
Классные помещения находились на втором этаже и большая часть их выходила в так называемый «бесконечный» коридор, длиною около 100 метров. Часть площади классов занимали огромные калориферы (отопление в училище осуществлялось нагретым воздухом), которые на юнкерском жаргоне назывались «капонирами». В этих капонирах, имевших лазы из классов, юнкера иногда отсыпались после дневальства или весело проведенного воскресенья.
Утром 1-го сентября 1911 г. я явился в Училище.
Дежурный офицер посмотрел в список, лежавший перед ним на столе, и сказал мне, что я назначен в 6-е отделение 2-й батареи.
Придя в помещение, где должно было размещаться мое отделение, я застал там несколько человек из числа тех, с которыми мне предстояло вместе учиться в течение всех трех лет пребывания в училище.
Около 11 часов, когда все уже собрались, нас — «козерогов», как на юнкерском жаргоне назывались юнкера младшего класса, отвели в цейхгауз, где мы получили юнкерское обмундирование: серые солдатские шинели, черные бескозырки с бархатным околышем и красными кантами, гимнастерки защитного цвета, бушлаты, черные брюки (короткие — строевые, длинные — нестроевые), а также синие рейтузы для верховой езды, высокие и низкие сапоги (такие же, как кадетские) для ношения вне строя с длинными брюками.
Затем нас повели в баню, после бани — завтракать, а потом — в класс.
Через несколько минут в класс вошел среднего роста, худощавый штабс-капитан с рыжими усами и небольшой бородкой. Это был наш отделенный офицер Борис Авенирович Шкапский.
Шкапский познакомился с нами и сказал, что сегодня мы свободны, а завтра, к 8 часам — на строевые занятия.
Про Шкапского по училищу ходили разные слухи. Знакомые старшие товарищи уже успели мне сказать:
— Ты попал к Шкапскому? Ну, держись! Он с вас спустит шкуру!
В чем, однако, будет заключаться «спускание шкуры» конкретно не говорилось, но было сказано, что он очень строг, требователен, придирчив и не упускает случая наложить на юнкера взыскание.
Вечер прошел в разговорах с новыми товарищами, а в 23 часа я улегся спать. Однако заснул не сразу. Слишком много впечатлений было за один день.
Вчера мы были мальчишками, сегодня — на действительной военной службе. Чувствовалось, что артиллерийское училище — это не только учебное заведение, но и войсковая часть, да и в каморе слегка пахло казармой: сапогами и конским потом.
Как сложится жизнь дальше?
Товарищи

В первые дни пребывания в училище я знакомился с товарищами по классу. Большинство было из числа окончивших кадетские корпуса. Остальные (около 10%) — из гимназий или реальных училищ. Надо сказать, что гимназистов и реалистов, желавших поступить в училище, было гораздо больше, чем представляемых им вакансий. Поэтому приняты в училище были наилучшие по конкурсу, что и подтвердилось после первого полугодия при подсчете средних баллов, когда многие из них оказались в начале списка.
Процент дворян среди юнкеров был значительно ниже, чем в кадетских корпусах, а разночинцев и казаков — больше. Много было кавказцев и уроженцев Средней Азии. Был также один иностранец — персидский принц Аман Каджар.
в артиллерийском
училище
Спустя некоторое время после поступления в училище, я увидел что юнкерская масса не была однородной.
Выделялись юнкера, хорошо обеспеченные материально, то есть дети богатых родителей. Таких было сравнительно немного. Некоторые из них, имевшие хорошую протекцию, т. е. родственников или хороших знакомых, занимавших высокие посты в военной среде или в правительственных учреждениях, рассчитывали попасть в гвардию. Другие, не имевшие протекции, но имевшие деньги, собирались служить в конной артиллерии.
И тем и другим нужно было располагать достаточно большими средствами, чтобы иметь возможность приобрести двух верховых лошадей (одну — строевую, другую — для участия в конных состязаниях). Не мало денег уходило и на кутежи. Ни гвардейцы, ни конники почти никогда жалования на руки не получали, а только расписывались в раздаточных ведомостях, так как часто все жалование расходовалось на приемы гостей, на устройство балов, банкетов, конных праздников.
Помимо всего этого, для того, чтобы попасть в гвардию или конную артиллерию, нужно было хорошо учиться, чтобы при разборке вакансий стоять в начале списка, так как в гвардию и в конную артиллерию вакансий присылали очень мало (в моем выпуске на 130 человек, оканчивавших училище, было всего 5 вакансий в гвардию и 6 — в конную артиллерию), а желавших было гораздо больше.
Другую группу юнкеров можно было бы назвать «академической». Это были юнкера, решившие по окончании училища не задерживаться надолго в строевых частях, а продолжать свое образование в одной из военных академий, главным образом — в артиллерийской. Для этого необходимо было получить очень хорошую академическую подготовку, так как экзамены в академию были строгими, а конкурс — довольно высоким.
Эта группа все свое внимание уделяла предметам, хорошее знание которых было необходимо для успешного экзамена в академию, то есть артиллерии, математике, физике и химии и, наоборот, не отличалась по другим предметам и на строевых занятиях.
Следующая компания была довольно странной: к ней относились люди, причислявшие себя к высшему свету. Юнкера присвоили им презрительную кличку «бомонда» — искаженное французское слово «бомонд», что означает «высший свет».
Держались эти люди несколько обособленно от других юнкеров, интересовались событиями из жизни аристократии, приемами в высшем свете, балами... Они охотно пошли бы служить в гвардию или конную артиллерию, но лень (главным образом), а иногда и тупость отодвигали их в конец списка при выборе вакансий, и в этом случае им приходилось довольствоваться такими вакансиями, как, например, Селишенские казармы (под Новгородом), Михайловский штаб (вблизи города Пружаны) или другими, захолустными, в том числе и сибирскими вакансиями. Однако некоторым из них, широко использовавшим родственные и дружеские связи родителей, все же удавалось, спустя некоторое время после производства в офицеры, при-
командироваться к гвардейским частям, т. е. по существу втереться в гвардию.
Дружно вместе держались казаки. Большинство из них было между собою знакомо уже раньше, так как в училище они переходили главным образом из Донского и Владикавказского кадетских корпусов. Как правило они были хорошими строевиками, но учиться ленились, так как в общем списке они вакансий не разбирали, а соответствующие казачьи войска высылали им именные вакансии. Поэтому, как ни учись, хорошо или плохо, — все равно попадешь в казачью батарею своего войска.
Конечно дружили между собою кавказцы. Общая родина, общие обычаи, зачастую общий родной язык — неизбежно их сближало.
Почти все они старались, по окончании училища, вернуться на Кавказ, что было сравнительно нетрудно, так как многие Кавказские артиллерийские части стояли в глухих местах и при разборке вакансий спросом не пользовались.
Лентяи и тупицы заботились лишь о том, чтобы жить спокойнее, трудиться поменьше. К учебным занятиям относились халатно, занимали места, конечно, в конце списка, и, махнув рукой на полевую артиллерию, собирались стать «крепаками», то есть получить назначение в крепостную артиллерию, считавшуюся среди юнкеров артиллерией «второго сорта» вследствие более медленного продвижения по службе, чем в полевой артиллерии.
Наконец, было несколько человек — любителей пения, главным образом казаки и украинцы. Никогда раньше я не слыхал таких песен, а главным образом, такого их исполнения. Вскоре после поступления в училище, как-то после обеда, находясь в каморе, я услышал тихое пение. Сначала мне показалось, что звуки идут откуда-то издалека, но вскоре я понял, что это вполголоса поют наши казаки: донские — Беляев и Хохлачев и сибирский — Фролов. Пели они какую-то незнакомую мне, протяжную, очень мелодичную песню. Я стал прислушиваться. Это была старинная казачья песня: «Поехал казак на чужбину далекую». Пели они на три голоса и получалось у них замечательно.
К казакам вскоре примкнули еще два любителя пения: Илья Павловский и Фомов. Получился небольшой отличный хор. И все три года нашего пребывания в училище я старался не пропускать ни одного «концерта», принимая в нем также некоторое участие.
Особенно мне запомнилась известная песня про Стеньку Разина, но не «Из-за острова на стрежень», а другая. Начиналась она
словами: «Словно море в час прибоя, площадь Красная шумит...», однако мотив ее был не тот, на который у нас на севере в унисон тянут эту песню, а совсем другой, да и темп песни был тоже другой — торжественный и медленный, ну и, конечно, исполнение отличное.
Только в училище я понял, что такое хорошая и хорошо исполненная песня.
Своей «национальной» песни, вроде кадетской «Звериады», в училище не было. Впрочем, вспомнил..., была одна шуточная юнкерская песня на общеизвестный мотив: «У попа была собака...»
Первый куплет пели, как всегда:
У попа была собака, он ее любил.
Она съела кусок мяса, он ее убил,
И в землю закопал,
И надпись написал,
что: а далее шло совершенно другое:
Один юнкер сузил брюки, другой долго спит,
Не является на танцы, третий — не побрит.
Я всех вас накажу,
Я всем вам запишу,
что:
и так далее. К сожалению, последующих куплетов я не запомнил, а жаль! Ведь это тоже фольклор.
Командование
Начальником Артиллерийской академии и обоих артиллерийских училищ был генерал-лейтенант Василий Тимофеевич Чернявский. До этого он был командиром батареи в Михайловском училище, а затем — начальником Константиновского училища. Жизнь юнкеров знал отлично. Он был человеком большого ума, экспансивным, горячим, решительным и за словом в карман не лазил.
Старшие товарищи рассказывали, что за несколько лет до нас, выступая с речью перед юнкерами, только что окончившими училище, Чернявский высказался примерно так:
— Господа! Вчера вы были юнкерами, сегодня стали офицерами. Вчера вы были дураками и сегодня... остались дураками. Запомните: училище еще не делает из вас хороших офицеров, а только подготавливает вас к тому, чтобы вы впоследствии могли ими стать, да еще при условии, если вы все время будете учиться и притом не только у
старших товарищей, но и у солдат. Да, я не оговорился: и у солдат! Хорошим офицером можно быть только хорошо зная всю солдатскую науку!
За прямоту и справедливость он пользовался у юнкеров большим уважением.
Начальником нашего училища сначала был генерал-майор Ва-харловский. Спокойный, выдержанный человек, он уверенно правил таким беспокойным народом, какими были подчиненные ему 500 юнкеров. В 1913 г. его сменил генерал-майор Карачан — жесткий, деспотичный человек, с которым у юнкеров было несколько неприятных случаев, окончившихся плохо для юнкеров.
Командиром нашей, второй, батареи был полковник Иван Михайлович Леонтовский — типичный украинец: плотный, коренастый, с длинными висячими усами, очень похожий на Тараса Бульбу. Он был лихим командиром. С большим искусством проводил он конные батарейные учения и стрельбы. Обычно каждый год, первой, так сказать, показательной стрельбой на Красносельском полигоне он командовал сам. Он любил покричать, но быстро отходил и к мелочам не придирался.
Командиром 1-й полубатареи был капитан Авринский. Это был тихий малозаметный человек, внешне очень похожий на императора Николая II и носивший такие же усы и бороду. Побрился ли он после революции или продолжал сохранять сходство с внешностью Николая, рискуя получить от этого большие неприятности, а может быть и поплатиться головой, попав под чью-нибудь тяжелую руку?
Командиром 2-й полубатареи был штабс-капитан Кузнецов, весьма неприятный человек, формалист, всегда старавшийся досадить юнкерам своими, зачастую совершенно необоснованными придирками. Юнкера его не любили и не уважали и поэтому старались, как могли, ему напакостить.
Теперь несколько слов о Шкапском.
Основные обязанности отделенного офицера заключались в проведении строевых занятий, то есть в обучении нас материальной части, действиям при орудиях, верховой езде и пешему строю.
Эти занятия были не менее, а может быть и более важными, чем академические, так как при этом мы осваивали всю практику боевой и повседневной жизни строевого артиллериста. Поэтому строевым занятиям придавалось большое значение.
И тут мы убедились, что Шкапский вовсе не был таким страшилищем, каким его охарактеризовали наши старшие товарищи.
Действительно, он был очень требователен и строг, но зато настойчиво обучал нас всем разделам строевой артиллерийской службы и, в том числе, верховой езде. В ней он понимал толк и сам ездил отлично. В результате оказалось, что ко времени окончания училища наше отделение, по сравнению с другими, имело лучшие оценки по верховой езде в смене и в орудиях.
Во время войны мне не раз пригодилось все то, чему нас учил Шкапский. Дальнейшая его судьба после 1917 г. мне не известна.
Не могу также не вспомнить нашего главного врача, добрейшего Сергея Яковлевича Чистовича. Он очень внимательно лечил нас: вывихнутые руки и ноги, ушибы, простуда и другие болезни быстро нами забывались.
Когда, по каким-либо причинам, юнкеру надо было денек — другой отлежаться в лазарете, надо было придти к Сергею Яковлевичу и попросту попросить его об этом, и почти никогда с его стороны отказа не было. Если же юнкер пытался обмануть его и симулировать болезнь, то он очень сердился и немедленно выгонял неудачного актера из лазарета.
Чему и как нас учили?
Академический план нашего обучения был составлен с расчетом хорошей подготовки к продолжению образования в Артиллерийской академии. Действительно, изрядную часть того, что мы проходили в училище, строевому офицеру (а таких было более 90%) во время его дальнейшей службы использовать не приходилось. Сюда можно было отнести всю высшую математику, физику и химию.
Учили нас хорошо и состав наших преподавателей был первоклассный.
Особое внимание уделялось преподаванию артиллерии. Этот предмет считался основным и получение неудовлетворительного балла по артиллерии являлось большой бедой для юнкера. Плохой выпускной балл по артиллерии (менее 8 баллов) отодвигал его обладателя в самый конец списка при разборке вакансий и гарантировал ему «второй разряд», то есть потерю одного года старшинства, которое получали все юнкера, окончившие артиллерийские и инженерное училища, по сравнению с окончившими пехотное или кавалерийское училища.
Лекции по артиллерии сопровождались практическими занятиями, а летом в лагерях на полигоне производились практические
стрельбы, которыми по очереди командовали юнкера старшего класса. Словом, преподавание артиллерии было отработано на совесть.
Точные науки преподавались нам тоже хорошо. Достаточно сказать, что впоследствии, когда я поступил в Ленинградский политехнический институт, профессора, узнав, что я окончил полный курс артиллерийского училища, после короткого собеседования, убедившись в достаточном уровне моих знаний, зачли мне дифференциальное исчисление, высшую алгебру, аналитическую геометрию, физику и химию.
Особенно запомнились мне лекции профессора Сергея Георгиевича Петрова. Он являлся в класс ровно по звонку и, не спрашивая нас, на чем закончилась предыдущая лекция, сразу приступал к ее продолжению. Писал он на досках, начиная с левой, каллиграфически, спокойно, не торопясь. Продолжительность каждой лекции у него была точно рассчитана, и когда он заканчивал изложение вопроса и ставил точку в нижнем углу правой доски, мы уже знали: сейчас будет звонок. И так от лекции к лекции.
А вот преподаванию русского и иностранных языков, а также закона божьего уделялось мало внимания, и поэтому после окончания училища наши знания по этим предметам практически оставались на уровне средней школы.
Система преподавания была отработана четко. Помимо переходных экзаменов, были промежуточные, называвшиеся «репетициями», на которых пройденный курс проверялся по частям (от двух до шести раз в течение года). Это требовало непрерывных занятий в течение всего года и исключало возможность в конце года наспех приготовиться к экзамену.
Для учета важности предмета существовала система коэффициентов. Это означало, что при выводе общегодового среднего балла по всем предметам, часть предметов учитывалась с коэффициентами. Так: балл по артиллерии шел в средний балл, насколько помню, с коэффициентом 3, математика, физика и химия — с коэффициентом 2. Это, в какой-то мере, заставляло юнкеров уделять больше внимания предметам, которые считались наиболее важными.
Баллы за языки и закон божий при выводе общего среднего балла в расчет не принимались и, следовательно, на него никак не влияли. Соответственное было у юнкеров и отношение к этим предметам.
Система отметок была 12-балльная. Это позволяло точнее оценивать качество знания предмета. Действительно, в 12-балльной системе было 7 удовлетворительных отметок, а в 5-балльной — их всего 3,
что, конечно, недостаточно для точной оценки знаний. Видимо поэтому до революций в гражданских учебных заведениях зачастую применялись знаки плюс и минус, которые, по существу, недостаточно уточняли оценку и никак не могли влиять при выводе среднего балла.
Строевые занятия, наряды, наказания
Большей частью наших строевых занятий руководил отделенный офицер. Сюда входили: изучение материальной части орудий и оптических приборов, учения при орудиях, занятия с командирским угломером, уставы, верховая езда, вольтижировка, седловка, езда в орудиях и, ненавистный юнкерам, пеший строй. Лишь фехтование,
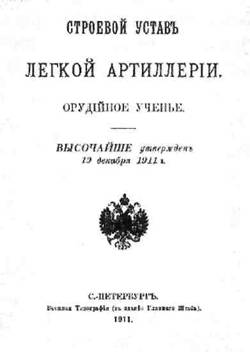
гимнастику и танцы нам преподавали специалисты.
Мне строевые занятия очень нравились — они, в отличие от классных, давали нам практические навыки. Но скучные уставы, в особенности дисциплинарный и гарнизонной службы, мы зубрили с отвращением.
В еще большей степени мы не любили пеший строй, куда входили: отдание чести, шашечные приемы и подготовка к парадам.
Титульный лист строевого устава
Но делать было нечего. Все это надо было знать и уметь, чтобы потом, уже в войсковых частях, правильно обучать солдат.
Зато танцы представляли собою настоящий аттракцион. На первый в году урок танцев, устраиваемый обычно после обеда в большом «Белом» зале, являлось все училище: младший класс — в качестве исполнителей, старший и средний — в качестве зрителей. Надо сказать, что хотя в кадетских корпусах и обучали танцам, однако, эти занятия велись кое-как, и поэтому в училище попадали кадеты, плохо умевшие танцевать такие распространенные в то время танцы, как вальс, венгерку, падекатр и другие. А из числа бывших гимназистов и реалистов, в особенности из захолустных мест, были и такие, которые в училище попадали на танцы вообще первый раз в
жизни. Можно было себе представить, что при этом получалось. Словом, старшие веселились во всю, когда неопытные танцоры, с которых пот катился градом, выделывали па, очень похожие на танцы медведей на ярмарках.
Верховая езда, наоборот, считалась между юнкерами важным и ответственным делом и не было случая, чтобы кто-либо из юнкеров «ловчился» от езды.
При поступлении в училище из юнкеров моего отделения умели ездить только казаки, да еще два человека. Остальные, в том числе и я, на лошадь, практически, садились впервые. Вспоминаю первый урок на манеже. По команде:
— По коням! — разобрали лошадей.
— Садись! — скомандовал Шкапский. Сели, разобрали поводья.
— Бросить стремя! — бросили и перекинули их через переднюю луку. Шкапский поставил головным одного из казаков и скомандовал:
— Справа по одному, на две лошади дистанцию, шагом ма-арш! — смена вытянулась вдоль барьера. Пока шли шагом, дело шло неплохо. Но вот новая команда:
— Сокращенной рысью, ма-арш!
Тут начались трудности. Оказалось, что удержаться на лошади на рыси без стремян не так-то просто. Кое-кто стал хвататься за луку.
Первым показал «высшую школу» езды бывший гимназист, толстяк Муратов. Он сначала схватился за луку, потом обнял лошадь за шею, а затем скатился на землю. Шкапский остановил смену и велел Муратову сесть на лошадь. Тот с трудом вскарабкался на седло. Снова шаг, а за ним опять рысь. Муратов проехал несколько шагов, затем подъехал к Шкапскому и доложил:
— Господин штабс-капитан! Я ездить не могу!
— Что!!! — заорал Шкапский. — Встаньте в строй!
Муратов пристроился в конце смены и поехал шагом. Тут Шкапский подскочил к нему и ударил лошадь бичом. Она дала «козла» и Муратов «закопал репу». Обозленный Шкапский крикнул ему:
— Сдайте лошадь ездовому и идите за барьер!
Наше первое занятие верховой ездой дальше шло без происшествий. Я, как и почти все остальные, на рыси без стремян чувствовал себя неважно, но изо всех сил старался не упасть, изредка хватаясь за спасительную луку.
После первого же урока верховой езды двое решили уйти из училища (это разрешалось до принятия присяги). Муратов совсем расстался с военной службой, а Гаврилов перевелся в пехотное училище.
Однако прошло время и постепенно все встало на свое место. Благодаря требовательности Шкапского, мы быстро привыкли к верховой езде, крепко сидели на лошади и даже стали ездить лучше казаков, которым теперь пришлось приучаться к езде на обычных строевых седлах, а они не похожи на казчьи.
Кроме верховой езды в смене, нас обучали вольтижировке и езде в орудиях.
Кстати, два слова о лошадях. Вначале мне казалось, что все лошади нашей батареи — одинаковы. Однако через некоторое время, присмотревшись, я заметил, что все они разные и по масти, и по экстерьеру (то есть по форме головы и туловища) да и характер имеют разный: одни — ленивые, другие — веселые, третьи — злые..., в общем стал уже их различать с первого взгляда как хороших знакомых.
Теперь о нарядах. Что может быть скучнее дневальства? Кажется, ничего. Сиди сутки в одном помещении, отвечай за порядок, а власти не имеешь никакой. Да еще и ночью спать не разрешается..
Странно: когда ты свободен, спать до полуночи не хочется. На дневальстве же уже к десяти часам вечера тянет ко сну. А ночью! Пока ходишь — ничего. Как только сядешь —беда, сразу засыпаешь. А заснешь, тут сразу же, как по вызову, является дежурный офицер, и смотришь, получил еще четыре дневальства вне очереди. Кое-как развяжешься с тремя дневальствами, обязательно заснешь на четвертом и опять заработаешь еще четыре наряда, да в придачу на две недели без отпуска. Просто горе!
То ли дело дежурство по кухне. Встанешь пораньше и к 7 часам приходишь на кухню. Выдашь поварам продукты на обед, позавтракаешь чем-нибудь вкусным: бифштексом или яичницей. Затем сходишь на лекции, а после — опять на кухню: надо выдать продукты на ужин. Во время обеда пошлешь на стол, за которым сидят свои ребята, лишнее блюдо котлет или пирогов. Вот и все. Наряд окончен.
По батарее дежурили лишь юнкера старшего класса. Этот наряд уже полегче. Надо только следить за дневальными, не допускать беспорядков в помещении батареи и иногда подменять дежурного по училищу офицера, если ему надо выйти из дежурной комнаты. Ночью дежурный по батарее мог спать, однако не раздеваясь.
Дисциплина в училище была не очень строгая. В связи с тем, что по существовавшему тогда обычаю фельдфебель и портупей-юнкера (сержанты) взысканий на юнкеров не накладывали, мелкие нарушения дисциплины (опоздание в строй, лежание на кровати в неполо-
женное время и т. п.) обычно оставались безнаказанными, разве что такое нарушение будет замечено кем-либо из офицеров училища.
Более серьезные нарушения дисциплины: опоздание из отпуска, ношение юнкером младшего класса неприсвоенных еще шпор, «лов-чение» от церковной службы и другие, выявленные офицерами училища, карались в зависимости от тяжести поступка: оставлением без отпуска, арестом с исполнением и без исполнения служебных обязанностей, переводом во 2-й разряд по поведению. Кроме того применялись и комбинированные наказания, например, на юнкерском жаргоне «четыре — тридцать» означало: 4 суток ареста и 30 дней без отпуска.
Надо сказать, что чаще страдал тот, кто чаще попадался на глаза офицеру, а среди них были и такие (например, штабс-капитан Кузнецов), которые, вероятно, получали большое удовлетворение, наказывая юнкера даже в том случае, когда можно было бы ограничиться простым замечанием.
Однако таким офицерам иногда перепадало и от юнкеров. Если кто-либо из офицеров «зверствовал» и придирался зря, то юнкера принимали решение: «обложить» его. В этом случае, когда он был дежурным по училищу и являлся на перекличку или в столовую, вся батарея начинала дружно кашлять. Офицер командует: «Смирно!» — не помогает. Бежит в один конец — кашляют в другом. Лучше уж было бы ему не обращать на кашель внимания или попросту уйти из помещения, а на будущее время сделать для себя выводы, так как юнкера зря никого не «обкладывали».
Прошло полтора месяца и нам объявили, что в ближайшие дни мы будем принимать присягу.
Вспоминаю, что присяга, несмотря на ее торжественный и строгий характер, не произвела на меня должного впечатления. Вероятно это получилось, главным образом, вследствие того, что, обучаясь в течение семи лет в кадетском корпусе, я настолько свыкся с мыслью о дальнейшей военной службе, что переход из корпуса в училище, то есть на действительную военную службу, прошел для меня сравнительно мало заметно.
Вероятно, поэтому я сейчас не могу вспомнить ни всего порядка принятия присяги, ни точного содержания ее текста. Помню только, что нас в парадной форме выстроили на дворе и училищный священник по шпаргалке, нудным голосом, как по складам читал текст присяги, а мы хором повторяли. В общем, и мне и многим моим товарищам все это казалось ненужной формальностью.
Быт училища
В кавалерийских училищах, до самого конца их существования, практиковалось так называемое «цукание» юнкеров младшего класса. Оно заключалось в следующем: юнкер старшего класса («господин корнет») имел право, подозвав юнкера младшего класса («зверя»), отдать ему любое, даже самое бессмысленное приказание, например, влезть под стол и спеть там серенаду Мефистофеля из оперы Фауст (такой случай действительно имел место), или сделать 200 приседаний, или быстро отвечать на самые идиотские вопросы. Он же имел право наложить на «зверя» взыскание, если не был доволен выполнением его приказания.
В артиллерийских училищах никакого «цукания» не было. Более того, как я уже писал, ни фельдфебель, ни портупей-юнкера не накладывали взысканий даже на юнкеров младшего класса.
Как у всех людей, у юнкеров тоже были свои моды.
Казенные сапоги, называвшиеся на юнкерском жаргоне нецензурным словом, похожим на слово «самоходы», были солдатского образца, изрядно пахли и поэтому ходить в них в отпуск, и тем более в гости, считалось неприличным. Поэтому каждый юнкер, если только имел возможность, в первую очередь обзаводился собственными сапогами. На сапоги особой моды не было. Носили сапоги и с твердыми, и с мягкими голенищами, и лакированные, и хромовые, но все с довольно узкими носками.
Если финансовые возможности позволяли, то юнкер, вслед за сапогами, обзаводился собственными брюками какого-либо модного фасона. Носили галифе и бриджи, рейтузы уже выходили из моды. В случае же отсутствия денежных средств, проводилось очень простое мероприятие: широкие казенные брюки ушивались у колена и ниже, так что получался своеобразный суррогат галифе. Конечно, это был только суррогат, но все же такие брюки выглядели лучше, чем бесформенные казенные «шаровары».
Мода на шинели в 1911 г. была прямо противоположна нынешней. Считалось: чем шинель длиннее — тем моднее! Самым шиком считалось иметь шинель, низом касавшуюся шпор. Однако если кто-нибудь из юнкеров был замечен училищным начальством в такой шинели, то она безжалостно подрезалась до уставной длины: 8 вершков (около 36 см) от земли.
Моды на форму шпор не было. Наилучшими по качеству изготовления считались «савельевские» шпоры, называвшиеся так по фа-
милии известного в Петербурге мастера Савельева, изготовлявшего шпоры, имевшие сильный и мелодичный звон.
Модными считались мятые бескозырки, без каркаса.
Темляки на шашках были из некрашеной кожи. Чем грязнее темляк, тем считалось лучше. Поэтому новые темляки нарочно пачкались, чтобы они получали грязный поношенный вид.
Волосы причесывались в виде ежика или с пробором. Длинные волосы носить запрещалось и длинноволосых безжалостно стригли под машинку.
В 1913г. откуда-то, кажется из армейской кавалерии, пришла мода брить или очень коротко стричь голову. Я прическами никогда особенно не увлекался и поэтому новую моду принял с удовольствием: стриг голову машинкой 0000. Легко, а главное, всегда причесан!
Эта «прическа» оказалась очень удобной во время войны, когда голова сильно пачкалась от пыли. Мыть же коротко стриженную голову — значительно проще.
Как почти во всяком коллективе, в училище был свой жаргон, который, в некоторой своей части, перешел вместе с бывшими юнкерами после производства их в офицеры и в артиллерийские части.
Вспоминаю некоторые, наиболее ходовые выражения и термины.
Например, вместо слова «угостить» употреблялось выражение «поставить собаку». В свое время меня заинтересовало происхождение этого выражения, но, хотя его употребляли буквально все, никто не смог мне объяснить, откуда оно взялось.
Вместо фразы: «посадить в калошу» или «поставить в глупое положение» употреблялось слово «нарезать», перешедшее также, как я убедился впоследствии, и в обиходную речь артиллерийских офицеров.
Вместо слов «модник» или «франт» в ходу было слово «тонняга».
Уйти в отпуск без разрешения, точнее в самовольную отлучку, называлось «уйти в отпуск наизусть».
Кроме упомянутых было еще много разных «местных» выражений и слов, но их я уже не помню.
Одной из «достопримечательностей» училища была Донна Анна. Это была здоровенная баба, лет сорока, которая содержала ларек на училищном дворе. Почему ее звали Донной Анной, никто из юнкеров мне объяснить не мог. Донна Анна была неплохим коммерсантом. Она живо реагировала на спрос и у нее всегда были нужные юнкерам товары: разные сладости, табак, папиросы, шило, одеколон, письменные принадлежности.
Донна Анна охотно продавала в кредит, а по некоторым сведениям занималась и мелким ростовщичеством, ссужая, конечно под изрядные проценты, кое-кого из юнкеров деньгами с условием расплаты при производстве в офицеры. К чести юнкеров следует сказать, что Донна Анна не имела оснований обижаться: должники расплачивались с ней добросовестно.
Лагеря
Учебный год окончен. Переходные экзамены уже сданы. В училище душно. Делать нечего.
Вот, наконец, и день выхода в лагеря. Наскоро завтракаем и собираемся в поход. Все «козероги» и часть юнкеров среднего класса поедут поездом. Они прогуляются пешком от училища до Балтийского вокзала (около 8 км), затем — по вагонам и минут через сорок — высадка в Красном Селе, а там недалеко и до нашего лагеря.
Весь старший класс и часть среднего идут походным порядком, причем старший класс на лошадях, а средний — на передках и зарядных ящиках, по трое в ряд. Конечно, ехать 25 километров, сидя на жестком (и без рессор) зарядном ящике, — не ахти какое удовольствие, но это все же лучше, чем идти пешком с винтовкой да еще с тяжелым ранцем на спине, как это приходится делать юнкерам пехотных училищ.
Вот, наконец, все готовы. Раздается команда:
— По коням! Садись! — затем, — справа по-орудийно, шагом ма-
арш!
Батареи вытягиваются на Литейный мост. За мостом сворачиваем на набережную Невы, затем выходим на Театральную площадь, далее через Калинкин мост на Петергофский проспект и, наконец, проходим Нарвские ворота и «форсируем» вонючую Таракановку.
— Стой! Слезай! — Десятиминутный привал.
Затем двигаемся по Петергофскому шоссе, тогда оно еще не было улицей. На нем были лишь отдельные деревянные домики. Одиноко стоял 4-этажный каменный дом против Путиловского завода, затем бывшая дача Кутузова — одноэтажное здание с двумя толстыми колоннами, дальше опять отдельные домишки. Наконец развилка шоссе: направо — в Ораниенбаум, налево — на Красное Село. Нам — налево. Вскоре наша колонна останавливается. Большой привал.
У места привала нас ожидают заранее выехавшие подводы с холодным завтраком. За едой и разговорами время привала проходит незаметно. И опять:
— По коням! Садись! Шагом ма-арш!
С непривычки ноги немного побаливают, но ничего не поделаешь, надо ехать дальше. Осталось еще километров двенадцать. Проходим Красное Село, и наконец, добираемся до своего лагеря.
— Стой! Слезай! Вот мы и дома.
Лагерь нашего училища, как и лагеря всех других Петербургских училищ, располагался на берегу Дудергофского озера. На передней линейке нашего лагеря, лицом к полигону, располагались шесть деревянных одноэтажных бараков для юнкеров. Курсовые офицеры имели отдельные комнаты при бараках своих классов, а остальное начальство жило в отдельных домиках, стоявших на средней линейке. В третьем ряду были бараки солдат училищной команды, конюшни и разные служебные помещения.
Дудергофское озеро имеет длину около двух километров и ширину до 1/2 километра. На восточном берегу озера — местечко Дудер-гоф с Вороньей горой. Вдоль западного берега, где располагался Авангардный лагерь, были купальни и причалы флотилий военных училищ. Шлюпки каждого училища имели свой кормовом флаг, так что можно было видеть, чья идет шлюпка.
В хорошую погоду после занятий, к вечеру, все «флоты» выходили на озеро, где встречались со знакомыми юнкерами других училищ, устраивали гонки, пели и вообще развлекались кто как умел.
Надо сказать, что иногда развлечения переходили границы допустимого. Например, у юнкеров Павловского пехотного училища одним из видов развлечения было пиратское нападение на воспитанников Пажеского корпуса. Две шлюпки с «Павлонами» подходили с двух бортов к шлюпке Пажеского корпуса и под веселое улюлюкание принимались раскачивать шлюпку с пажами до такого крена, что в шлюпку вода попадала в достаточном количестве. После этого шлюпку с пажами оставляли на произвол судьбы. Пажи, сидя до колен в воде, с трудом добирались на полузатопленной шлюпке к своей пристани и шли сушиться, а «пираты» уходили полным ходом восвояси, зная, что иногда на озере, тоже в шлюпке, присутствовал офицер одного из училищ в качестве наблюдающего за порядком, который мог заметить номер шлюпки «пиратов» и навлечь на них наказание.
Почти каждый вечер и я с товарищами катался на шлюпке. Какая хорошая зарядка перед сном!
Наше жилье представляло собою довольно длинные бараки, в которых размешалось по 70—90 человек. Бараки были довольно ветхие,
крыша местами протекала. Учитывая это обстоятельство, мы проделывали иногда довольно забавную шутку.
Надо сказать, что к изголовью каждой кровати был прикреплен вертикальный железный прут, на верхнем конце которого находилась табличка с фамилией и личным номером владельца кровати. На том же пруте, немного пониже таблички, был крюк для полотенца и фуражки.
В дождливый день, когда кто-нибудь из юнкеров (в качестве жертвы выбирался рассеянный и несообразительный юнкер) шел перед сном мыться, в его фуражку клали губку, хорошо намоченную водой. Вот «жертва» возвращалась из умывалки, раздевалась и укладывалась спать. Но заснуть не удавалось. Из губки на голову капала вода. Проклиная дырявую крышу, а заодно и лагерное начальство, «жертва» вылезала из-под одеяла, отодвигала кровать, думая, что это подтекает крыша, и снова ложилась. Через некоторое время опять «кап!» на голову. Снова проклятия, вставание, передвижение кровати. И так несколько раз, пока тупица не сообразит, наконец, в чем дело, или дневальный не сжалится над ним и не раскроет ему секрет.
Строевые занятия (7 часов в день)
Главным образом — это верховая езда и езда в орудиях, занятия при орудиях, материальная часть, гарнизонный устав с практическими занятиями.
Когда лошади были в разгоне, то вместо езды в орудиях практиковалось занятие, носившее несколько необычное название: «пешее по конному». Суть заключалась в том, что каждый пеший считался за всадника. Команды отдавались те же, что и в случае, когда батарея находится в конном строю. И вот, вместо лихих заездов, получались нудные пешие заходы да еще на самом солнцепеке. Это было скучнейшее занятие.
Не веселее было и несение караульной службы. В 12 часов новый караул выстраивался у караульного помещения. Дежурный офицер здоровался с караулом и приказывал развести часовых по постам. Оба разводящих, старый и новый, вели первую смену караула.
Вот например, артиллерийский парк 2-й батареи. Новый часовой становится рядом со старым часовым и последний рапортует:
— Пост № 2 артиллерийский парк 2-й батареи. Под сдачей состоят: 6 легких и 2 горных орудия, 2 гаубицы, 10 зарядных ящиков, плащ и свисток, — затем делает шаг в сторону и новый часовой зас-
тупает на его место. Пост принят. Тут уж надо не зевать. Надо становиться «смирно» и брать шашку «на караул» при проходе всякого офицера и рапортовать своим прямым начальникам и дежурному офицеру. Прозеваешь — жди наказания, чаще всего дополнительных нарядов. Заснешь на посту — это уже пахнет знакомой формулой: «4—30».
Однако иногда бывали и ЧП. Однажды вечером, несколько юнкеров соседнего с нами Николаевского кавалерийского училища, будучи изрядно навеселе, пытались увезти горную пушку из парка 2-й батареи. Что делать часовому? Стрелять нельзя — ясно, что это всего на всего глупая шутка подвыпивших соседей. Дать увезти пушку — тоже нельзя. Можно угодить под суд... К счастью, кто-то из наших юнкеров видел все это и сообщил караульному начальнику, который с другими сменами караула поспешил на выручку часового и выдворил веселых гостей.
Пожалуй самым важным из того, что мы изучали в лагерях, были практические артиллерийские стрельбы. На всех стрельбах присутствовали юнкера всего училища. За взводных и орудийных командиров, разведчиков и телефонистов были юнкера старшего класса, а в качестве орудийной прислуги и ездовых — юнкера среднего класса. Младший класс заранее отправлялся пешком к месту стрельбы для участия в ней только в качестве зрителей.
Казалось бы нарочно нельзя было выбрать место для артиллерийского полигона хуже, чем под Красным Селом. Гладкий, как доска, участок местности, шириною около четырех и длиною около восьми километров. Ни лощин, ни холмов, ни леса. Выбрать закрытую позицию для батареи было невозможно. Наблюдательный пункт всегда располагался на Царском валике. Так назывался небольшой искусственный холм, высотою 6—8 метров, расположенный на расстоянии около одного километра впереди лагеря. Другого места, откуда можно было что-либо увидеть, на полигоне не было. Поэтому никаких тактических обоснований для выбора артиллерийских позиций и наблюдательных пунктов привести было нельзя.
Другие артиллерийские полигоны Петербургского военного округа — под Лугою и под Стругами — были значительно лучше и больше, но туда артиллерийские училища не посылали.
К стрельбам все юнкера относились достаточно серьезно, так как хорошо понимали, что стрельба — это главное, что нужно отлично освоить.
Командовали стрельбой в начале лета офицеры училища, а потом, по очереди — юнкера старшего класса.
Итак, передки на батарею поданы. Раздаются команды:
— По коням! Садись! Шагом ма-арш! — и батарея трогается на
артиллерийскую позицию, которая обычно находится недалеко в сто
роне от Царского валика (больше встать негде). С наблюдательного
пункта отдаются команды и батарея изготавливается к стрельбе. Как
положено, сначала производится пристрелка, а по ее окончании —
стрельба на поражение. Две — три батарейные очереди и цель счи
тается уничтоженной.
Наш бравый командир батареи, полковник Леонтовский, стрелял отлично и, по обыкновению, демонстрировал свое искусство при стрельбе по движущейся цели, являющейся наиболее трудным случаем стрельбы.
— Батарея, к бою! По атакующей кавалерии! — командует Леон
товский, наблюдая в стереотрубу передвижение мишеней, изобра
жающих всадников. Пристрелку он выполнял быстро, и я бы сказал,
с точки зрения артиллериста, — изящно. Затем дождавшись, когда
«кавалерия» выходила на пристрелянный рубеж, командовал:
— Прицел 30, трубка 30, два патрона беглый огонь!
Разрывы накрывали цель.
Не так гладко шло дело с пристрелкой у некоторых офицеров училища. Иногда им приходилось довольно долго пристреливаться. Сказывалось отсутствие опыта, а у некоторых еще и страх перед начальством, которое, , обычно присутствовало на стрельбах.
Бывали случаи, что после отдачи ошибочных команд, снаряд вылетал за пределы полигона и попадал куда-нибудь в район деревень Аропакози или Новопурсково, жители которых по-своему использовали ошибку в пристрелке и предъявляли училищу претензии за якобы сгоревший стог сена или убитую корову. Человеческих жертв в наше время не было.
Но иногда пристрелку офицеров умышленно портили юнкера. Если кто-нибудь из офицеров училища, по мнению юнкеров, «вел себя непорядочно», то есть необоснованно придирался, специально занимался поисками юнкеров, ловчащихся от церковной службы, или ловил и доносил начальству на юнкеров, одетых не по форме, то старший класс выносил решение — «подкатить». Это означало, что когда этот офицер будет вести пристрелку, то организованно устанавливать неверно прицел и трубку. При этом получалось, что снаряды
попадали не туда, куда рассчитывал командовавший стрельбой офицер. В результате пристрелка не удавалась, а офицер получал замечание от начальства за неумение ее вести.
С точки зрения училищного руководства, «подкатка» считалась тяжелым преступлением и юнкеру, замеченному в этом, грозило откомандирование в часть солдатом.
Однажды, когда юнкера «перестарались» и подкатка была явно заметна, командовавший стрельбой офицер отдал команду:
— Стой! Вынь патрон! Проверить установки прицела и трубки!
К орудию направился один из офицеров для проверки. Дело грозило обернуться очень плохо для наводчика. Проверка выявила бы неправильные установки прицела и трубки. Тогда он принял единственно правильное решение: дернул за спусковой шнур и произвел выстрел. Проверить установки оказалось невозможно. Юнкер спасся от откомандирования в часть, но зато заработал «6—30» за производство выстрела без команды. Это все-таки для него был лучший выход.
Разборка вакансий и производство в офицеры
Разборка вакансий в значительной степени определяла нашу дальнейшую судьбу. Действительно: одно дело служить в Москве, Киеве, Одессе или Варшаве, другое — в какой-нибудь дыре, вроде Репнинского штаба, вблизи посада Замброва Ломжинской губернии или в урочище Посьет на берегу Тихого океана.
В те времена распределение по войсковым частям оканчивающих училище будущих офицеров производилось не руководством училища, а предоставлялось самим юнкерам в порядке успеваемости. Такой порядок являлся хорошим стимулом для повышения интереса юнкеров к учебным занятиям, так как каждый балл, в какой-то степени, влиял на окончательный средний балл, который вычислялся учебной частью училища и являлся основанием для определения порядкового номера каждого юнкера в списке, согласно которому производился выбор вакансий.
В 1914 г. в этом списке было 118 человек, из числа которых я был пятнадцатым.
В середине июня нам роздали списки артиллерийских частей, куда мы могли быть назначены по окончании училища, в том числе: в гвардию — 5, в конную артиллерию — 6, в полевую артиллерию — 91, в крепостную артиллерию — 16, а всего 118 вакансий, не считая казачьих.
Я составил для себя список вакансий, которые бы меня больше устраивали, главным образом из-за близости их к Петербургу или к Москве.
Однажды, в конце июня, строевые занятия после обеда были отменены. Нас — всех юнкеров старшего класса — собрали под столовым навесом. Туда же явилось все начальство. По указанию Начальника училища, адъютант начал по списку вызывать юнкеров.
Первого вызвали Фалеева, фельдфебеля 2-й батареи. Он подошел к столу, за которым сидел Начальник училища, и доложил:
— 2-й конно-горный артиллерийский дивизион.
Меня это устраивало, так как в конную артиллерию я не собирался.
Затем был вызван фельдфебель 1-й батареи Семенов.
— 2-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион — доложил он. Пришлось мне вычеркнуть эту вакансию, стоявшую почти в начале моего списка. Адъютант стал вызывать следующих. Разбирали разные вакансии, чаще гвардейские и конно-артиллерийские, но намеченных мною, к счастью, пока не брали. Наконец, подошла и моя очередь. Я вышел и доложил:
— 23-я артиллерийская бригада.
Все в порядке. Я взял как раз ту вакансию, которую и хотел.
Теперь мне волноваться больше было нечего. Я сел на место и уже спокойно стал отмечать, что досталось моим ближайшим товарищам.
Сначала разбирались хорошие вакансии, в том числе Варшава, Казань, Екатеринослав, Самара, Полтава и другие. Затем пошли вакансии уже похуже, например, Гродно, Новгород, Пенза, Тамбов. Далее еще хуже: Карачев, Несвиж, Волковыск, Влодава и, наконец, уже совсем плохие, такие как Михайловский штаб, близь города Пружаны Гродненской губернии, урочище Джелаус Карсской области или село Славянка на берегу Амурского залива Тихого океана.
Последнему в списке — Сашке Мосидзе, лентяю и гуляке досталась крепость Каре. Он доволен и смеется:
— Все-таки поеду на Кавказ, а там и до Тифлиса недалеко, всего
280 км!
Разборка вакансий окончена. Все расходятся и переваривают это важное событие. Кто доволен неожиданной удачей, а кто и грустит. Кто уже строит планы будущей жизни в большом хорошем городе, а кто ищет на географической карте село Каахка Закаспийской области и никак не может его найти. Я, конечно, в числе довольных.
12 июля 1914 г., после обеда, перед началом строевых занятий, дежурный по батарее передал приказание: переодеться в отпускное обмундирование и строиться на передней линейке.
Что случилось? Никто из нас ничего не понимал.
Затем последовало распоряжение: следовать в район расположения Павловского пехотного училища. Когда мы туда пришли, там уже выстраивались юнкера старших классов всех военных училищ, находившихся в Красносельском лагере.
Через некоторое время раздалась команда:
— Смирно! Равнение налево!
Повернув по команде головы, мы увидели императора Николая II, приближавшегося к нам в сопровождении многочисленной свиты.
Николай прошел в двух шагах от меня, так что я мог хорошо его рассмотреть. Он был в походной форме своего любимого лейб-гвардии Преображенского полка. Однако обмундирование сидело на нем как-то мешковато, и вид у него был вялый, невоинский. Это еще более подчеркивалось парадным видом сопровождавшей его свиты. Сразу за ним шел командующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа, великий князь Николай Николаевич, будущий Верховный главнокомандующий. Ростом около двух метров, подтянутый, он имел вид гораздо более бравый, чем император. Не менее эффектно выглядели и некоторые из шедших за ним военных атташе разных государств: будто проглотившие аршин немцы в касках; румыны в каком-то опереточном наряде; французы, японцы, австрийцы и другие.
Царь остановился посредине строя и тихим голосом произнес краткую речь, содержание которой я не запомнил. После этого мы закричали «ура» и торжество было закончено.
Через несколько минут мы уже были в своем лагере и, прежде всего, вместо юнкерских погон надели офицерские, которые нами были запасены после разборки вакансий.
Вскоре новоиспеченным «господам офицерам» сообщили, что сегодня же мы должны поехать в Петербург в училище, где с утра 13 июля, нам будут выданы направления в свои части, оружие и деньги на обмундирование.
Наскоро закусив, мы отправились на станцию Дудергоф, купили билеты и сели в поезд. Там у нас произошел интересный разговор,
В одном из купе из шести мест четыре оказались свободными, и мы их заняли. Два других места уже были заняты двумя немецкими офицерами, майором и капитаном, вероятно из числа бывших в свите
императора. Мы отдали им честь первые, как младшие в чине, и разместились на свободных местах.
Спустя некоторое время, капитан на приличном русском языке, после нескольких вступительных фраз вдруг сказал нам:
— А знаете, господа, мы может быть через некоторое время снова встретимся, но, вероятно, в совершенно другой обстановке!
Этим словам я сначала не придал никакого значения, но потом, когда война уже началась, вспомнил этот разговор. Вероятно немцы были уже предупреждены из Берлина о возможности войны.
 На другой день я получил направление в свою часть, шашку, револьвер и отличный бинокль, а также деньги на обмундирование (400 рублей) и премию (150 рублей) за хорошее учение. Затем получил у портного заказанное ранее обмундирование, расплатился с ним и перед отъездом к месту службы отправился в пятидневный отпуск, предоставленный нам для устройства личных дел.
На другой день я получил направление в свою часть, шашку, револьвер и отличный бинокль, а также деньги на обмундирование (400 рублей) и премию (150 рублей) за хорошее учение. Затем получил у портного заказанное ранее обмундирование, расплатился с ним и перед отъездом к месту службы отправился в пятидневный отпуск, предоставленный нам для устройства личных дел.
Отец и сын Никитины, 1914 г.
Так окончилось мое трехлетнее пребывание в Михайловском артиллерийском училище. 11 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум с требованием прекратить мобилизацию. Обстановка в Европе была очень напряженной. Однако я не представлял себе, чем все это может окончиться. К военной службе я готовился с детских лет, поэтому возможность быть раненым или убитым на войне не была для меня чем-то неожиданным. Но я совершенно не представлял себе, каким огромным бедствием является война для народа, и главным образом, для населения, живущего в районе военных действий.
Не думал я также, что почти никого из своих товарищей по училищу я никогда больше не встречу.



