При спуске пересекаем большое пологое снежное поле и далее по осыпям и разрушенным скалам на склоне пика «40 лет Татарской АССР» спускаемся на большую плоскую террасу, вытянувшуюся вдоль сверкающего внизу огромного ледника Чунгур-Джар. Не теряя высоты, идем по краю этой террасы вдоль ледника в направлении к Главному хребту, преодолеваем встречающийся широкий кулуар и за перегибом противоположного склона попадаем на поднимающуюся с Чунгур-Джара тропу к перевалу Малый Кичкинекол, по которой сворачиваем вправо и вверх. Тропа, выбитая в осыпи, переходит на маленький ледничок, затем — вновь на осыпь, приводящую к узкому перевальному окну.
Спуск с перевала в Кичкинекольский цирк ведет сначала по леднику, потом по осыпям и моренам и в заключение по крутому, поросшему рододендроном гребню. Через три часа он приводит к концу у начала подъема на Южные Доломиты: кольцо замкнуто.
Не меньший интерес представляет собой второй из узункольских ледово-снежных цирков — цирк реки Морды. Морды по-карачаевски значит болото, и действительно, в средней части долины этой реки имеется большое по кавказским масштабам болото, покрытое в летнее время ярко-зеленым ковром растительности. В этом цирке сосредоточены пять ледников. Над крупнейшим из них —ледник Морды — высится, словно обрубленный рукой великана, Кирпич (3800 м), гора Морды (3400 м) и знаменитая Гвандра (3983 м). Выше ее на всем Западном Кавказе только Домбай-Ульген (4040 м).
По леднику Морды лежит путь к одноименному перевалу через Главный Кавказский хребет. Этот перевал примечателен тем, что с него возможны два варианта спуска, ведущие в разные горные районы — Сванетию и Абхазию. С юга к перевалу примыкает снежное плато под названием Купол Морды, которым начинается отходящий от Главного Хребта отрог — хребет Могуаширха, разделяющий эти районы. Спуск с него влево приводит в упоминавшуюся уже долину Далара, а вправо — в долину Сакен, в самый глубинный уголок Абхазии, получивший широкую известность благодаря повести Георгия Гулиа «Весна в Сакене».
Путь от Могуаширха к Сакену несложен технически, но обычно психологически неодолим для новичков в горах: здесь есть полукилометровый участок, на протяжении которого надо идти по прикрытой осыпью узкой скальной полке, вьющейся над пропастью. Поэтому на этот маршрут никогда не берут с собой людей, впервые попавших в горы.
На запад, в бассейн кубанского притока Учкулан, через северный отрог Главного хребта Куршо ведут перевалы Джалпакол, Ак и Ак-Тюбе. В отроге Куршо есть скалистая вершина того же названия. По своей высоте (3869 м) она является чемпионом среди всех вершин Западного Кавказа, расположенных вне Главного хребта.
В 2 км ниже слияния рек Кичкинекола и Морды, дающего начало Узунколу, на высоте 2100 м раскинулась живописнейшая Узункольская поляна — один из шедевров природы Кавказа. Расположенный на ней альплагерь «Узункол» резко отличается по стилю своей работы от большинства наших альплагерей, которые формируют отряды из альпинистов, приехавших по индивидуально полученным путевкам. Узункол принимает только сложившиеся спортивные группы, использующие этот лагерь как базу для восхождений, осуществляемых под руководством собственных, а не лагерных инструкторов.
Лагерь работает с 1959 года, и место, где он расположен, считалось вполне безопасным, несмотря на то что в его ближайших окрестностях ежегодно сходят лавины. Специалисты утверждали, что охватывающие Узун-кольскую поляну склоны не являются лавиноопасными, и горы на протяжении последних десятилетий коварно оправдывали это мнение. Но 1 февраля 1976 года, в конце суровой и многоснежной зимы, когда количество осадков во многих местах горного Закубанья превысило двухгодичную норму, со склонов пика Трезубец, расположенного на берегу Узункола, сошла — впервые в этом месте — гигантская лавина. Она вторглась в альплагерь, снесла здание дизельной установки, два склада, разрушила двухэтажный корпус конторы и гаража и повредила другие строения.
Ботаники установили, что деревьям, вырванным лавиной с корнем, более ста пятидесяти лет. На шестикилометровой дороге, ведущей от устья Узункола к альплагерю, лавины сошли в девяти местах, сплошь завалив всю дорогу снесенным лесом. К. счастью, это произошло до начала альпийского сезона, то есть когда спортсменов в лагере не было. Особенно примечателен тот факт, что в двух других местах этой дороги, где лавины сходят, за редким исключением, ежегодно, на этот раз они не сошли! Недаром профессор писал: «Лавина хитра, ее вычисляют, предупреждают всех, а она сойдет через несколько десятков, а то и сотен лет. Мы стремимся предупредить неожиданное». А вот мнение его американского коллеги Монгомери Отуотера, книга которого «Охотники за лавинами» дважды издавалась в Советском Союзе: «Если и есть что-то общее во всех встречах с лавиной, то это полная неожиданность».
Ежегодно на континентах планеты «белая смерть» уносит сотни человеческих жизней. Вот как описывает австриец Вальтер Фляйг «почти бесшумную» лавину в Бад-Гаштейне: «Воздушная волна была так сильна, что здания оказались полностью разрушенными и сорванными с фундаментов, а люди, как установил врач, погибали вследствие огромного давления воздуха, разорвавшего легкие, как шквал рвет паруса». И далее он повествует о том, что из тех, кто в этот вечер спокойно ужинал в ресторане отеля, массивные стены которого уцелели под натиском воздушной волны, удушенными «невидимыми когтями белого призрака» оказались лишь сидевшие за столиками лицом к склону».
Нередко в ущельях горного Закубанья можно видеть следы лавины на обоих склонах ущелья, один точно против другого. Что это, две встречные лавины? Нет! Лавина сошла с одного борта лавины, остановилась, а созданный ею воздушный поток устремляется вперед, осушает реку, валит мачтовый лес на другом ее берегу, далеко за пределами «лавинного тела», как называют специалисты обрушившуюся массу снега.
На протяжении всей альпийской части горного Закубанья, то есть от Эльбруса до Фишта, лавины представляют собой весьма частое и распространенное явление. В многоснежные зимы они бывают даже и в тех местах Закубанья, где нет вечных снегов. В том же 1976 году, 8 марта, можно было наблюдать лавину, сошедшую с северных склонов горы Папай, расположенной неподалеку от Краснодара.
Даже «крохотная» лавина так же опасна для человека, как тысячетонная: ведь удельный вес снега в зависимости от его спрессованности и пропитанности водой колеблется от 100 до 800 кг/м3! К этому следует добавить, что склоны уже с весьма скромной крутизной (начиная с 25°) являются лавиноопасными, а сезон лавин в альпийском Закубанье простирается после многоснежных зим до первой половины июля включительно. Именно поэтому в зимние и весенние дни в сводках погоды Краснодарского краевого радио нередко звучат одни и те же слова: «В горных районах возможен сход лавин».
...Кроме четырех ледников Кичкинекольского цирка и пяти ледников цирка Морды, в бассейне Узункола есть еще десятый ледник на склонах горы Чат-Баши (3776 м), расположенный на правом берегу этого притока Кубани. Все эти десять глетчеров питают короткую, но многоводную красавицу реку — Узункол.
Учкулан и Даут
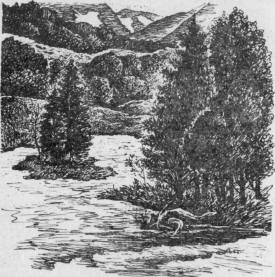 Ступайте же в горы Кавказа и почувствуйте все обаяние величественной природы горного мира. Почувствуйте не анализирующим взглядом или слухом городского жителя, противопоставляющего себя природе, пытающегося постичь ее извне, но внутренним чутьем, созерцанием человека. И тогда на каждом шагу Кавказ будет раскрывать перед вами свои чудесные картины, где давно прошедшее красноречиво говорит в настоящем, где в явлениях природы сплетены начала и концы, где в тесных пространствах вашего изумленного взора проходят в гармонических сочетаниях проявления жизни почти всего земного шара. Тогда в вашем сознании, как в фокусе мира, сосредоточено все время, все пространство вселенной; и нет предела вашим откровениям. Ступайте же на Кавказ!
Ступайте же в горы Кавказа и почувствуйте все обаяние величественной природы горного мира. Почувствуйте не анализирующим взглядом или слухом городского жителя, противопоставляющего себя природе, пытающегося постичь ее извне, но внутренним чутьем, созерцанием человека. И тогда на каждом шагу Кавказ будет раскрывать перед вами свои чудесные картины, где давно прошедшее красноречиво говорит в настоящем, где в явлениях природы сплетены начала и концы, где в тесных пространствах вашего изумленного взора проходят в гармонических сочетаниях проявления жизни почти всего земного шара. Тогда в вашем сознании, как в фокусе мира, сосредоточено все время, все пространство вселенной; и нет предела вашим откровениям. Ступайте же на Кавказ!
Путь в ущельях кубанских притоков Учкулан и Даут лежит через город Карачаевск, расположенный на высоте 872 м над уровнем моря на левобережной террасе реки Кубани, на самой стрелке междуречья Кубань — Теберда. Оба эти бурные, но несхожие между собой из различия в цвете потока омывают с двух сторон кварталы одного из самых молодых городов Северного Кавказа (он основан в 1926—1927 гг.). Над утопающими в зелени улицами петушпными гребнями скал высятся утесы. В Карачаевск попадают все, кто держит путь с севера в верховья Кубани, в ущелья ее верхних притоков и в долину Теберды.
Дорога по Кубанскому ущелью, ведущая к подножию Эльбруса, была проложена в начале сороковых годов XIX века под руководством ссыльного декабриста Константина Игельстрома.
Сразу за поселком Каменномостский (юго-восточной окраиной Карачаевска, названной так по находящемуся здесь памятнику природы чрезвычайно эффектному узкому каньону с отвесными скальными стенами, по которому с ревом проносится Кубань) дорога эта входит в узкое ущелье реки. Крутые склоны его, покрытые дремучими лиственными лесами, сходятся на обоих берегах столь близко, что на протяжении трех десятков километров нет места для хотя бы маленького населенного пункта. В 14 км от Карачаевска ущелье резко суживается — начинается теснина Аманныхыт, сдавленная с обеих сторон монолитными скалами. В прошлом веке, когда дорога была узкой, здесь приходилось в соответствии с неписанными правилами дорожного движения сбрасывать упряжки в Кубань — из-за того, что двум арбам невозможно было разъехаться. Долина несколько расширяется лишь за устьем правого притока Кубани — реки Худее. Прядь кофейного цвета мутной худесской воды на протяжении полукилометра не смешивается с прозрачной кубанской водой.
Выше впадения Худеса вдоль реки мелькают здания рудника «Эльбрус». Добыча серебросвинцовой руды началась здесь с 1891 года. Продукция рудника экспортировалась в Англию и Францию. В 1891 — 1892 годах на этом руднике работал счетоводом известный осетинский поэт Коста Хетагуров.
В окрестностях рудника «Эльбрус» и на склонах соседнего Даутского хребта ученые-археологи обнаружили древние штольни, плавильные печи, слитки меди, каменные молоты.
Ущелье постепенно расширяется, склоны его — сначала левый, затем и правый — становятся безлесыми. Шоссе спускается к привольно раскинувшемуся современному поселку Поляна. Затем на правом берегу мы видим аул Карт-Джурт. Это— родина известного карачаевского революционера-ленинца Умара Алиева. В ауле сохранились сакли с земляной крышей, а в ближайших окрестностях — наземные склепы. Здесь начинается Старый Карачай. Отделенный от остального мира труднопроходимой тридцатикилометровой тесниной Кубани, он практически не подвергался нашествиям и связанным с ними насильственным перемещением коренного населения. Об этом свидетельствуют итоги раскопок. Так, в окрестностях аула Учкулан найдено поселение, возникшее в середине первого тысячелетия до новой эры (ко-банская эпоха на Кавказе) и просуществовавшее более чем тысячелетне до времен Алании. В материальной культуре этого внушительного отрезка времени прослеживается преемственность.
Вот наконец долина еще более расширяется, превращаясь в величавую безлесную котловину с плоским дном. Здесь в Кубань с левой стороны под прямым углом впадает Учкулан. На правом берегу этой реки раскинулся аул того же названия. Горделивая панорама его одноэтажных строений прекрасно вписывается в
окружающий аул суровый ландшафт. У въезда в Учкулан высится памятник Герою Советского Союза . Здесь же памятник погибшим на фронтах Отечественной войны.
В ауле привлекают внимание современное здание Дворца культуры, мемориальная доска у входа в здание средней школы. На ней —барельеф первого советского учителя в Карачае, просветителя Ильяса Магометовича Байрамукова. В годы царизма он обучал в Ставропольской мужской гимназии за свой счет способных, но не имеющих возможности платить за обучение детей, расходуя на это свой учительский заработок. Вот здание больницы, построенной по инициативе прогрессивного русского деятеля Петрусевича. После его смерти больницу закрыли, и она была восстановлена лишь в годы Советской власти.
Аул Учкулан любовно хранит память о выдающемся краснодарце — талантливом офтальмологе, заслуженном деятеле науки, депутате Верховного Совета СССР, профессоре Станиславе Владимировиче Очаповском.
В первые годы Советской власти на всем Северном Кавказе свирепствовала трахома — ею страдало более четверти горного населения. По инициативе для борьбы с ней были организованы глазные отряды, которые он сам и возглавлял. «На территории Адыгеи, Черкеоии, Карачая, Кабарды, Балкарии, Осетии, Чечни, Ингушетии и Дагестана нет, пожалуй, горного закоулка, в котором не побывал бы этот рыцарь света»,— пишет о в своей книге «Почетный гражданин Кавказа» краснодарский журналист Амин Темрезов.
Первый отряд Очаповского (в него входили он сам и четыре помощницы — ординатор, две студентки Кубанского мединститута и медсестра) появился летом 1921 года в ауле Учкулан, перевалив пешком через плато Бичесын. Отряд расположился в каменном остове сгоревшего здания бывшего двухклассного начального училища. Старый учитель Ильяс Байрамуков помог собрать в селении несколько стульев и столов для первой учкуланской амбулатории, над которой взвился флаг с красным крестом на белом поле. Однако первого пациента пришлось ждать целых три дня — амбулаторию окружила незримая стена религиозного предубеждения.
Лед тронулся на рассвете четвертого дня, когда порог училища переступил старец с бельмом на глазах. В последующие дни отряд успевал принимать до двухсот больных.
Шестьдесят семь дней Станислав Владимирович и его четыре помощницы трудились не покладая рук. Приняли 773 больных, сделавших около 4000 визитов, выполнили 194 сложных операции, в том числе 89 экстракций катаракт. Первый номер газеты «Горская жизнь» от 8 сентября 1921 года сообщал в заметке «Редкий случай исцеления»:
«В ауле Учкулан живет семья бедняка Рамазана Джазаева, у которого все трое детей — десяти, семи и двух лет — родились и все время оставались слепыми. Отец обратился к , который со своим глазным отрядом несколько недель работал в Карачае. Находя случай семейной катаракты крайне редким, русский доктор все же согласился на хирургическое вмешательство. Родители в тревоге ждали результатов. И что же? В итоге операции и тщательного ухода, к удивлению всего аула, к бесконечной радости родных и близких, все три мальчика прозрели. Можно представить себе чувство благодарности горцев Советской власти, которая присылает в глушь таких докторов».
За два месяца работы в Карачае талантливый специалист вернул зрение ста пятидесяти слепцам, а летом 1922 года вновь полтора месяца оперировал в учкуланской амбулатории. И вот пришло документальное признание этого уникального подвига:
«Дорогой Очаповский! Прозревшие слепцы, их утешенные родственники, весь трудовой карачаевский люд, преисполненный великой признательностью, шлет Вам свою благодарность. Тысячи людей из горской бедноты, которая в силу различных социальных причин имела печальную привилегию страдать наиболее тяжкими формами глазных заболеваний, прошли через Ваши руки и получили исцеление в результате разумного вмешательства специалиста высокой квалификации. С радостью сообщаем, что аульский сход единодушно постановил избрать Вас почетным гражданином аула Учкулан. Предисполкома Курджиев».
Имя доктора-кудесника карачаевцы присвоили двум больницам — Учкуланской и Сентинской (в ауле Нижняя Теберда).
Вернувшись в Краснодар, добился учреждения в Кубанском мединституте постоянной специальной стипендии для студента, присылаемого из Карачаевска. А в 1927 году, в дни торжеств, посвященных основанию первого города в Карачае — Микоян-Шахара (ныне — Карачаевск), он направил туда телеграмму, в которой, в частности, говорилось: «Предвижу светлое, радостное будущее своих сограждан». Телеграмма была подписана так: «Гражданин аула Учкулан, профессор Очаповский».
...Суровы, недружелюбны берега нижней части ущелья Учкулан с его полупустынными, безлесными склонами, несущими на себе длинные ленты каменных осыпей, которые напоминают бывалому путешественнику горы Тянь-Шаня. Здесь исключительно сухой микроклимат: нижний Учкулан попадает в так называемую «дождевую тень», создаваемую соседними хребтами, перехватывающими почти все осадки. В ауле Учкулан, стоящем при устье этой реки, их выпадает меньше, чем в засушливых степях Калмыкии. Положение усугубляют фены — теплые, сухие ветры, переваливающие с юга через Главный Кавказский хребет и с волшебной быстротой «слизывающие» снег с гребней, ограничивающих ущелье.
Но по мере продвижения вверх по реке на юг, в сторону Главного хребта, ландшафт смягчается: выжженные солнцем склоны, шлейфы осыпей и каменистые островки с чахлым кустарником, рассекающие быстрые воды Учкулана, постепенно уступают место лесу, который становится все выше и гуще. Слева над дорогой появляется живописная поляна Кертмели, а по другую сторону шоссе висячий мостик через Учкулан, ведущий к нарзанным источникам. Еще пять километров вверх по Учкулану и перед нами один из «конденсатов» кавказских красот — поляна Махар-Аячъы, раскинувшаяся на высоте 1800 м среди пышных хвойных лесов. Здесь сливаются две большие реки — Гондарай и Махар, дающие начало Учкулану. Рядом с поляной Махар-Аячъы — другая поляна Джалпакол-Аячъы, с которой открывается вид на сияющий льдами сказочный замок, расположенный в самой глубине ущелья первой из этих рек. Это многовершинный скалистый массив Гондарай. Одноименная река и ее притоки, среди которых наиболее крупными являются Джалпакол и Индрюкой, возникающий при слиянии рек Ак-Тюбе и Западный Кичкинекол, зарождаются на многочисленных ледниках, украшающих склоны участка Главного Кавказского хребта от Гвандры до вершины Южный Нахар, а также западные склоны отрога хребта Куршо и восточные склоны Нахарского хребта. Через эти ледники ведут перевальные пути на восток, в бассейн реки Узункол, и на юг, в Абхазию, в долину реки Гвандра, что впадает в крупнейшую водную артерию этой автономной республики — реку Кодори. По левому ее берегу проходит большая часть закавказского участка Военно-Сухумской дороги. Берега Гондарая и его притоков радуют путешественника пышностью хвойных лесов н богатством альпийского разнотравья.
К числу наиболее ярких достопримечательностей бассейна Гондарая относятся ледяной купол оконечности ледника Ак-Тюбе (в переводе с карачаево-балкарского и многих других тюркских языков—Белый холм) и громадный водопад в ущелье Индрюкой, неистовствующий, словно невинно осужденный арестант в темнице, в темной и мрачной скальной теснине, в одной из каменных створок которой бешеные струи пробили круглое отверстие; сквозь него несется неудержимый поток. Ниже водопада через Индрюкой переброшен мост «Нарт кёпюрю» (Нартский мост).
Но вернемся на поляну Махар-Аячъы, чтобы, начиная с нее, совершить путешествие по Махару, самому голубому среди всех рек Кубанского бассейна. Менее чем в получасе ходьбы от его устья в вековом лесу расположена еще одна поляна (Гитче-Тала) с выходами нарзана, выбивающегося здесь на поверхность земли несколькими грифонами, обильно выделяющими углекислоту. Температура махарского нарзана (+8° С) одна и та же в любое время года.
Каждое лето здесь возникает своеобразный «курорт». Из разных мест Карачая сюда съезжаются на лето отдыхающие, ставят палатки, шалаши и балаганы (последние, в отличие от аналогичных сооружений в горах Краснодарского края, здесь называют кошарами).
Еще полчаса ходьбы вверх по Махару — и вот очередная поляна — Уллу-Тала. С нее начинается зигзаг тропы, ведущей на Даутский хребет, к месту, где среди угрюмых скал затаилось самое большое из всех озер бассейна Кубани — Уллу-Кель (Большое озеро). Оно расположено почти на трехкилометровой высоте над уровнем моря « нередко до самой середины лета покрыто толстыми льдами; но в погожий августовский день Уллу-Кель напоминает гигантскую запятую бирюзового цвета, над плоскостью которой вырастает готика скалистой вершины Рынджи-Аге (3802 м). Из озера вытекает река Кичкинекол, левый приток Учкулана (не путать с одноименной рекой в бассейне Узункол), впадающая в него в 10 км выше аула Учкулан, близ нарзанных источников Кертмели. Левый берег Кичкинекола — возможный вариант спуска от озера Уллу-Кель, но мы вернемся на Махар, чтобы пройти до конца его ущелья.
В восьми километрах от поляны Махар-Аячъы лес на берегах Махара заканчивается, и тропа выходит на последнюю из полян — Бездирген. Отсюда начинается крутой подъем на лежащие друг над другом три террасы, ведущие ступенями к перевалу Нахар. Махар и Нахар — это соответственно карачаевская и абхазская фонетические версии одного и того же наименования; границей между Абхазией и Карачаем является Главный хребет, но точки этого хребта — вершины и перевалы— имеют чаще абхазский вариант названия. Это связано с тем, что в далеком прошлом абхазцам в большей степени был присущ, так сказать, «стихийный альпинизм» (очень характерный, например, для их соседей по южному склону Кавказа — сванов).
На третьей из упомянутых террас расположено На-харское озеро, контрастирующее своим темным цветом с прозрачной водой соседнего озера Гитче-Кель, и сразу вслед за ним начинается крутой подъем по леднику к перевальной точке. Спуск с перевала Нахар в абхазскую сторону выводит на Военно-Сухумскую дорогу неподалеку от спуска с известного Клухорского перевала.
Следующий за Учкуланом к западу приток Кубани — Даут — имеет узкое и длинное ущелье, простирающееся в направлении на северо-северо-восток и почти не изменяющее это направление. Даут длиннее Учкулана, но менее многоводен. Близ места впадения Даута в Кубань последнюю пересекает железный мост дороги Карачаевск — Хурзук. От этого моста начинается маршрут вверх по Дауту. В 17 км от него расположена база молокопровода, на которую по трубам доставляется молоко с горных пастбищ на склонах ущелья.
Ущелье Даута в прошлом также было частью Старого Карачая, но ныне, после того как был покинут аул Джазлык в низовьях Даута, в долине этой реки, по существуй нет населенных пунктов. Выше упомянутой базы расположены лишь овцеферма и поселок геологов. Еще выше — оставленный жителями старинный аул Даут, который сохраняют как музейную экспозицию под открытым небом.
В прошлом аул Даут славился своими борцами. Первым считался не знавший поражений Мамура Кинкеев, прозванный Чымык уллу (Большой силач). Вторым — Бекир Боруев, третьим Кочкар Абайханов, положивший в считанные минуты на обе лопатки профессионального американского борца-тяжеловеса.
Ущелье Даута ограничено с востока Даутским хребтом, отделяющим его от бассейна Учкулана, а с запада меридиональной системой хребтов, являющейся границей Тебердинского государственного заповедника. По их склонам сбегают многочисленные притоки Даута — правые (Уллу-Ырханы-Су, Дотдайлары, Мырзалары и др.) и левые (Муруджу-Су, Кичкинекол, Эпчик, Ак-Су, Эниу-Су и др.). Через эти хребты из долины Даута в ущелье бассейна Теберды — Горалыкол, Назалыкол, Уллу-Муруджу, Киче-Муруджу— ведут перевалы разных категорий сложности, из которых простейшим является Эпчик.
Теберда – синеглазая фея
 Вспоминаю знойные долины,
Вспоминаю знойные долины,
Вспоминаю вечные снега.
Вьется, вьется лента серпантина,
Теберды петляют берега.
...Так ты мне запомнилась навеки;
Так вошла мне в сердце,
Теберда: Слезы и смеющиеся реки,
Снег и солнце, радость и беда...
Юлия Друнина
...Она хранит чистоту своих синих вод от истоков, вырывающихся из-под заснеженных глетчеров Домбая, до самого устья и даже дальше. Влившись в Кубань, Теберда продолжает напоминать о себе короткой прозрачной прядью воды, сквозь которую виден каждый камешек.
С незапамятных времен тебердинская долина была одним из важнейших торговых путей (самым коротким), ведущих с Черноморского побережья в беспредельные степи Северного Кавказа. Венчающий верховья одного из истоков Теберды Клухорскнй перевал упоминается греческим ученым Страбоном (I в. до н. э.). В летнее время этим путем пользовались купцы из приморской колонии Диоскурни, располагавшейся близ устья реки Кодорн (неподалеку от нынешнего Сухуми). Затем их сменили византийцы, экспортировавшие аланам через Клухор вместе со своими товарами христианскую веру. В тебердинской долине, в девятнадцати километрах к югу от Карачаевска, над аулом Нижняя Теберда на красноватом утесе белеют стены сентинского храма X—XI веков, внутри которого кое-где сохранились остатки фресок. В последующие столетия клухорскую тропу освоили генуэзские и венецианские купцы. На карте, составленной в 1367 году венецианцем Франческо Пиццигани, изображен караванный путь через Клухорский перевал, долину Теберды, Маринское ущелье и т. д., ведущий с Черноморского побережья в закаспийские земли.
В конце XIV века нашествие монголов вынудило остатки аланских племен уйти глубоко в горы — в теперешние области Карачая, Балкарии и Осетии. Смешавшись с кипчаками и другими тюркоязычными-племенами, они сыграли основную роль в формировании карачаево-балкарской народности.
В тебердинской долине карачаевцы поселились в конце XVII века, когда ими был основан невдалеке от нынешнего города Теберды аул Джемагат (в переводе — общество)(Cчитают, что в лермонтовской поэме «Хаджи-Абрек» имеется в виду именно он («Велик, богат аул Джемат, он никому не платит дани»), хотя общий вид джемагатской долины не соответствует описанию окрестностей Джемата). Но вскоре, в самом начале XIX столетия, в долину из-за Клухора была занесена чума, истребившая большую часть жителей. Эпидемия прекратилась в 1811 году, однако в 1830-м вспыхнула с новой силой, и долина Теберды была на несколько десятилетий покинута людьми. Карачаевцы стали называть ее Адам-Крылген — место гибели человека. До сих пор в Карачае широко известна старинная песня «Эмина» (то есть «Верная», имеется в виду неотвязчивость чумы), повествующая о гибели Джемагата.
Около полувека тебердинская долина, внушая людям суеверный страх, оставалась необитаемой. Одичали сады, заросли дороги и тропы, растительность завладела развалинами аулов. В огромном количестве развелись олени, медведи и кабаны. И лишь изредка в дремучих, забытых лесах Адам-Крылгена находили приют лихие абреки.
«Эмина» обусловила собой чрезвычайно запоздалое освоение долины. Первые поселения появились здесь только в 1879 году: карачаевские аулы Сенты и Тебердинский (ныне Нижняя и Верхняя Теберда). Место, где ныне располагается знаменитый город-курорт, стало заселяться лет на двадцать позже, уже после постройки Военно-Сухумской дороги.
В 1910 году по предложению Георгия Михайловича Гречишкина, врача из станицы Лабинской, неутомимого исследователя Теберды, XI съезд русских врачей вынес решение «о необходимости подробного метеорологического и физико-географического исследования тебердинской долины как возможного горно-климатического курорта». Рекомендации патриотов-ученых были реализованы в полной мере лишь после Великой Октябрьской социалистической революции.
Еще сильнее запоздало альпинистское освоение Домбая.
Заглянем в «Путеводитель по волшебной Теберде» , изданный в Ростове-на-Дону в 1914 году. Он детально описывает все пансионаты и дачи в поселке; о расположенном же в 23 км Домбае приводится единственная «информация»: «В ущелье Домбая растет трава, от которой пьянеют лошади». Вплоть до начала XX века один из замечательнейших альпинистских районов мира оставался абсолютно неизвестным (в то время как соседний Эльбрус, например, был покорен в 1829 году).
В 1901 —1904 годах председатель Русского горного общества Александр Мекк и швейцарский альпинист Андреас Фишер совершили на Домбае ряд труднейших первовосхождений. Знаменитый швейцарец писал впоследствии в своей статье, помещенной в «Ежегоднике Русского горного общества», о том, что Домбай «напоминает Западные Альпы, в особенности Дофинэ, но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности превосходит все, что можно видеть в Альпах».
Сегодня эта красота оберегается как всенародное достояние. В марте 1936 года решением ВЦИК и СНК РСФСР верховья реки Теберды объявлены «полным государственным заповедником республиканского подчинения». Тебердинский заповедник — это сверкающий мир горных вершин с неповторимыми очертаниями. Вот Белалы-Кая, огромная скалистая пирамида, словно плывущая в небе, Сулахат, изумительно напоминающая спящую женщину, кривой, как ятаган, Зуб Софруджу, гордый Эрцог, поражающий своей правильностью шпиль пика Инэ. Все эти и многие другие вершины с висящими на них розово-голубыми ледниками видны одновременно с прославленной Домбайской поляны. Эти снеговые исполины лежат всего в 60 км по прямой от берега Черного моря! (На территории заповедника свыше ста ледников, 95 процентов расположено на высоте свыше 2000 м над уровнем моря.) В заповеднике более семидесяти горных озер и множество водопадов. Растительность поражает своим разнообразием и неожиданностью сочетаний. Степной ковыль соседствует с северянкой брусникой. Рядом с тундровым карликовым березовым криволесьем — представители третичной субтропической флоры (у самого подножия ледников!): лавровишня, падуб колхидский и многие другие.
В долинах рек (Уллу-Муруджу, Азгек, Муху, Джемагат, Бадук с Хаджибеем и др.) и по склонам хребтов раскинулись хвойные и лиственные леса (пихта кавказская, сосна крючковатая, ель восточная, тис ягодный, клены — высокогорный, остролистный и красивый, граб, кавказский, бук восточный). Над верхней границей леса— заросли рододендрона кавказского. На высоте 2200—2500 м субальпийские луга с гигантскими зонтичными растениями, иногда скрывающими всадника с лошадью; еще выше — альпийское низкотравье, усеянное маленькими пестрыми пятнышками цветов. Одних цветковых растений в заповеднике насчитывается 1175 видов, из них 186 —эндемики Кавказа.
Встречающиеся здесь в изобилии представители мезозойской эры — хвощи и папоротники — натолкнули свыше тридцати лет назад ныне известного советского биолога на мысль о возможности выращивания в Тебердинском заповеднике их ровесника — знаменитого женьшеня. Поиск оптимальной среды для культивирования чудодейственного корня занял у Малышева и руководимой им лаборатории семь лет. Было установлено, что границы возможного ареала женьшеня на Кавказе совпадают с границами распространения бука восточного в пределах 600—1400 м над уровнем моря.
И вот на экспериментальных плантациях заповедника уже больше тридцати пяти лет выращивают женьшень (до этого он никогда не произрастал в горах Кавказа). Установлено, что препараты из акклиматизировавшегося в Закубанье женьшеня по своим целебным свойствам существенно превосходят аналогичные препараты из женьшеня, взращенного в Китае и Корее. Успешный эксперимент ученых заповедника, подтвержденный внедрением в практику работы лесных хозяйств, показывает, что на Северо-Западном Кавказе можно создать вторую после Дальневосточной промышленно-сырьевую базу выращивания этого волшебного реликта.
Полвека существования Тебердинского заповедника доказали, что человек может не только охранять дикую природу, но и способствовать ее развитию. Леса, подверженные хищническим рубкам и пострадавшие от пожаров дозаповедного времени, возвращаются к своему первозданному состоянию. Затухают процессы эрозии альпийских лугов, вызванной бессистемным выпасом скота: травянистые склоны гор и верховья речных долин вновь обрели свой естественный покров. Поднялась выше верхняя граница леса: молодые деревья, устремившись навстречу горным вершинам, захватили более тысячи гектаров земли, ранее вытоптанной скотом.
Самобытен животный мир заповедника, в значительной степени представленный эндемиками Кавказа. В альпийской зоне, на узких перемычках горных хребтов, огибая жандарм, вы можете увидеть в непосредственной близости от себя западно-кавказского тура, которого иначе называют еще туром Северцова, в хаосе скал и крупных осыпей услышать в двух-трех шагах характерный писк кавказского улара — горной индейки, увидеть проносящихся почти над самой головой быстрых и любопытных альпийских галок. Над бездонным провалом между пиками вершин лениво парят громадные хищники. Это — или бородач-ягнятник, или беркут, а может быть, белоголовый сип.
Ниже, в субальпике, нередко можно встретить серну, горностая, каменную куницу, а из птиц — кавказского тетерева и каменную куропатку — кеклика.
Еще ниже, в лесах, селятся кабан, медведь, лесная куница, кавказская лисица и белка, завезенная сюда из Алтайского заповедника и превосходно здесь акклиматизировавшаяся. Белки удивляют путешественника полным пренебрежением к нему как возможному источнику опасности. Они способны затеять игру в двух шагах от сидящих людей; проходя по тропинке, можно увидеть над самой головой белку, которая невозмутимо тебя разглядывает, держа в зубах шишку и почесывая брюшко. Реже, чем в Кавказском государственном биосферном заповеднике, расположенном на территории Краснодарского края, здесь встречаются олень, косуля, рысь и лесной кот. В кроне деревьев — несмолкаемый птичий гомон.
Всего па территории Тебердинского заповедника постоянно обитает 137 видов позвоночных животных, в том числе 87 видов птиц (не учитываются еще 80 видов пернатых - пролетных, кочующих и зимующих, которые здесь находят себе приют весной, осенью и зимой).
Заповедный режим исключительно благоприятно сказался на состоянии животного мира верховий Теберды. Почти в три раза увеличилось поголовье туров и серн. Количество охотничье-промысловых птиц высокогорья (уларов и тетеревов) на каждые 100 га альпийских лугов и скальных участков заповедника в два-три раза больше, чем в смежных районах.
Работники заповедника не только охраняют фауну тебердинских верховий, они способствуют ее развитию. Летом дикие животные получают минеральную подкормку, а зимой — сено и веточный корм. Служба заповедника ведет учет диких животных и изучает их образ жизни. В целом деятельность заповедника как научно-исследовательского учреждения заключается во всестороннем изучении природного комплекса в динамике его развития вследствие естественных процессов. Последние полтора десятка лет исследования проводятся здесь по Международной биологической программе, а их результаты публикуются в научных трудах заповедника.
Ландшафтный облик Тебердинского заповедника невозможно представить себе без его блещущих рек. Даже тот, кто не был здесь, при первом взгляде на карту убеждается в том, что схема истоков и верхних притоков реки Теберды является как бы скелетом заповедника.
Центральный исток Теберды — река Аманауз берет начало с ледника того же названия. Невдалеке от места рождения в него грандиозным водопадом обрушивается приток, выбивающийся из-под ледника Северный Софруд-жу. Далее, в самом центре Домбайской поляны, которую считают красивейшим местом на Кавказе, в Аманауз с противоположных сторон впадают два больших, симметрично расположенных притока — Алибек и Домбай-Ульген. Алибек начинается на одноименном леднике, который пользуется широкой популярностью благодаря тому, что этот огромный глетчер прекрасно виден с тропы, доступной любому путешественнику. Алибекский ледник венчают вершины Джаловчат, Эрцог (гора, которую под названием Ерцаху абхазы почитали священной: легенда рассказывает, что на ней покоятся якорь и обломки корабля, разбившегося об ее скалы). Далее к востоку высятся Чхалта-Дзых-Баши, Задняя и Передняя Велала-Кая. Еще дальше горы, окружающие исток Аманауза — большой снежный купол вершины Софруджу с характерным зубом, вершина Аманауз-Баши с почти отвесными стенами, горный массив Джугутурлючат, состоящий из ряда остроконечных пиков с висящим у их подножия ледником. На южном берегу Домбай-Ульгена, который образуется от слияния реки Птыш, стекающей с Птышского ледника, и реки Чучхур с двумя большими водопадами, высятся пик Инэ, скалистая вершина Птыш и Домбай-Ульген (4040 м) —самая высокая вершина горного Закубанья.
Все эти перечисленные вершины обрамляют сплошной стеной, встающей на юге, Домбайскую поляну. С севера эту поляну ограничивают высокие хребты Мусса-Ачитара и Семенов-Баши, в узкий зазор между которыми вырывается Аманауз. В шести километрах ниже по течению в Аманауз справа впадает Гоначхир, образующийся в результате слияния рек Клухор и Бу-Ульген. Вверх по дикому Гоначхирскому ущелью уходит к Клухорскому перевалу Военно-Сухумская дорога.
Как ты мне памятен, привал У Гоначхирского ущелья! Скалистый коридор глубок, На диких кручах пихты виснут, Отвесными стенами стиснут, На дне беснуется поток...—
так писала об этих местах поэтесса Вероника Тушнова в своей поэме «Дорога на Клухор».
Место впадения Гоначхира в Аманауз считается началом реки Теберды.
В 4—5 км ниже по течению Теберда принимает почти симметрично впадающие притоки: справа — Уллу-Муруджу, слева Бадук с притоком Хаджибеем (Некоторые авторы считают, что, наоборот, Бадук является притоком Хаджибея, и называют нижнюю часть потока (после слияния) Хаджибеем.). В долинах этих рек расположены наиболее крупные озера заповедника — Муруджинские, Бадукские, Хаджибейское. Еще ниже — вновь два почти симметричных притока: слева — река Муху с притоком Азгек, в верховьях которого много озер, справа — уже упоминавшийся Джемагат, в его долине нарзанный источник, а на многочисленных живописных притоках еще более живописные озера.
О власти Теберды над воображением человека поэт Николай Асеев написал: «Красавица Теберда берет за сердце, покоряет навсегда своих поклонников. Я не знаю, как для других, но для меня Теберда — вторая родина, более близкая душе, чем моя Курская сторона. Я здесь научался видеть мир в его огромных масштабах; я понял работу земли... Драгоценная, дающая силу, радость и жизнь, долина реки Теберды, благодарю тебя за твою красоту, свежесть и радость, которыми ты даришь нас!»
Район Теберда — Домбай сегодня один из самых популярных в стране центров туризма, горно-лыжного спорта и альпинизма. Десяток туристских маршрутов через перевалы Птыш, Киче-Муруджу, Алибек, Джаловчат, Семидесяти трех, Бадукский, Хутыйский, Мухинский, Эпчик и другие ведут отсюда в смежные туристские регионы Кавказа: Архыз, Абхазию, верховья Кубани и далее в Балкаршо (высокогорная часть Кабардино-Балкарской АССР) и Сванетию. В последние годы здесь широко развернулось строительство целого ансамбля многоэтажных гостиниц и турбаз, канатных дорог кресельного и гондольного типов, ведущих к местам горно-лыжных стартов и к панорамным точкам («кругозорам»), А древний международный караванный путь через Клухорский перевал, по снегам которого в дни войны советские альпинисты вывели из Теберды в Абхазию (перед самым приходом немцев) лечившихся в ней испанских детей, вновь стал международной артерией. Ежегодно через него тропою дружбы между людьми всех краев света проходят тысячи советских и иностранных туристов.
Зеленчуки большой и малый
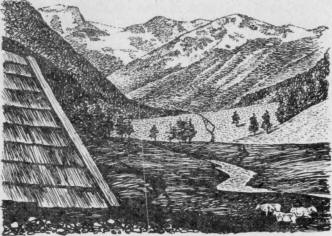 Полет орлов и рек рожденье Там наверху увидишь ты. Прекрасно счастье восхожденья, Преодоление высоты!
Полет орлов и рек рожденье Там наверху увидишь ты. Прекрасно счастье восхожденья, Преодоление высоты!
Вероника Тушнова
Шоссе, ведущее из Невинномысска в Домбай, пересекает два кубанских притока — Большой и Малый Зеленчуки — один за другим всего через 30 км, и путешественник с неизбежностью отмечает, что оба Зеленчука в своих низовьях похожи друг на друга, как близнецы. Но реки-«близнецы» крайне несхожи в своих колыбелях-верховьях, и лишь когда добираются до равнины, они уступают нивелирующему воздействию последней. Оба Зеленчука образуются из слияния нескольких горных рек, ущелье каждой из которых песет печать резко выраженной индивидуальности.
Две сравнительно длинные (обе по 75 км), многоводные реки — Аксаут и Маруха, сливаясь, дают начало Малому Зеленчуку. Их долины разделены хребтом Мысты-Баши (Кислая голова), на котором имеется множество озер, расположенных неподалеку от самого гребня. Гребень Мысты-Баши рассечен четырьмя перевалами, связывающими обе долины: Ауш-Кой, Кызыл-Ауш, Ха-дюка и Халега.
Неповторима краса долины Аксаута. С юга ее замыкают вершины, резкие очертания которых напоминают зигзаги молний, а скалы на фоне льда и снега — словно чернь на серебре. Это — Кара-Кая, Аксаут и Джаловчат. Всего 90—110 м не хватило до четырехкилометровой высоты. На востоке долина Аксаута ограничена высоким хребтом, через который множество перевалов (из них наиболее популярны Алибек, Семидесяти трех, Хутый и Бадук) ведут в Теберду и Домбай. В самой долине сильное впечатление производит небольшой участок очень старого пихтача, сохранившийся в необычной близости от ледника.
Сравнительно с аксаутской долина Марухи бедна лесами. Ее достопримечательностью являются совершенно неожиданные для долинной реки три мощных водопада, которыми она низвергается со скальных уступов. На западе Маруха ограничена хребтом Ужум, рассеченным шестью перевалами (Чигордалп, Бугой-Чат, Ужум-ский, Озерный и др.), ведущими в район Архыза, а в ее верховьях расположен легендарный Марухский перевал. Здесь, на высоте 2739 м, над хаосом ледников, морен и скал сверкает игла обелиска под звездой. На мраморной плите высечена надпись: «Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 808-го, 810-го полков 394-й стрелковой дивизии, 155-й стрелковой бригады, стоявшей насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских захватчиков в 1942—1943 годах». У подножия цветы — рододендроны и крокусы, возложенные проходящими туристскими группами.
Долина Большого Зеленчука в его верховьях разветвляется веерообразно на целый ряд ущелий. Наиболее примечательны из них Архыз, Псыж, София и Кизгич. Весь этот горный район получил название Архыз. Своеобразие этой местности обусловлено тем, что с севера она защищена высоким (3236 м) и длинным хребтом Абишира-Ахуба, параллельным Главному Кавказскому хребту и возвышающимся над долиной Архыза на полтора километра. Он защищает Архыз от холодных северных ветров, приносящих туманы и низкую облачность; поэтому воздух здесь отличается высокой степенью ионизации, а в солнечной радиации значительно богаче представлены коротковолновые — синие, фиолетовые и ультрафиолетовые— лучи, чем в других местностях с той же высотой над уровнем моря. Долина Архыза является одним из рекордных мест по числу солнечных дней в году. Кроме того, в отличие от большинства кавказских долин, простирающихся в меридиональном направлении, она вытянута с востока на запад, благодаря чему в течение дня освещается солнцем от восхода до заката, тогда как другие долины по нескольку часов утром и вечером погружены в сумрачную тень склонов. Расположенный на 100 м выше Теберды, Архыз по своим климатическим достоинствам превосходит не только эту последнюю, но и такие знаменитые высокогорные курорты Западной Европы, как Давос и Арозе. И не случайно гора Пастухова (2734 м), между Архызом и станицей Зеленчукской, была выбрана в качестве площадки для астрофизической обсерватории. Здесь, в специально построенной башне высотой 53 м и диаметром 44 м, был установлен «глаз планеты нашей» — самый большой в мире телескоп, одно зеркало которого весит 42 т и имеет в диаметре 6 м.
По наиболее популярной топонимической гипотезе, название «Архыз» произошло от слияния карачаевских слов «ариу-кыз» (красавица дева) (Есть и более прозаические версии, например, название Ырхыз (от карачаевского ырхы ыз — след селя), свидетельствующее о том, что средневековое ырхызское поселение разрушили лавины и селевые потоки (архы). Возможна и алано-осетинская основа — Арах-хиз (обильное пастбище).). Если это действительно так, то название вполне соответствует этой удивительной местности. Вековые сосновые леса, над которыми белеют снежные шапки гор, водопады, низвергающиеся серебряной лентой с заоблачных скал, уютные поляны, покрытые яркими цветами и огибаемые голубовато-зелеными реками, залитые светом альпийские луга на крутых склонах, пахнущие солнечным теплом и испещренные там и сям темными пятнами хвойных великанов, стоящих небольшими группами, наконец, чистый и прозрачный воздух, сквозь который ландшафт видится словно в уменьшительное стекло,— таков Архыз. Другое его, уже почти позабытое название — Старое Жилище — свидетельствует о приветливом отношении здешней природы к человеку, следы пребывания которого в доисторические времена встречаются в урочище.
В Нижнем Архызе и в соседних ущельях Маруха, Кяфара и Агура археологи нашли изделия из бронзы — кинжалы, топорики и украшения, созданные далекими предками адыгов и абазин в начале первого тысячелетия до новой эры. Обнаруженный в долине Кяфара близ станицы Сторожевой клад (украшения из бронзы, датируемые 900 г. до н. э.) хранится ныне в Эрмитаже.
На пороге нашей эры в горном Закубанье появились кочевые аланские племена, обосновавшиеся также в верховьях Большого Зеленчука,— начался новый большой исторический период освоения этих мест человеком. Но в IV веке на Северный Кавказ вторглись гунны. Они истребили часть алан, других заставили переселиться на Запад Европы: так возникли предпосылки образования аланр-вандальского государства на Пиренейском полуострове. Оставшиеся аланы были оттеснены в глубь гор.
Но к X веку аланские племена, населявшие горы Северного Кавказа от Малой Лабы на Западе до реки Ассы на востоке (нынешняя Чечено-Ингушетия), консолидировались в могущественном царстве. До настоящего времени сохранились, развалины столицы Алании, бывшей также ее экономическим и религиозным центром. Это — Нижне-Архызское городище, расположенное на правом берегу Большого Зеленчука, рядом с поселком астрофизиков.
На двадцать втором километре шоссе, ведущего из станицы Зеленчукской к Архызу, открывается вид на два храма, сохранившиеся от Нижне-Архызского города. Во время раскопок у одного из них был найден бронзовый крест с греческой надписью на нем: имя (по-видимому, священника) Фома и дата 1067 год.
Городище простирается на два с половиной километра. Отчетливо выделяются три улицы, ряд переулков, остатки каменных стен, развалины храмов, жилых домов, хозяйственных построек. Ученые считают, что в 921— 925 годах под влиянием соседней Абхазии, расположенной за перевалами через Главный Кавказский хребет, привилегированные слои аланского общества приняли христианство. Начиная с этого времени стали возводиться храмы в византийском стиле. Считается, что северный храм городища выполнял функции кафедрального собора Аланской епархии. Золотые украшения из этого храма хранятся в Историческом музее в Москве.
К этому же времени относятся первые попытки создания аланской письменности на основе греческого алфавита. Вместе с тем в окрестностях городища при раскопках остатков древнехристианской церкви были найдены две плиты с арабскими надписями и датой, соответствующей 1044 году нашего календаря. Все эти и многочисленные иные находки свидетельствуют о том, что столица Алании находилась как бы в фокусе пересечения различных культур.
Анализ археологических находок, а также византийских, арабских и грузинских литературных памятников привел советскую историческую науку к выводу о том, что расцвет Аланского царства приходился на X—XII века. Установлено, что столица Алании поддерживала интенсивные торговые связи с русскими княжествами, Закавказьем, Византией и Ближним Востоком. Оружие и другие алаиские изделия из железа высоко ценились на всем Кавказе. На территории городища археологи обнаружили мастерскую с уникальным для того времени горном. О высоком мастерстве алан свидетельствуют также художественные достоинства золотых украшений.
Столица Алании была перекрестком важнейших торговых путей. Главный из них вел вверх по Большому Зеленчуку на Санчарский перевал в Псху и далее через перевал Доу в Диоскурию (нынешний Сухуми). Другой поднимался прямо от Ннжне-Архызского города на хребет Ужум и спускался с него в долину Маруха, где также имеются остатки поселения; этот путь вел в Закавказье через Марухский перевал. Третий ответвлялся от Санчарской перевальной дороги в 6 км выше столицы и вел в ущелье реки Кяфар, где при впадении в последнюю речки Кривой сохранились развалины другого крупного аланского города.
В 1222 году Алания была разгромлена полчищами Чингисхана. Часть населения была увезена в рабство, часть покинула страну — десять тысяч алан ушли в Византию, другие поселились в Венгрии. Оставшиеся укрепились в труднодоступных долинах, сохранив свою независимость. Но в 1396 году войска Тимура нанесли окончательный удар по последним очагам аланской свободы. На этот раз монголы добрались до самых верховий Кубани и ее притоков, неся разрушение аланским крепостям и селениям, неволю и смерть их обитателям.
Монгольское нашествие, словно встряхнув калейдоскоп, резко изменило этническую географию этих мест.
Население — аланы и пришедшие сюда в XI— XIII веках кипчаки (половцы) ушли еще глубже в горы — в районы нынешних Карачая, Балкарии и Осетии. В ущелья обоих Зеленчуков, Теберды и Большой Лабы пришли, перейдя через Главный Кавказский хребет, абазины. Опустевшие северные предгорья заняли адыгские и родственные им черкесские и кабардинские племена — потомки местных кавказских племен, живших здесь с глубокой древности.
Аланы и кипчаки сыграли центральную роль в формировании нынешней карачаево-балкарской народности, язык которой относится к тюркской группе. Процесс тюркизации языка кобанско-аланского населения начался с VI—VII веков, когда в горное Закубанье стали проникать тюркоязычные племена (волжские болгары и др.) и завершился проникновением сюда кипчаков. Окончательно карачаево-балкарская народность сложилась к концу XIII века, но еще долго балкарцев и карачаевцев называли аланами. Так, на итальянской карте Кавказа, составленной в XIII веке Ламберти, карачаевские земли именуются Аланией.
В 1802 году майор Кавказской линии Потемкин добрался до верховий Большого Зеленчука в целях установления контактов с горцами. Здесь он сделал зарисовки развалин нижне-архызских храмов, показанных ему абазинами. Эти храмы были известны и жившим ниже по реке черкесам, называвшим их «домами эллинов».
В 1897 году в Архыз прибыл устроитель карантинной линии . Он констатировал следующее распределение пастбищ в верховьях Большого Зеленчука: на водоразделе Аксаута и Маруха — угодья карачаевцев и кабардинцев; между Марухом и Уллу-Инджиком (карачаевское название Большого Зеленчука) скот пасли карачаевцы; между Большим Зеленчуком и Большой Лабой — абазины, кабардинцы, ногайцы. Урочище реки Архыз было центром общения между этими народностями. Через перевалы из Закавказья приходили сюда абхазцы, меняли молочных коз и различные товары на крупный рогатый скот и баранов. Населенных пунктов в долине Архыза в это время не было; Ваганову показали фундаменты старинных зданий, поросшие вековым лесом.

|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



