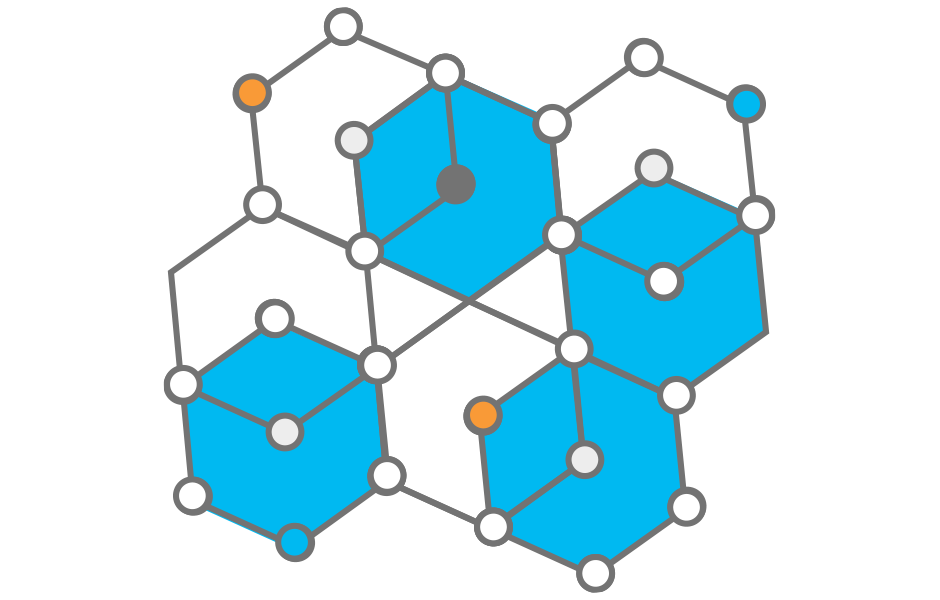ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»
В СОВРЕМЕННОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ*
Проблема «человек – природа» предстает в современной католической философии как часть церковного учения о сотворенном мире, о месте в нем человека и его предназначении – земном и сверхъестественном.
В течение веков католическая философия и теология придерживались статической картины мира. В ней сотворенный Богом человек представал как некое завершенное существо. Ни развитие природы, ни активность самого человека не могли изменить его субстанционально. С другой стороны, познаваемый человеком мир также объявлялся, по сути, неизменным, несмотря на человеческую деятельность. Согласно классическому томизму и неотомизму, Бог установил через естественное право неизменный порядок вещей в том виде, как он был им задуман. При таком подходе все реальное выступало одновременно и божественным, а потому стабильным и неприкосновенным. Всякие попытки изменить объявленные божественными и естественными основы мироустройства автоматически истолковывались Церковью как покушение на «христианский град». Построить же этот град иначе, чем его построил Бог, невозможно без повреждения органично функционирующего мира.
Фома Аквинский, бесспорный авторитет для современных католических философов, в работе «Сумма теологии» трактовал все законы мира как специфические проявления одного – божественного закона. Он выступает как воля Бога и является вечным и неизменным, как и сам Бог. Этому закону, или праву, подчиняются все сотворенные бытия. Однако отношение человека к вечному праву совершенно особое. Как разумное существо, он должен предварительно познать, что требует от него божественное право, и поступить в соответствии с его требованиями. Благодаря наличию сознания и способности к познанию человек как бы «прочитывает» записанное в его природе извечное право Бога. Собственно это право, объективное, но осознанное и воспринятое субъектом, выступает как естественное право – данный Богом порядок существования и развития материального мира и человека. Подобной точки зрения придерживались и создатель первой социальной энциклики «Рерум новарум» (1891) Лев XIII, и возглавлявший Церковь в 30–50-х гг. нашего столетия Папа Пий ХII.
Так называемый динамический взгляд Церкви на мир и человека впервые проявился в энциклике Иоанна ХХIII «Матер эт Магистра» (1961). В этом документе Папа, в отличие от своих предшественников, не только по-новому оценил изменившуюся ситуацию, но и перестроил общие принципы изучения природы и общества, личности и ее деятельности. Кредо Иоанна ХХIII выглядело следующим образом: «Развитие общественной жизни ни в коей мере не осуществляется под нажимом неких слепых сил природы. Оно является результатом деятельности людей, свободных и по природе вещей несущих ответственность за свои поступки» (§ II). Таким образом, Папа – и это было существенным новшеством – уже не говорил о существовании единственных и неизменных, установленных Богом законов природы (проявлявшихся в общем законе естественного права), а признавал и законы общественно-экономического развития, материализующиеся в человеческой деятельности, прежде всего в труде.
Цивилизационный катастрофизм в католическом истолковании
Характеризуя взаимоотношение человека с природой в условиях современной научно-технической цивилизации, официальные документы Ватикана все чаще обращают внимание на различные опасности («катастрофизмы»), вытекающие из нерациональной деятельности человека. Налицо принципиально новое понимание причин цивилизационного кризиса, поскольку ныне Церковь указывает уже не только на естественные или трансцендентные моменты, но и на самого творца научно-технической цивилизации как потенциального ее разрушителя в глобальном масштабе.
Разумеется, не все формы «катастрофизма» в одинаковой мере присутствуют в церковных документах, и это понятно, поскольку это не специальные тексты по глобалистике, даже когда они целиком посвящены данной проблематике. Кроме того, Церковь изначально экспонирует прежде всего те стороны современной цивилизации, которые в той или иной мере непосредственно затрагивают религиозную жизнь и усиливают процесс секуляризации.
Анализируя специфику понтификальных текстов, можно установить следующую типологию «катастрофизмов», имеющих место в католической мысли: I) личностный; 2) термоядерный; 3) демографический; 4) экологический.
Личностный «катастрофизм» как тип понимания цивилизационного кризиса и деформации личности появился в церковной рефлексии, равно как и в светской мысли, уже в начальной стадии формирования научно-технической цивилизации. Папа Пий ХII высказывал сожаление по поводу того, что технический прогресс превращается в конечную цель жизнедеятельности человека и заменяет собою религиозные идеалы. «Видение мира, определяемое духом техники, – утверждал он в рождественском выступлении 1953 г., – содержит в себе основное заблуждение. Человек, слепо верящий в неограниченное всемогущество техники, сам закрывает себя в темнице – хоть и просторной, но замкнутой, пребывание в которой невыносимо для человеческого духа, – ибо взгляд его ограничивается лишь миром материи. Значительный вред причиняет дух техники человеку, поддавшемуся ее чарам, в сфере собственно религиозной, в отношениях с миром трансцендентного. А ведь сама по себе техника, если следовать логике, не требует отказа от религиозных ценностей, это лишь так называемый «дух техники» затрудняет принятие человеком божьей истины».
Проблема угрозы человеческим ценностям со стороны науки и техники получает дальнейшее развитие в период понтификата Иоанна Павла II (1978–2007), находя свое выражение в персоналистической концепции отчуждения человека в мире техники. «Современному человеку, – читаем мы в первой энциклике Папы «Редемптор гоминис» (1979), – постоянно угрожает то, что является его произведением, результатом труда его рук, мыслей, стремления к свободе. Плоды этой многообразной деятельности человека не только и не столько подвержены отчуждению в том смысле, что отбираются у производителя, сколько – по крайней мере частично – косвенно и непосредственно по своим результатам направлены против человека» (§ 15).
Идея термоядерной угрозы («катастрофизма») явственно прослеживается в энцикликах Иоанна ХХIII «Матер эт Магистра» и «Пацем ин террис» (1963), но в еще большей мере – во всех социальных энцикликах Иоанна Павла II. Пессимистически оценивая научно-техническую цивилизацию, Иоанн Павел II отмечает характеризующие современного человека опасения перед «перспективой самоуничтожения при помощи ядерного оружия». Правда, в посланиях Папы драматически выражаемая идея термоядерной угрозы дополняетcя изложением «теологии мира»[1], развиваемой на базе христианской антропологии и христоцентрического гуманизма.
Вопросы демографического и связанного с ним продовольственного кризиса выступают в энцикликах «Матер эт Магистра» и «Гуманэ витэ» (1968) как проблема «взрыва» естественного прироста народонаселения. Признавая остроту этой проблемы, церковные документы тем не менее объявляют их преимущественно следствием кризиса человеческой солидарности и предлагают исключительно морально-теологические рецепты по преодолению последнего. Сознательное планирование семьи, регулирование рождаемости, согласно традиционной и неизменной позиции римской курии, недопустимы, так как это противоречило бы божественному установлению: «Плодитесь и размножайтесь!».
Вопросы экологического кризиса как результата «неаутентичного научно-технического прогресса» появляются в церковных документах позже, чем другие течения «катастрофизма». Относительно целостную характеристику этого явления мы находим в апостольском послании Павла II «Октогезима адвениенс» (1971). «В современном мире, – отмечается там, – можно наблюдать такие изменения, которые являются пагубным и вместе с тем неожиданным следствием деятельности человека. Неожиданно человек сознает, что в результате необдуманного использования природы он вызывает опасность ее уничтожения и что в итоге он сам становится его жертвой» (§ 21).
Мотив угрозы человеческой среде в результате сплошной индустриализации выступает уже как постоянный элемент суждений о научно-технической цивилизации в энцикликах Иоанна Павла II. Эту проблему, входящую в общее течение церковного катастрофическо-экзистенциального восприятия современности, Папа представляет в двух плоскостях: морально-религиозной и социально-экономической. К первой следует отнести выводы, согласно которым неупорядоченная эксплуатация природы проистекает из сиюминутных, эгоистических целей человека – «использования и потребления». Это противоречит миссии, возложенной на человека Богом. Современный человек губит, эгоистически использует природу, «в то время как Творец желал, – отмечается в энциклике «Редемптор гоминис», – чтобы человек общался с природой как ее разумный господин и страж, а не абсолютный эксплуататор» (§ 15).
В социально-экономической плоскости Иоанн Павел II связывает экологический кризис с существованием «структур и механизмов», которые растранжиривают в ускоренном темпе материальные и энергетические ресурсы, разрушают естественную среду, «увеличивая размеры бедствий». Таким образом, в католический доктрине появляется мысль, что не только нравственные изменения и религиозно-духовное обновление, но и преобразование экономических структур является условием устранения грядущих и нынешних несчастий.
Указывая на естественные причины негативных последствий взаимоотношения человека с природой, Церковь тем не менее отмечает, что исследование данной сферы – прежде всего удел ученых. Сфера сугубо религиозной рефлексии по данному вопросу распространяется на осмысление его в качестве морально-теологической проблемы. В связи с этим на первое место в католической философии выдвигаются такие вопросы, как библейско-моральное обоснование единства человека и окружающей его среды; трактовка охраны этой среды в качестве проявления современной аскезы; выявление несоциальных факторов, обусловивших кризисную ситуацию в области отношений человека и природы; выработка соответствующих норм для «христианской этики хозяйственной жизни» и формирование глобального христианского экологического сознания.
Экологический вызов для моральной рефлексии
Одной из фундаментальных задач, поставленных перед Церковью II Ватиканским собором (1962–1965), является изучение «знамений времени», под которыми понимаются все явления общественной жизни, истолкованные в свете Евангелия. Как отмечается в соборной пастырской конституции «О Церкви в современном мире”, «задачей всего Божьего Народа, особенно пастырей и теологов, является вслушивание при помощи Духа Святого в разнообразные голоса современности; необходимо различать и выделять их, предварительно осмысливая в свете Слова Божьего, дабы Истина Откровения представала более доступной и глубокой» (§ 44). Сквозь призму указанной миссии католические философы и стремятся рассматривать проблему «человек – природа», получившую у II название «религиозно-этической экологической проблемы»[2].
В широком смысле трактовка экологии и естественной среды в католицизме совпадает с общепринятой. Экология, как разъясняет немецкий теолог А. Ауэр, есть учение о «доме», каковым является мир; поскольку эта наука развивается человеком ради человека, она должна иметь своим предметом разнообразные и необходимые условия существования человека в этом «доме»[3]. Под естественной средой этот автор подразумевает «совокупность человеческих условий бытия, а не только «первую натуру»; естественная среда складывается также и из созданного самим человеком жизненного пространства»[4].
Согласно современной католической концепции, «дом» не просто дан человеку Творцом, но и задан ему для дальнейшей цивилизационной деятельности по разумному преобразованию естественной среды. К сожалению, своей цивилизационной активностью человек вызвал множество негативных последствий. Обогатив естественную среду многими несуществующими в природе вещами, он при этом лишил ее изначальной гармонии и первозданных элементов, необходимых для жизни: чистой воды, чистого воздуха, незараженной почвы и т. д. Указанные же «элементы» обусловливают нормальную жизнь человека как вида, качество существования его на Земле. Именно в этом контексте Иоанн Павел II говорит о «страдании Земли»[5], перерастающем в свою очередь в страдания человека; экологическая проблема в данном случае становится этической и выступает как «огромный вызов для моралистов»[6].
Ведущие католические специалисты в области моральной теологии признают, что они не были готовы к появлению «экологической проблемы», а потому в истолковании соотношения человек – естественная среда в католической этике образовался своеобразный вакуум. Лавинообразное протекание негативных экологических процессов в определенном смысле застало врасплох как светских, так и религиозных аксиологов. В результате даже в тех обществах, где естественная среда разрушается особенно интенсивно, не хватило времени для выработки и распространения соответствующих моральных идей и принципов поведения.
Не предпринятая своевременно религиозная и философско-этическая рефлексия обусловила «ситуацию запаздывания» нравственного сознания по отношению к инициативам по охране окружающей среды, предпринимаемым по линии законодательства, здравоохранения и т. д. Короче, мышление в утилитарных категориях опередило голос совести и нравственного чувства ответственности. «Нередко человек забывает об ином назначении своей естественной среды, кроме того, которое служит целям бренной жизни и потребления, – отмечает в этой связи Иоанн Павел II в энциклике «Редемптор гоминис». Развитие же техники и обусловленное им развитие современной цивилизации требуют соответствующего пропорционального развития нравственности и этики. В то же время развитие последней, к сожалению, постоянно отстает от развития техники. Возникающее на этой основе беспокойство сводится к следующему: делает ли указанный прогресс, автором которого является человек, саму человеческую жизнь более человеческой, более достойной человека? Без сомнения, с определенной точки зрения, да. Однако становится ли в целом в контексте этого прогресса человек лучше, духовно богаче, человеком, сознающим достоинство своей человеческой сущности, более ответственным?.. Рассматривая эти процессы и участвуя в них, мы не можем впадать в эйфорию, а должны с чувством моральной ответственности ставить вопросы, связанные с ситуацией человека в сегодняшней и в дальнейшей перспективе. Так все ли достижения техники идут в паре с прогрессом этики и духовным прогрессом человека? И движется ли в своем развитии человек вперед или же деградирует? Растет ли в человеке, который сам является миром нравственного добра и зла, первый или второй элемент этого мира?» (§ 15).
Естественная среда всегда соотносится католическими теологами и философами с человеком как венцом божьего дела творения. Как утверждает профессор Люблинского католического университета Б. Юрчик, уже первая «заповедь», которую человек получил в рае от Бога, носила «экологический характер» и касалась «его присутствия в естественной среде»[7]. Теолог в данном случае имеет в виду обращение Бога к сотворенным им Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 28–29). Следовательно, необходимость трактовать человека и естественную среду в их единстве и взаимозависимости вытекает не только из разработок современных естествоиспытателей и обществоведов, но и из библейско-теологической рефлексии.
Тезис о единстве человека и естественной среды нашел признание и отражение в официальном социальном учении Церкви уже в начале 70-х гг. Примером этого могут служить слова Павла VI, обращенные к участникам Стокгольмской конференции по вопросам экологии (1972): «Появилось осознание того, что человек и его среда сегодня более взаимосвязаны, чем когда бы то ни было. Естественная среда составляет основу жизни и развития человека. Последний в свою очередь совершенствует и облагораживает среду своим присутствием, созерцанием и трудом… Таким образом, человек и природа связаны друг с другом и должны разделять свою общую бренную судьбу»[8].
Во взаимосвязи и взаимозависимости человека и естественной среды теологи выделяют три сферы: созерцание (контемпляция), симбиоз и труд.
Созерцание в католицизме есть выражение активности духовных способностей человека, т. е. познавательных, волевых и эстетических, благодаря которым он (опять-таки через природу) реализует свою заданную Богом устремленность к истине, добру и красоте. Созерцание, по образному высказыванию Павла VI, есть самый экологический способ взаимодействия человека со средой, так как оно выражается в «познании и любовании» гармоничным миром без какого-либо повреждения его.
Сфера симбиоза человека и природы касается тех укладов, от которых зависит состояние биологического и психического здоровья человека. Вслед за учеными-естествоиспытателями современные теологи и религиозные философы отмечают, что человек не может жить иначе, как в симбиозе со средой, из которой он черпает все необходимое для своего существования. Необходимость питаться, одеваться и строить жилища для все большего числа людей обусловливает глубокое, а нередко и радикальное преобразование биологической среды, в которой человек призван жить. Это вызывает нарушение зыбкого равновесия отдельных экосистем в целостном комплексе биосферы. В результате человек получает все меньше биологических веществ, необходимых для здоровья, к тому же во все более несбалансированных пропорциях.
Естественная среда представляет собой также и основное место реализации человеческого призвания к труду. Выводя человеческий труд из тайны сотворения, теологи утверждают: всякий труд включает в себя средства и богатства видимого мира, которые человек получает изначально, хотя и не творит их. «Среда, – отмечается в документе «Позиция Апостольской Столицы по вопросу охраны естественной среды», – многое дает человеку, однако и он со своей стороны воздает ей не только действием уничтожения, но и – прежде всего изначально – раскрывает содержащиеся в ней потенциальные возможности, организует, систематизирует и гуманизирует их. Лучше всего этот аспект выражает понятие «качество среды»[9].
Представленная выше картина свидетельствует о специфике католического понимания гармоничного взаимоотношения человека и естественной среды. Всякая односторонность угрожает нарушением естественного равновесия и в конечном итоге может угрожать человеческой жизни. Именно в силу того, что человеческая личность наделена от Бога духовным элементом, она призвана к ответственности за сохранение экологического равновесия. Таким образом, возникает вопрос о парадигме человеческого отношения к естественной среде. Опуская пока ответ Церкви на этот вопрос (мы вернемся к нему позже), отметим здесь лишь то, что он имеет прежде всего моральный характер. Ибо, согласно официальному документу Иоанна Павла II, в своем отношении к видимой природе «мы связаны не только биологическими законами, но и законами морали, которые нельзя преступать безнаказанно»[10].
Как утверждают католические теологи и философы, реальное господство технико-экономических концепций развития современной цивилизации уже привело к радикальному нарушению гармоничного соотношения человек – естественная среда. Место созерцания заняли безразличие и пренебрежительное отношение к природе, видение ее исключительно в утилитарных категориях. Наблюдаются попытки заменить естественный симбиоз представлением о неограниченных адаптационных возможностях человека как вида; «естественное поле труда человека» переросло в хаотичную и грабительскую эксплуатацию природных богатств. Творческая деятельность человека в сферах промышленности, коммуникаций, сельского хозяйства, а также вооружений в значительной мере оказалась деструктивной для естественной среды.
Католические философы, признавая, что они запоздали с морально-религиозным осмыслением «экологического вызова», отмечают, что импульсом для церковных разработок по данному вопросу послужили обнародованные в 60-х гг. отчеты ООН и Римского клуба. Своеобразной реакцией на эти документы можно считать энциклику предшественника нынешнего Понтифика Папы Павла VI «Популорум прогрессио» (1967), в которой выделялись возможные негативные последствия для общества так называемого «технократического видения мира». «Если армия технократов победит в ближайшем будущем, – отмечал в своей энциклике Павел II, – то это может принести не меньше бед, чем принес в свое время либерализм. Ибо экономика и техника лишатся всякого смысла, если они будут отторгнуты от идеи блага человека, которому собственно и должны служить указанные сферы» (§ 34). Экологическую угрозу, указывал Папа, смогут отвести «не столько техники и технологи, сколько люди мудрые, находящиеся в поиске нового гуманизма» (§ 29).
В уже упоминавшемся документе «Позиция Апостольской Столицы по вопросу охраны естественной среды» появился новый элемент в экологической рефлексии Церкви: в нем обращалось внимание на нарушение экологического равновесия, которое в свою очередь обусловливает нарушение биологических циклов, отчуждение человека от биосферы и обеднение его из-за исчерпания ресурсов нашей планеты. В данном документе Церковь указывает на основные социально-нравственные принципы, которыми должны руководствоваться люди в деятельности по охране окружающей среды:
– естественную среду необходимо понимать не только как основу биологической и экономической жизни, но и как основу жизни духовной;
– естественная среда является общим достоянием всех обитателей Земли, и никто не может трактовать ее как « res nullius» («ничью собственность»), это – «res comnimum» («собственность всех»), достояние всего человечества.
– важным фактором сохранения человеческого рода является экологическое равновесие, оно необходимо не только для равномерного экономического развития, но и для личностного и социального развития человека.
Не подлежит сомнению, утверждают католические философы, что в центре экологической проблематики сегодня находится угроза праву человека на жизнь в здоровой среде. На страже этого права Бог поставил свою заповедь «Не убий!». И хотя вопросы охраны жизни человека, его здоровья, особенно в экологической перспективе, относятся ко всему комплексу научных дисциплин, особую роль они приобретают в сфере морали. Именно последняя должна теоретически сформулировать и практически представить парадигму таких экологических установок, которые учитывали бы названную выше заповедь.
Католические философы признают ценность поисков в направлении оздоровления окружающей среды, идущих в различных направлениях, – научном, технологическом («чистые технологии»), политическом («экополитика»). Однако, по их мнению, коль скоро в центре экологической проблематики стоит человек не только как высшая ценность, но и как субъект всякого «экологического поступка», то особую роль в этих спасительных поисках должны выполнить дисциплины, исследующие сферу нравственности – этика и моральная теология. Ибо именно эти дисциплины вскрывают и уточняют основы и принципы человеческой деятельности, причем, согласно католическому учению, как при помощи врожденных познавательных способностей, так и посредством «света Откровения».
Традиционно занимающиеся проблемами нравственности дисциплины – католическая этика и моральная теология – различаются как по объекту исследования, так и по своим источникам. Католическая этика, как философская дисциплина, хотя и претендует на вневременной характер, тем не менее ориентируется на межчеловеческие отношения, рассматривает возможностъ достижения «естественных целей» (земного счастья), а посему базируется на данных разума и естественных путях познания. Определяющим признаком этики является ее антропоцентризм (человек в центре мира): это – «этика человека», бытие которого осуществляется в естественной среде.
Теоцентристски (Бог в центре мира) ориентированная моральная теология, абстрагирующаяся от сугубо «бренной» деятельности людей, рассматривает человеческие поступки исключительно в их отношении к сверхъестественной цели. В отличие от этики моральная теология претендует на то, что она зиждется на Откровении; это – «этика христианина».
Помимо моральной теологии и этики, вопросы нравственности в католицизме в той или иной степени затрагиваются в каноническом праве, в аскетической теологии, а также в мистической теологии. В частности, аскетическая теология интерпретируется как более совершенная форма теологии. Она не ограничивается предписаниями и моральными нормами, обязательными для рядового верующего, а предъявляет к избранным дополнительные требования с целью достижения ими христианского совершенства, в том числе, как мы увидим далее, и через отношение к естественной среде.
Итак, прежде всего двум названным дисциплинам – философской этике и моральной теологии – по убеждению католических философов, «дана» и «задана» человеческая личность в своем поведении и деятельности. Конкретизируя это положение, они отмечают, что этика и моральная теология имеют своей целью выработку общих принципов и специфики человеческого поведения в отношении естественной среды таким образом, чтобы каждое «экологическое действие» служило сохранению необходимого равновесия между субъектом и объектом (природой/. Вот как, например, говорит о данной проблеме современный католический философ Ж.-М. Аубер: «Почти неограниченные технические возможности делают особо актуальными этические изыскания: может ли человек это делать и должен ли он это делать? Есть ли в этом необходимость? Будет ли от этого польза, а если будет – то для кого? Кто в итоге должен давать ответы на эти вопросы и принимать решения о выборе путей деятельности и ее последствиях? И, наконец, кто будет решать и нести ответственность за то человечество, которое мы будем иметь завтра?»[11].
Примат морального фактора при решении экологических проблем мы постоянно обнаруживаем в творчестве и в официальных заявлениях римских пап. В связи с этим встает вопрос: какие существенные моменты ставятся во главу угла в католической этической рефлексии применительно к экологической проблематике?
Католические философы и теологи называют немало факторов, обусловивших нынешнюю кризисную ситуацию в сфере отношения человек – природа, однако на первое место ставят «участие человека в тайне греха». Проявления экологического кризиса рассматриваются как новые формы зла и греха, в которые вовлечен современный человек. «Экологическое зло» порождают личности и общности, пораженные грехом обладания, гордыни и эгоизма. Иоанн Павел II в Апостольской адортации «О единении и покаянии в современной Церкви» указывает в этой связи на «грех против всего сотворенного» и говорит о необходимости единения человека с Богом, с самим собой и с ближними, а также со всем сотворенным миром. Этот грех, по мнению Иоанна Павла II, является прежде всего результатом отвержения человеком Бога: «Поскольку из-за этого греха человек выходит из повиновения Богу, го в результате оказывается нарушенным и его внутреннее равновесие, в самом человеке возникают противоречия и конфликты. Пораженный таким образом человек постоянно нарушает ткань, соединяющую его с другими людьми и с сотворенным миром»[12]. Следовательно, аутентичное понимание экологической проблематики не может абстрагироваться от трансцендентного, оно с необходимостью предполагает обращение к Богу и единение с ним.
В качестве второго фактора морально-экологической рефлексии в современном католицизме выступает такое явление, как утрата естественного чувстве ответственности за судьбы мира. Заповеданное человеку Творцом господство над сотворенным миром не означает ни абсолютной власти, ни неограниченной свободы использования либо распоряжения благами. «В экологической сфере, – указывает нынешний Понтифик, – существует насущная потребность в формировании позиции экологической ответственности: ответственности в отношении самого себя, ответственности в отношении других и ответственности в отношении среды. Формирование такой позиции не может основываться только на человеческих чувствах или на каких-то амбициях, на каких-либо идеологических или политических целях. В его основе не может быть отрицание современного мира либо иллюзорная мечта о возврате к утраченному раю. Подлинное формирование ответственной позиции требует подлинного обращения к Богу в способе мышления и поведения»[13].
Третий фактор экологического кризиса, получающий этическую оценку Церкви, находит выражение в несоблюдении необходимой иерархии ценностей. Католические философы и теологи отмечают, что, как правило, в современном обществе первенство получают ценности экономического, технологического и институционального характера. Обычно общественные, экономические и политические системы придерживаются определенных аксиологических принципов, за которыми всегда кроется конкретное видение человека и общества. Следовательно, экологический кризис также, если не прежде всего, является кризисом истинной иерархии ценностей. Эта оценка находит подтверждение в послании II по случаю ХХIII Всемирного Дня Мира (1985). Папа утверждает в нем, что-»современное общество не найдет решения экологического вопроса, если серьезно не пересмотрит свой стиль жизни. Во многих местах мира оно подвержено духу гедонизма и потребления и не думает об их пагубных последствиях... Сдержанность и умеренность, внутренняя дисциплина и дух жертвенности должны господствовать в повседневной жизни, чтобы большинство не ощущало негативных последствий из-за беспечности немногих»[14].
Непризнание ценности естественной среды – четвертый фактор экологического кризиса, связанного с деятельностью человека. С этим фактором связано и такое явление, как непризнание относительной автономии этой среды. Место блага, красоты и истины у человека в его новейшей истории постоянно занимают такие факторы, как прогресс, благосостояние, рациональное знание, технизация, урбанизация, светский гуманизм. Подчеркивая данный момент в энциклике «Соллицитудо реи социалис» (1988), Иоанн Павел II отмечает, что «моральный характер развития не может также не учитывать необходимость уважительного отношения к бытиям, составляющим видимую природу» (§ 34). Такого отношения Церковь требует не только из-за ограниченности естественных ресурсов и необходимости сберечь их для будущих поколений, из-за реальной опасности для здоровья и жизни людей, их морального права на соответствующие условия жизни и развития, но и по причине учета ценности (самоценности) каждого отдельного сотворенного Богом бытия, животного или растения, их взаимосвязи и взаимозависимости в виде упорядоченной системы естественной среды человека.
Согласно современному учению католической Церкви, экологическая проблематика имплицирует этическую проблематику, причем как в ее философском, так и в теологическом измерениях. Дело в том. что речь здесь всегда идет о человеке как субъекте, а косвенно – и объекте экологических преобразований. Поэтому принципы позитивной деятельности человека и его богоданного достоинства выступают как ключевые моменты моральной рефлексии по проблематике естественной среды.
Католические этики утверждают, что развитие современной цивилизации длительное время базировалось, да и сейчас еще базируется, на ошибочкой, односторонней интерпретации положения человека в мире, положения, определенного его «господствующей ролью в мире бытий». Во многих случаях загрязнение либо полное уничтожение среды явилось результатом восприятия ложного мировоззрения, формировавшего пренебрежительное отношение к отдельному человеку. Утрачивая чувство своей субъективности в отношении естественной среды, человек привел одновременно к деградации и все его окружающее. Принижая, даже неосознанно, свое достоинство, он принизил тем самым и среду до роли большой «свалки». Поэтому, заключают католические этики и теологи, моральное решение экологического вопроса должно найти свое окончательное выражение в одновременном решении «антропологического вопроса», прежде всего, в восстановлении чувства подлинного достоинства у человека, сотворенного по образу и подобию Бога.
Направления моральных нормообразований
Что же, однако, представляют собой разнообразные попытки церковных и околоцерковных авторов, имеющие своей целью формирование христианской экологической морали? Следует отметить, что речь идет именно о попытках, а не о сложившихся схемах либо же учениях. Данные попытки осуществляется как с философско-этических, так и с теолого-моральных позиций. Правда, в настоящее время большинство католических авторов, специализирующихся на экологической проблематике, исходят из того, что церковное учение должно учитывать как философско-этические, так и библейско-теологические основы. Однако, как утверждает немецкий теолог А. Ауэр, до интегрального истолкования этих двух измерений моральной рефлексии относительно экологической проблематики еще далеко. Нельзя также не видеть и различий в философских подходах при построении экологической этики. Указанная разнородность находит свое выражение в существующем сегодня в католической Церкви философском (но не теологическом) плюрализме, когда различные католические авторы в качестве теоретической основы выбирают кто неотомизм, кто тейярдизм, христианский спиритуализм и т. д.
После высказанных замечаний попытаемся теперь представить те направления формирования моральных норм применительно к экологической проблематике, которые образуются светскими неконфессиональными и католическими авторами и которые ныне в той или иной мере ассимиллируются официальной Церковью.
Прежде всего в центре внимания католических авторов в этом плане оказалась «этика почитания жизни» Альберта Швейцера. Как известно, А. Швейцер исходил из тезиса, согласно которому человек наиболее непосредственно переживает опыт, выражающийся в суждении: «Я – жизнь, стремящаяся жить среди жизни, которая жаждет жить». Почитание жизни, по убеждению А. Швейцера, – это основной моральный принцип, опытно осознанный и принимаемый обществом; он в равной мере может оздоровить межчеловеческие отношения и стать основой экологической этики. Недостатком концепции Швейцера, по мнению католических философов и теологов, является лишь то, что мыслитель не пытался выработать на ее основе какие-либо частные нормы, прежде всего правила разрешения конфликтных и кризисных ситуаций.
Очень импонирует католическим теоретикам близкая идее А. Швейцера концепция немецкого неконфессионального философа Эриха Кадлеца. На место традиционной этики как этики человека (Humanethik) он ставит этику природы (nature thik), которая устанавливает ответственность человека в отношении растений и животных. Основной принцип этой этики звучит так: «Соблюдай естественный порядок (гармонию), никогда не причиняй без необходимости какого-либо ущерба другому созданию»[15].
Католические варианты «христианской этики естественной среды», как уже отмечалось ранее, проявляются в творчестве различных авторов по-разному. Проследим, какую форму она принимает в творчестве двух польских теологов – Т. Слипко и Е. Гжешицы и немецкого – А. Ауэра.
Свою этику среды (философскую по своему характеру) Т. Слипко базирует на постулате, согласно которому субъектом этой этики является не природа, а человек, понимаемый как личность, сущность которой определяется единством духовного и материального элементов. Духовное измерение человеческой природы выступает основанием ее морального измерения, устремленного к трансцендентным целям. Природа выполняет роль средства, служащего реализации нравственного совершенства личности, благодаря чему и природа получает доступ к «участию» в достоинстве человека – в определенном смысле она тоже «гуманизируется». Отмежевываясь от инклюзионистских (открытых, широких) и эксклюзионистских (замкнутых, узких) трактовок, Т. Слипко выражает отношение человека к природе в парадигме «примата», или «приоритета человека перед природой». После принятия таких антропологических предпосылок он осуществляет необходимое нормообразование, которое базируется у него на истине, добре (благе) и красоте – принципах, которые «глубоко проникают в сущность всех бытий». Эти принципы пронизывают уже упоминавшиеся ранее три сферы взаимоотношений человека и природы: созерцание, симбиоз и труд. Аналоги этих корреляций сходятся в сфере морали и функционируют в ней как объекты прав и обязанностей человека. Последний обладает правом созерцать природу, сохранять ее в состоянии, необходимом для поддержания соответствующих условий жизни и для творческого преобразования естественной среды. Обладая этими правами, человек в то же время несет и моральные обязанности. Кроме этих общих положений, Т. Слипко, однако, не формулирует каких-либо конкретных деонтологических предложений.
В отличие от священника Т. Слипко, базирующего свою этику естественной среды на философских аргументах, Е. Гжешица при построении своей концепции ориентируется на теологию. Теологические основания концепции этого автора выглядят следующим образом: творческий акт Бога, христоцентрическое измерение мира и его эсхатологическая направленность.
Основываясь не принципах этического персонализма, равно как и на теологическом понимании интегральной связи человека со средой, Гжешица формулирует главный принцип экологической этики как абсолютную обязанность совершения актов, имеющих своей целью охрану естественной среды человека, как выражение принципа достоинства личности. Если же учесть, что христианское восприятие личностью личности базируется на принципе любви, то можно заключить, что в основе сконструированной таким образом экологической этики находится данная свыше любовь к ближнему, признание его достоинства и вытекающих из него прав.
Предлагаемая Альфонсом Ауэром концепция этики естественной среды состоит из двух частей. Первая, имеющая философский характер, представляет собой модель экологического этоса. Она отличается антропологической направленностью, выражается в поисках личностной идентичности, в солидарности с другими людьми и в соответствующем использовании жизненного пространства. В другой части, теологической по своему характеру, Ауэр рассуждает о значении христианской веры для экологического этоса. Он затрагивает проблемы теологии сотворения и его смысла, человеческого бунта в отношении творческой и искупительной воли Бога. В итоге автор предлагает новый этос, построенный на библейско-теологическом фундаменте, который сводится единственно к подчеркиванию роли веры, надежды и любви в христианской экологической позиции.
Воззрения всех вышеупомянутых авторов находятся в русле христианской этики, сам способ мышления так или иначе имеет связь с моральной теологией, а потому и выводы не столь уж существенно и различаются. То, что Т. Слипко называет парадигмой примата человека над природой, не противоречит антропологической установке А. Ауэра, его ориентации на природу самого человека. Основной принцип экологической этики, который Е. Гжешица базирует на любви как принципе восприятия личности личностью, может быть дополнен как созерцанием, симбиозом и трудом (Слипко), так и принципами свободы, солидарности и ответственности за среду (Ауэр).
И тем не менее возникает вопрос о собственно христианском характере такой этики. В какой степени она учитывает суть христианского учения и каким образом мотивирует именно христианское отношение к среде. Т. Слипко утверждает в своей статье «Основы этики естественной среды», что в слове «этика» у него раскрывается моральная сторона поведения человека в отношении окружающей среды исключительно с философской точки зрения[16]. Это значит, что он абстрагируется (разумеется, лишь в данной статье) от религиозных и теологических компонентов этой проблемы (например, что об этих вопросах говорят Библия и римские папы/. В дальнейшей части своих рассуждений он привлекает антропологические аргументы для обоснования христианской этики среды, причисляя к ним единство нематериального (духовного) элемента с материальным (телесным/, а также положение о том, что духовное измерение природы обусловливает ее моральное измерение. И тем не менее без ответа остается вопрос: что это – то ли это основы христианской экологической этики или же это просто этика, понятая в границах опыта и рациональных принципов?
Без ответа остаются и многие другие вопросы. Например, как теолог-моралист должен относиться к философской этике естественной среды? Как соединить описание экологического кризиса с библейско-теологической картиной мира? Какую роль может сыграть христианская вера, ее критическая и инспирирующая функции в деле преодоления современного экологического кризиса?
Представленные нами направления нормообразований в экологической сфере демонстрируют в основном формальную разнородность позиций католических авторов. Более существенный недостаток всех этих направлений проявляется прежде всего в отсутствии каких-либо конкретных деонтологических рекомендаций, что можно объяснить тем, что католическая моральная рефлексия экологической проблематики находится, по сути, еще в начальной фазе.
Теологический аспект проблемы
В своих морально-теологических исследованиях по экологической проблематике католические авторы не забывают и о теологических основах ангажированности христианина в мире. Они исходят из тезиса, согласно которому христианин становится подлинно компетентным там, где способ его деятельности не противоречит догматическим основам учения Церкви о человеке и его активности.
II Ватиканский собор, говоря о человеческой активности в мире, употребил различение между «возрастанием Царства Христова» и земным прогрессом, между порядком «Божьей милости и человеческой активностью»[17] Отцы Собора не хотели жестко разделять указанные сферы, противопоставлять «земное» и «небесное», поэтому в декрете «Об апостольстве мирян» мы можем прочитать ставшие уже классическими слова: «Христово дело искупления, имеющее своей целью спасение людей, охватывает также обновление всего бренного порядка. В силу этого назначение Церкви состоит не только в передаче людям евангельского послания Христа и Его милости, но и в наполнении и совершенствовании в евангельском духе повседневных дел» (§ 5). Об этом же говорит и энциклика Иоанна Павла II «Редемптор гоминис» (§ 14).
Развитие учения II Ватиканского собора в современном католицизме осуществляется двумя путями – эссенциалъным (лат. “эссе” – бытие) и персоналистическим. Первое направление подчеркивает связь Христа с человеческой природой. Природа человека понимается как определенная целостность, как идея, в которой участвуют все люди. Новое творение означает обновление природы посредством действия божественной милости, позволяющей человеку приобщиться к божественному действию Отца в единстве с Иисусом Христом и Духом Святым. Процесс духовного восполнения человеческой природы верифицируется в религиозной жизни, в этических, политических и культурных ценностях. Естественная среда как жизненное пространство человека рассматривается при этом как одна из основных ценностей.
Персоналистическое направление стремится выразить эти же самые идеи посредством открытости человеческой личности к Богу и к реальному миру. По мнению представителей этого направления, человек как личностное бытие был создан для развития, осуществляющегося благодаря социально-культурной активности. Он предназначен для самостановления в духовной жизни и в любви. Предназначение как вызов и ответ создают таким образом цикл постоянного обновления человека, который реализует себя во времени, интегрируя различные элементы – телесный, среды, социальные и духовные. Являясь разумным бытием, свободным и способным любить, человек продолжает дело Творца, вовсе не являющегося соперником человека. Подлинно аутентичная деятельность человека в мире, через общение и преобразование, всегда является поиском и последующим принятием Божьего плана.
Охрана окружающей среды как проявление аскезы
Важным компонентом церковного социального учения в последние годы стала трактовка охраны окружающей среды как проявления аскезы.
Понятие аскезы в христианстве тесно связано с понятием духовной и религиозно-нравственной жизни. В наиболее общем значении аскеза здесь означает духовные и моральные акты, имеющие своей целью достижение нравственной жизни на пути к гармоничному единению с Богом. Конкретнее, аскеза необходима для достижения как внутренней духовной интеграции, так и единства с внешний миром.
Католическая теология подразделяет аскезу на «негативную» и «позитивную». Аскеза в первом значении выражается в борьбе со всем дурным в человеке, сегодня она нередко обозначается как «экология души»; аскеза в другой значении понимается как борьба за внешнее добро, за осуществление нравственно-религиозного идеала в мире.
Уже в первые века в христианстве проявились два варианта, или пути, аскетизма. Первый заключался в полном «отрицании» мира, в уходе от него в пустынные, безлюдные места. На этой основе начинает формироваться «аскетическая жизнь» в монастической форме. Ее сторонники делали своей программой «заботу о вечности», в силу чего главное внимание уделяли борьбе с различного рода земными искушениями. Второй путь выражался в пренебрежительном отношении к своей человеческой природе. Полное презрение к телу и к миру зародилось на основе платоновской философии с ее представлением о душе как узнице тела. Поэтому сторонники этого направления и стремились к ее «освобождению». Их аскетизм зачастую принимал форму тяжелых добровольных мучений. Сторонники этого направления вошли в историю христианства своими бессмысленными рекордами: кто, например, дольше сможет обходиться без пищи, сна, общения с другими людьми («молчальники»); верха абсурда в этом соревновании достигли «столпники» («столпничество» – разновидность христианского аскетизма, состоявшая в том, что подвижник добровольно обрекал себя на длительное изолированное пребывание в любое время дня и ночи на открытой площадке, сооруженной на столбе).
Со временем монастическая жизнь превратилась в монастырскую жизнь со своими определенными правилами. Еще в раннем средневековье в этой среде возникло убеждение в том, что стремление к совершенству, к «глубокой внутренней жизни» возможно лишь для избравших путь монастырской жизни. Отсюда – негативное отношение к пораженному грехом миру как символу зла и испорченности.
Внешний фактор – процесс секуляризации, а также фактор внутренний – усиление «либеральных» тенденций в католицизме – обусловили уменьшение роли аскетизма в жизни Церкви. Однако и сегодня аскетизм, образно выражаясь, вовсе не пребывает на задворках церковных идей и церковной практики. Почему это возможно в век, когда человек во все большей мере овладевает законами природы и стремится сделать свою жизнь полнее и разнообразнее? Ведь аскетизм в том или ином проявлении отрицает необходимость самих усилий по улучшению благосостояния, комфорта, других благ, обретаемых в процессе взаимодействия человека с природой?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к современному толкованию сущности так называемой «внутренней жизни» христианина и самого смысла аскетизма.
Одним из аспектов «внутренней жизни» христианина является понятие совершенствования. Оно заключается в любви к Богу и к ближнему. Человек считается совершенным в той мере, в какой он проявляет эту любовь.
Соборные и особенно послесоборные документы утверждают, что современная теология является не только учением о Боге, но и теологической антропологией, или учением о человеке, искупленном жертвой Христа. Эта антропология утверждает, что природа человека обусловливает его «недостаточность» – бытие человека случайно и ограничено. Сознавая неполноту своего бытия, человек должен преодолевать ее, как бы восполнять определенным взаимодействием с природой, т. е. трудом.
Христианская жизнь, понятая как жизнь в любви к Богу и человеку, с необходимостью предполагает и аскетизм, именуемый аскетизмом повседневной жизни. Каждый человек, живя в конкретных условиях современного мира, обязан преодолеть все тяготы реального бытия. Речь, в понимании теологов, идет об искусственно созданных тяготах, вызванных потребительской культурой: стремление к удобствам во всем, лень, жажда удовольствий и т. д. Для преодоления этих пороков необходимы жизненная дисциплина, добровольный отказ от многих вещей, самоограничение и формирование в самом себе определенных качеств. Результатом осуществления подобных требований станет достижение как собственной духовной полноты, так и непричинение какого-либо ущерба всему, что окружает человека.
Осознание масштабов экологической угрозы способствовало теоретическим разработкам по выявлению «защитной роли» в отношении среды отдельных аскетических установок. На первый план в этом смысле выдвинулась уже упоминавшаяся выше, воспринятая из других систем установка почитания, или добродетель почитания, всего сотворенного бытия. Это означает, что всякое вмешательство человека в сферу личности, общества и даже космоса должно характеризоваться «теологической подчиненностью». Это, по убеждению теологов, предохраняет от массового прагматизма и утилитаризма, которые не имеют ничего общего с библейским призывом Бога к преобразованию мира («И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте...»).
Следующий постулат морально-аскетического характера – это мужество. Человек проявлял его уже тогда, когда на заре своей истории оказывал сопротивление силам природы. Сегодня он должен проявлять еще большую смелость, дабы, осуществляя прогресс в доступном ему видимом мире, не поддаться инстинкту разрушения и в то же время поддержать окружающую среду в хорошем состоянии. Французский теолог назвал эту позицию «послушанием в отношении объективной закономерности материального мира»[18].
В условиях экологической угрозы человеку должны быть присущи две парадоксально взаимосвязанные характеристики – свобода и самоограничение. Свобода является смыслом «демиургических» действий человека. Благодаря ей человек постепенно освобождается от абсолютной (первоначально) зависимости от природы. В процессе преобразования мира человек убеждается в наличии своей свободы в той мере, в какой ему удается установить свое господство над природой. Однако чем больше эта доминация, тем большей угрозе подвергается человеческая свобода – наступает ситуация «обратного действия» – возможность поражения от своего же произведения. Здесь появляется постулат ограничения, или аскеза потребления, имеющая своей целью оградить от угрозы саму свободу. Но постулат аскезы необходимо также распространить на производство благ, предметов, особенно вредных для здоровья. Здесь как бы вступает в силу сформулированный апостолом Павлом принцип, согласно которому «человек может все, но не все ему можно», поскольку доминация над материей имеет внутренние, морально-аскетические границы. Это не означает отрицания прогресса, но означает обязанность воздержания с тем, чтобы суметь нивелировать нарастающую угрозу цивилизации.
Огромное значение имеет также принцип жертвенности и доверия. Человек правомерно опасается того, что его адаптационные возможности окажутся не пропорциональными заданному им темпу развития. Здесь коренится источник различных экологических катаклизмов. Следовательно, кроме сознательной аскезы ограничений и отречений необходимо решиться на терпеливое несение определенных «тягот неустойчивости» относительно целостного развития нашей цивилизации. В жизни индивида процесс развития, начиная с раннего детства вплоть до зрелого возраста, подчас характеризуется фазами дезинтеграция собственного «я». В какой-то степени аналогичное явление может проявиться и в рамках всего человечества, обреченного на поиски своего собственного духовного пути. Факт экологических потрясений (затрагивающих биосферу, социосферу, техносферу) становится понятным если учесть, что наша цивилизация относительно недавно отошла от эпохи каменных орудий. Однако эта установка позволяет занять одновременно и позицию доверия. Будущее нашего мира «решается в сердце человека» («Редемптор гоминис». § 15). Овладение миром станет благом для человека при условии, что он не утратит при этом богатство личностных ценностей – духовно-религиозных, интеллектуальных.
Знамением нашего времени, по убеждению католических теологов, должно стать не только умножение наших знаний, но и использование средств освящения, даваемых аскетикой. Аскетическая дисциплина, воздержание и самоограничение перед опасностью возрастающей спирали потребностей – вот главная задача христианина.
Существенной своей задачей современные католические теологи считают внедрение названных выше аскетических установок в повседневную пастырскую деятельность. По их убеждению, форму и смысл среде – биосфере, социосфере, техносфере, широко понятой культуре – человек придает своими мыслями, словами, а затем и поступками. В связи с этим первой заповедью для каждого прислушивающегося к голосу Церкви человека должна стать установка восприятия ценностей естественной среды. В ней должно содержаться уважение к собственному достоинству и к достоинству своих собратьев. Такая позиция превратит человека в существо, которое, благодаря своему исключительному положению в мире, сумеет жить в гармонии с собой, с другими и с окружающей средой. В основе этой заповеди находится предписание любить Бога и ближнего. Ради любви к Богу надлежит проявить уважение к его творению – среде, ради любви к человеку надлежит ценить среду и заботиться о ней, ради настоящего и будущего. Разумеется, эта любовь должна найти воплощение, им является соответствующий подход к материальным ценностям – коль скоро не они легитимируют человеческое в человеке, то и не следует стремиться к обладанию ими любой ценой, копить их ценой повреждения среды.
Признавая необходимость разумного обретения материальных ценностей, Церковь рекомендует обретать прежде всего новый образ жизни, характеризующийся такими основными нравственными ценностями, как умеренность, скромность, простота, человеческая солидарность. На этой базе своеобразно рождается императив экологической аскезы и для личности, и для общества.
Проблемы экологии в учении Иоанна Павла II
Ранее, затрагивая те или иные церковные трактовки экологической проблематики, мы неоднократно цитировали Иоанна Павла II как продолжателя линии своих предшественников на престоле святого Петра. Однако оригинальность аргументации Понтифика делает вполне правомерным рассмотрение его концепции в качестве самостоятельного вопроса.
Папа Римский Иоанн Павел II еще в бытность краковским архиепископом кардиналом К. Войтылой предложил в обоих философско-теологических книгах «Личность и действие» (1969) и «У оснований обновления» (1972), а также в многочисленных статьях собственную концепцию понимания и решения глобальных проблем современности. Базируясь на христианской традиции, эта концепция тем не менее содержала и немало оригинального. Новшество выражалось прежде всего в том, что при изучении взаимоотношения человека и мира К. Войтыла использовал в качестве философского метода не только официальный в католицизме неотомизм, но и элементы феноменологии и экзистенциализма. Главное же состояло в том, что еще в 60–70 гг. он сделал предметом теологической дискуссии такие проблемы, как религиозно-этическая интерпретация взаимоотношения человека и природы, отношение Церкви к научно-техническому прогрессу, ответственность человека перед Богом за живую и неживую природу, экологическое состояние Земли и перспективы восстановления экологического равновесия и другие.
Сердцевину концепции К. Войтылы составляет идея дезинтеграции двух «божьих сфер» – человека и мира, которая обусловлена фактом первородного греха. Процесс дезинтеграции заключается в том, что из-за грехопадения первых людей и последующего отрицания Бога человек лишается основы своего существования и силы, гармонизирующей все его желания и управляющей им. Гаснет тот свет, который указывает человеку подлинную иерархию ценностей и глубочайший смысл человеческого существования. Мир перестает выполнять роль посредника в постижении трансцендентного Бога. С особой силой последствия греха проявляются в сфере технической цивилизации, которая начинает угрожать существованию целых народов. Неспособность вести диалог с Богом в свою очередь обусловливает неспособность современных людей к ведению диалога друг с другом. Всеобщее братство людей становится невозможным, поскольку подвергается сомнению статус Бога как создателя и отца всех людей. Грех гордыни и эгоизма отравляет климат общественной жизни и обусловливает тотальную угрозу существованию человека. Социальная дезинтеграция в свою очередь передается естественной среде, из-за чего регионы, пораженные социально-политическими конфликтами, подвергаются и природным катаклизмам.
Особенность войтыловского философско-теологического понимания человека и природы, а также принципов, на которых они должны развиваться, во многом определила специфику энциклик и других социальных документов Иоанна Павла II. С момента, когда его взгляды стали взглядами главы римско-католической Церкви (1978/, они согласно ее учению обрели статус официальной доктрины Ватикана, что собственно и определяет значимость рассматриваемой здесь проблематики.
Иоанн Павел II – автор одиннадцати (к марту 1994 г.) энциклик, в большинстве из которых рассматриваются глобальные проблемы современности, в том числе и охраны окружающей среды. Не имея возможности подробно их проанализировать, остановимся преимущественно на одной из последних – «Соллицитудо реи социалис» («О социальной заботе», 1988), отметив лишь тот факт, что еще в допонтификальный период Иоанн Павел осуществлял разработки, имевшие по сути своей экологический характер. Так, размышляя об идеале духовной жизни современного общества, он отмечал, что создание такого идеала в рамках существующих социально-экономических систем невозможно. Дело в том, что ни при одной системе, по его мнению, человек не трактуется как подлинный субъект истории; напротив, он определяется и используется как «вещь», «предмет». Однако и в современном мире, считает глава Ватикана, существуют разрозненные «духовные элементы», позволяющие в случае их соединения создать вполне приемлемое в земном измерении человеческое общежитие.
Первый элемент – это «простой образ жизни», идеальным выражением которого является ментальноcть африканцев. Противопоставляя «материалистической потребительской цивилизации» духовную культуру народов Африки, Папа следующим образом формулирует свою концепцию: «Африка должна сыграть важную роль в современном мире. Африка является подлинной сокровищницей аутентичных человеческих ценностей. Она призвана к тому, чтобы поделиться этими ценностями с другими нациями и народами и таким образом обогатить всю человеческую семью и все другие культуры»[19].
Благодаря богатству духовных ценностей ее народов миссия Африки, по мнению Папы, заключается в «создании такой формы прогресса, которая будет гармонировать со всем человеческим существом»[20]. Африканцы в представлении Папы выступают потенциальными творцами «интегральной личности», в которой духовные ценности получат приоритет над материальными ценностями.
В числе специфических духовных ценностей, которые Иоанн Павел II усматривает у африканцев, он называет «врожденное религиозное чувство», «ощущение сакрального», «глубокое сознание связей, соединяющих природу с ее творцом», «священное почитание всего живого с момента его зачатия». Наличие подобных ценностей в культуре народов Африки собственно и приводит Понтифика к выводу о ее специфической миссии в мире.
Вторым элементом духовной культуры здорового общественного организма Иоанн Павел II называет жизненный уклад сельских общин. Своеобразный «аграризм» и идеализация деревенской общины и до понтификата Папы были неотъемлемой чертой католической социальной доктрины. С одной стороны, это реликт прошлых эпох, ведь родословная современной доктрины уходит своими корнями в раннее средневековье с его освящением собственности, особенно имевшей тогда наибольшую ценность земли. С другой стороны, современный католицизм исходит из того, что в условиях традиционного (сельского, патриархального) уклада дольше сохраняются и передаются из поколения в поколение традиционные формы взаимоотношения человека и природы, а также традиционная религиозность. Ведь общеизвестно, что индустриализация, урбанизация разрушают традиционные связи в семье и характер взаимоотношения человека со средой. Вот почему, воспевая «аграризм», Иоанн Павел II пытается уберечь «сельскую», «народную» субкультуру от пагубного воздействия города. Разумеется, он не призывает всех вернуться к «естественной» сельской общине, однако считает, что ценности, присущие ей, могут стать всеобщим достоянием в результате трансформации людей в сторону «сельской ментальности».
Уже в программной своей энциклике «Редемптор гоминис» Иоанн Павел II подверг критике неумеренную и грабительскую эксплуатацию недр Земли и предложил «рациональное и честное планирование» как антитезу растущему отчуждению человека от естественной среды. В этом документе Папа обратил внимание и на теологическое измерение отношения человек – среда: Творец изначально желал, чтобы человек в общении с природой поступал как разумное и благородное высшее существо. Прогресс, автором и инициатором которого является человек, должен делать жизнь последнего более человеческой, отвечающей его достоинству.
В «Редемптор гоминис» отмечается и другой аспект эксплуатации естественной среды – военный. И не случайно после издания этой энциклики Иоанн Павел II поручил в 1982 г. Папской академии наук заняться изучением негативных последствий гонки ядерных вооружений и испытаний ядерного оружия для среды обитания человека.
Новые элементы в социальное учение Церкви об охране окружающей среды внесли в середине 80-х гг. два документа: подготовленная по поручению Папы Конгрегацией по вопросам вероучения (бывшая инквизиция) «Инструкция о свободе и освобождение» (1984) и папское Апостольское послание «К молодежи мира по случаю Международного Года Молодежи» (1985). Первый из них отмечал необходимость сохранения основной характеристики качества жизни – свободы – и подчеркивал, что из-за опасного злоупотребления «технологической властью» человечеству угрожает его же власть над природой. В этом контексте документ рекомендовал переосмыслить современное понимание освобождения человека. Так, со времени Просвещения развитие цивилизации базировалось на идеологии прогресса, согласно которой борьба за свободу составляла цель людских устремлений, а средство – развитие науки и техники. Ныне же, как указывает документ, «техника, подчиняющая себе природу, несет с собой угрозу уничтожения основ нашего будущего в такой мере, что современный человек превращается во врага будущих поколений». В связи с этим Церковь обращает внимание на новое измерение освобождения, которое должно иметь экологический характер и призывает к пересмотру всевозможных программ прогресса также и под углом экологического освобождения.
Второй документ – Апостольское послание Папы к молодежи – представляет собой довольно существенный момент в экологической рефлексии католической Церкви. Так, если в 1972 г. в документе «Позиция Апостольской Столицы по вопросу охраны окружающей среды» Папа Павел VI лишь мимоходом отмечал, что «молодежь с беспокойством реагирует на угрозу самой перспективе развития цивилизации из-за уничтожения естественной среды», то Иоанн Павел II в своем Апостольском послании 1985 г. представил полную, христоцентрически ориентированную концепцию интегрального воспитания, базирующуюся на принципе так называемого «назаретского возрастания». Эта концепция содержит четыре постепенно усложняющихся этапа: 1) общение с видимым миром, т. е. с природой; 2) общение с творениями человека; 3) общение людей друг с другом; 4) общение с Богом.
Согласно Папе, «возрастание молодежи в годах и в мудрости» должно осуществляться посредством общения с природой и обязательно с него начинаться. Нельзя, утверждает Иоанн Павел II, представить сегодня воспитание молодого христианина без воспитания его в духе необходимости сохранения природы. В целом на основе анализа документа можно выделить следующие этапы развития экологической мысли католической Церкви:
– рассмотрение вопроса об охране окружающей среды в качестве социальной проблемы;
– выработка системы социально-этических принципов, нормирующих отношение человека к окружающей среде;
– дополнение современных концепций освобождения человека экологическим элементом;
– разработка системы экологических прав человека (право на чистый воздух, на чистую воду и т. д.).
Энциклика «Соллицитудо реи социалис» Иоанна Павла II, изданная по случаи 20-летия энциклики «Популорум прогрессио» («Прогресс народов»,1967) Павла VI, содержит в себе комплексное понимание современным католицизмом экологической проблематики. Налицо здесь и изменение акцентов: если «Популорум прогрессио» делала акцент на «развитии народов» и на необходимости создания социально-политических и экономических условий для этого развития, то последняя энциклика проникнута тревогой за судьбу цивилизации из-за кризисной ситуации во всех сферах жизнедеятельности человечества. На место наивного оптимизма пришло вполне обоснованное беспокойство за судьбу человечества в целом.
Эволюция экологической проблематики от «Популорум прогрессио» до «Соллицитудо реи социалис» выглядит следующим образом: от фиксирования опасностей сугубо экологического характера до формулирования нового критерия прогресса – способности цивилизации к выживанию в условиях нарастающего исчерпания естественных ресурсов и прогрессирующего уничтожения экосистемы Земли. Энциклика «Соллицитудо реи социалис» в отличие от других церковных документов включает охрану окружающей среды в сферу католической социальной доктрины. О том, что данная проблематика заняла равноправное положение в ряду других социальных вопросов, традиционно входящих в сферу церковной социальной мысли, свидетельствует, в частности, тот факт, что папская экологическая рефлексия нашла свое место не в III разделе энциклики – «Панорама современного мира», в котором перечисляются кризисные явления современной цивилизации, а в разделе IV – «Подлинное человеческое развитие».
Согласно концепции нравственного прогресса Иоанна Павла II, сотворенная окружающая человека действительность требует уважительного отношения к себе в силу трех основных причин. Первая причина касается возможности «потребления части бытия, составляющего естественную среду, а также пределов процесса потребления» (§ 34). Энциклика отмечает два таких интегрально взаимосвязанных предела: баланс оптимального функционирования экосистемы Земли в условиях ненарушенного экологического равновесия, а также моральную границу использования естественной среды в целях развития. «Нельзя, – указывает энциклика, – безнаказанно использовать различного рода бытия – одушевленные и неодушевленные: запасы недр, растения, животных – произвольным образом, единственно на основе хозяйственных потребностей. Напротив, необходимо учитывать природу всякого бытия, взаимную и необходимую связь самих бытий в виде упорядоченной системы, каковой собственно является космос» (§ 34).
Примечательно, что в общем-то в энциклике Иоанн Павел II не употребляет научные термины «экосистема Земли» или «экосистема», а использует заимствованное из древнегреческой философии понятие «космос». Как известно, в этой философии данное понятие выступало как синоним понятий «порядок», «космический порядок», «гармония бытии». Таким образом, энциклика «Соллицитудо реи социалис» указывает не только на взаимосвязь и взаимообусловленность бытий (материальных проявлений природы), но и на необходимость их «космоса», т. е. экологического порядка, экологической гармонии.
Отмеченная необходимостъ «почтительного отношения к бытиям» выступает в папской энциклике также и как нравственный императив. Произвольный характер использования благ природы, неумеренность в сфере «земного потребления» чреваты экологической дисгармонией, которая в свою очередь порождает дисгармонию нравственную. Несомненно, данное умозаключение – принципиально новый элемент в социальном учении современной католической Церкви.
Вторая причина обращения Иоанна Павла II к экологической проблематике связана с проблемой исчерпаемости не возобновляемых ресурсов Земли, «использование этих ресурсов, – отмечается в энциклике, – таким образом, как будто они неиссякаемы, чревато опасностью не только для нынешнего поколения, но прежде всего для будущих формаций» (§ 34). При этом рассматриваемую проблему Папа представляет в следующем соотношении: природные запасы – свобода – справедливость в отношениях между поколениями.
Как отмечалось выше, еще в документе «Инструкция о христианской свободе и освобождении» (1984) Церковь отметила необходимость ограничения власти человека над природой; она выступила с предложением разработки такой «модели владычества человека над миром», при которой свобода современного гомо сапиенс была бы тождественна и его собственной свободе от экологического кризиса, и свободе от него грядущих поколений жителей Земли. Справедливость в отношениях между поколениями в их «владычестве» над природой, всегда имеющая моральный характер, – также необходимый критерий экологической гармонии. В то же время следует отметить, что, поставив указанную действительно актуальную проблему и развивая ее в энциклике «Соллицитудо реи социалис», Папа признает, что сегодня Церковь пока еще не может предложить какое-либо конкретное ее решение, кроме рекомендаций частного характера.
С последним моментом связана третья причина обращения энциклики к экологической проблематике. Речь идет о последствиях «определенного типа прогресса», или иначе – о «качестве жизни в промышленно развитых обществах» (§ 34). Церковь усматривает непосредственную связь между необходимостью ограничения «потребления видимой природы» и качеством жизни. Отсюда и ее убеждение в том, что достижение цивилизацией соответствующего качества жизни, которое характеризовалось бы и необходимым экологическим качеством, будет невозможно не только без «аскезы потребления», но и без нового мышления о сути господства человека над природой, без изменения ориентации этой цивилизации в направлении экологии.
Особо Иоанн Павел II выделяет теологический аспект проблемы – это ограничения, изначально наложенные на человека самим Творцом; они выражены в символической форме в виде библейского предписания «возделывать и хранить» природу (Быт. 4, 16, 17). Человек, согласно мысли Папы, может и должен активно воздействовать на природу, но с определенными ограничениями (»Господство, заповеданное Творцом человеку, – отмечает энциклика, – не означает абсолютной власти, здесь не может быть речи также и о свободе «использования» либо произвольного обладания вещами» (§ 36). Ограничения нужны не только в целях недопущения экологической катастрофы, но и в силу необходимости учитывать замысел Творца видимого и невидимого мира. Естественные законы – это и божественные законы, и «по отношению к видимой природе мы подчинены не одним лишь биологическим законам, которые нельзя преступать» (§ 34).
Таким образом, можно заключить, что энциклика «Соллицитудо реи социалис», представляя современную католическую концепцию взаимоотношения человека и природы, использует три рода взаимосвязанных аргументов: естественных, нравственных и теологических. Рассматривая их во взаимосвязи, энциклика характеризует направление и цель развития человека и общества в целом. Критерием развития является сам факт осуществления его ради человека. Гармоничное развитие последнего в природной среде возможно только при условии соблюдения его прав, в том числе и права на подобное развитие, и его достоинства, о котором можно говорить лишь исходя из догмата «Человек есть подобие Божие». Всякое иное понимание взаимоотношения человека и природы характеризуется как антигуманное, не учитывающее высшего смысла существования человека и его предназначения – земного и сверхъестественного.
©
* Публикуется по: Экология и религия. Ч. I. М., 1994. С. 75–112.
[1] О «теологии мира» см.: Эволюция социального учения католицизма. М., 1987. С. 185–190.
[2] Jan Pavel II. Christifideles laici. Poznan; Varszava, 1989. § 43.
[3] Auer A. Umweltethik: Ein theologischer Beitrag zur okologischen Diskusion. Dusseldorf, 1985. S. 7.
[4] Ibid. S. 16.
[5] Jan Pawel II. Рокoj z Bogiem Stworca – pokoj w calym stvorzeniem: Oredzie na XXIII Swiatowy Dzien Pokoju. Poznan; Warszawa, 1990. S. 5.
[6] Jan Pavel II. Рокoj z Bogiem Stworca – pokoj z calym stworzeniem: Orodzie nа XXIII Swiatowy Dzien Pokoju. S. 5.
[7] Ks. Jurczyk В. Ekologiczne wezwanie dla refleksji moralnej // Roczniki teologiczno-kanoniczne. Lublin,1990. Т. 34. z. 3. S.74.
[8] Цит. по: Chrzescianin w Swiecie. Warszawa, 1973. № 2. S. 68.
[9] Цит. по: Chrzescianin w Swiecie. 1973. №. 2. S. 76.
[10] Jan Pavel II. Christifideles laici, 43.
[11] Ecologie et environnement: Cahiers de Recherche Ethique. Montreal, 1981. № 9. P. 63.
[12] Reconciliato et paenitentia. Vaticano, 1985. § 15.
[13] Jan Pavel II. Oredzie na XXIII Dzien Pokoju. Poznan, 1990. § 7.
[14] Ibid. § 13.
[15] Kadlec Е. Realistische Ethik: Verhaltenstheorie und Moral der Arterhaltung. Berlin, 1976. S.144.
[16] Slipko Т., кs. Podstawy etyki srodowiska naturalnego // Chrzescianin w Swiecie. 1985. № 4. S. 56.
[17] Gaudium et spec. § 61.
[18] Ghenu Г.D. Die Arbeit und gottliche Kosmos. Mainz, 1986. S. 73.
[19] См.: Эволюция социального учения католицизма: Философский критический анализ. М., 1987. С. 155.
[20] Там же.
Католичество
- Сравнительный анализ психологических типов протестанта, католика и православного в работах
- Судьба русских католиков
- Католическая философия. Введение
- Проблема «Человек–природа» в современной католической философии
- Почему католики дорожат Папством
- Очищение памяти и единство христиан в современном католическом учении
- Реформация с точки зрения Католической церкви и Католическая церковь в точки зрения Реформации
- Филюшкин проверить теорию Вебера, или почему протестантская этика была в католических городах Европы?
- Встреча православной русской экклесиологии с католической экклесиологией в XIX - XX вв.
- О языке преподавания католического Закона Божьего в Западных губерниях во второй половине XIX - начале XX вв.
Смотрите полные списки:
 Профессии
ПрофессииПрофессии: Наука
Проекты по теме:
 Основные порталы (построено редакторами)
Основные порталы (построено редакторами)