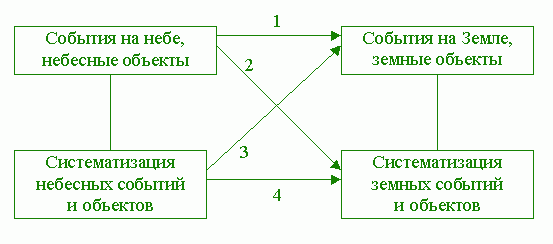
Конечно, в действительности всё происходило не так просто, как на данной схеме. В частности, было много промежуточных этапов, о которых достаточно сложно сказать, астрология ли это или ещё нет. Например, “восточный гороскоп”, несомненно, может рассматриваться как система календарной астрологии. А система “лунных дней“, которая гораздо примитивнее? Или, что ещё примитивнее, традиция приписывать определённым дням календарного месяца благотворное или злотворное воздействие – можно ли её называть астрологией?
Неоднозначная ситуация, в которую мы попадаем при рассмотрении подобных случаев, ещё более осложняется тем, что небесные явления не ограничиваются астрономическими событиями. Ведь человек видит на небе не только звёзды и планеты, но и тучи, радугу, молнии, метеоры, птиц... На протяжении тысячелетий люди не могли правильно провести границы между астрономическими, метеорологическими и оптическими явлениями (например, вплоть до эпохи Нового времени многие учёные, вслед за Аристотелем, считали, что кометы – это образования в земной атмосфере, возникающие от испарений с поверхности Земли). Поэтому условия видимости звёзд, изменения цвета планет, сектор неба, в котором видна радуга, или даже направление ветра – всё это в древности играло важную роль при прогнозировании событий [см. Varahamihira, 1947; Сыма Цянь, 1986]. Но имеем ли мы право называть методы, учитывающие подобные факторы, астрологическими? Более того, как знамения воспринимались не только небесные явления, но и землетрясения, появление определённых зверей или птиц в определённом месте (например, перед городскими воротами), сновидения и даже поведение муравьёв [см. Ness, 1990]. В частности, в Древнем Двуречье все эти предзнаменования изучались и толковались в своей совокупности, прогнозирование по поведению животных дополнялось и уточнялось предсказанием по звёздам или по грому... Без сомнения, принятое в наши дни отграничение астрологии от иных методов дивинации вавилонянам показалось бы глубоко ошибочным.
Итак, мы видим, что на протяжении почти всей истории своего существования астрология имела достаточно размытые границы с другими дисциплинами, изучающими природу и место человека в мире. На протяжении практически всего Средневековья астрология воспринималась как составная часть единой дисциплины, включающей также астрономию и математику. Термины “астролог”, “астроном” и “математик” вплоть до эпохи Возрождения воспринимались как синонимы. Очень тесной была и связь астрологии с медициной. Уже в “Корпусе Гиппократа” и в сочинениях Галена отмечается необходимость учёта астрологических факторов при лечении и назначении лекарств [Cramer, 1954; Куталёв, 1997]. И данному подходу врачи следовали на протяжении почти двух тысячелетий; в отдельных странах Европы астрологические методы в медицине продолжали использоваться даже в 18 в.
Тем не менее, в свете всего вышесказанного, представляется, что астрологии возможно дать чёткое определение, и в качестве существенного признака здесь следует выделить предположение о наличии определённой взаимосвязи между двумя рядами объектов – небесными (астрономическими) объектами и земными. В нашем исследовании мы будем опираться на следующее рабочее определение:
Астрология – это система теоретических и практических знаний, основанная на принципе корреляции земных процессов и состояний земных объектов астрономическими факторами. Сразу отметим, что существуют различные подходы к объяснению этой предполагаемой корреляции. Одни авторы утверждают несомненно физический характер данной корреляции, другие настаивают на сугубо символическом её характере, третьи предпочитают считать механизм этой корреляции магическим, четвёртые привлекают религиозно-мистические объяснения. Но в принципе, объяснение механизма этой корреляции лежит за рамками задач самой астрологии.
Термин “корреляция” в данном определении представляется наиболее подходящим (по сравнению с “взаимодействием”, “связью”, “воздействием”, “влиянием”) по нескольким причинам. Прежде всего, корреляция не означает обязательного наличия прямой причинно-следственной связи. Согласно словарному определению, “корреляция” может означать “соотношение предметов или понятий”, “соответствие”, “взаимосвязь”, “взаимную приспособленность, согласованность строения и функций”, “вероятностную зависимость”. В математической статистике термином “корреляция” отмечают “связь между явлениями, если одно из них входит в число причин, определяющих другие, или если имеются общие причины, воздействующие на эти явления (функция является частным случаем корреляции); корреляция может быть более или менее тесной (т. е. зависимость одной величины от другой – более или менее ясно выраженной)” [Словарь иностр. слов, 1993, с. 313]. Более того, “в отличие от функциональной зависимости, корреляция возникает тогда, когда зависимость одного из признаков от другого осложняется наличием ряда случайных факторов” [СЭС, 1983, с. 633]. Поэтому использование термина “корреляция” для обозначения “астрологической связи” между небесными и земными процессами нам видится вполне адекватным.
Как известно, астрологию часто понимают как “оккультное учение”, “область мистического знания”, “эзотерическую дисциплину”. Оценим эти подходы, исходя из предложенного нами определения астрологии.
Оккультизм (от лат. occultus – “тайный, скрытый”) – очень сложный и многозначный термин. Не углубляясь в эту проблему, требующую отдельного исследования, обратимся к определениям, предлагаемым в фундаментальных справочных изданиях по философии. Согласно “Философской энциклопедии”, оккультизм – это “мистическое учение, в основе которого лежит представление о существовании сверхъестественных (“оккультных”) сил, с которыми якобы можно вступать в общение при помощи магии. Рассматривая человека как иерархическое сочетание различных “планов бытия”, оккультизм считает, что с помощью специальных методов психической тренировки и магического воздействия на сверхъестественные силы можно осуществить восхождение в т. наз. “высшие планы бытия” и достичь “тайного знания”, выходящего за пределы обычного человеческого опыта” [Философская энциклопедия, 1967, с. 136]. По другому определению, это “общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для общего человеческого опыта, но доступных для людей, прошедших через особое посвящение и специальную психическую подготовку” [ФЭС, 1983, с. 456]. Если следовать приведённым определениям, то приходится констатировать, что астрология, в принципе, очень слабо соотносится с оккультизмом, ведь многие астрологические школы отрицают существование сверхъестественных сил, считая астрологические “влияния” вполне естественными и научно объяснимыми. Астрология также не требует особого посвящения, и её последователи обычно не считают астрологические концепции и техники недоступными для общего человеческого опыта – коль скоро астрология преподавалась и преподаётся в общедоступных учебных заведениях (а в Позднем Средневековье – и вплоть до 18 в. – она была университетской дисциплиной). Поэтому называть астрологию как таковую оккультным учением представляется некорректным. В крайнем случае, это определение применимо лишь к отдельным школам, в которых астрология переплетена с религией и магией.
Подобным же образом, об астрологии не приходится говорить и как об эзотерическом учении. Ведь “эзотерический” (от греч. esoterikos – “внутренний”) означает “тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвящённых (о религиозных обрядах, мистических учениях, магических формулах)” [Словарь иностр. слов, 1993, с. 699]. Поэтому астрология имеет право называться “эзотерической дисциплиной” не более, чем ядерная физика или математическая лингвистика. Ведь “посвящённым” во все эти дисциплины может стать каждый, кто возьмёт на себя труд изучить их основы. Опять же, на отдельных исторических этапах отдельные религиозные течения или оккультные сообщества включали астрологию в свод знаний, доступных только посвящённым, но это не позволяет нам распространять эпитет “эзотерический” на все формы и традиции астрологии.
Наконец, обратимся к вопросу отношения астрологии к мистике и мистицизму.
Мистика (от греч. “мистические обряды, таинство”) – “1) вера в сверхъестественное, божественное, таинственное; вера в возможность непосредственного общения человека с потусторонним миром; 2) в переносном смысле – нечто загадочное, непонятное, необъяснимое” [Словарь иностр. слов, 1993, с. 386].
Мистицизм (от греч. mystikos – “тайный”) – “мировоззрение, основанное на мистике; склонность к мистике” [там же, с. 386]. По другому определению, мистицизм – “в широком смысле истолкование явлений природы и общества как имеющих в своей основе таинственное, необъяснимое, сверхъестественное начало. В этом смысле мистицизм присущ всем без исключения религиям”, а “в более узком смысле мистицизм означает религиозно-философскую концепцию, признающую возможность непосредственного сверхчувственного общения человеческой души с богом как “первичной духовной реальностью” [Философская энциклопедия, 1964, с. 456].
Как мы видим, определение “Философской энциклопедии” сближает мистицизм с оккультизмом, а отношения астрологии с последним мы обсудили выше. Что касается определений словаря иностранных слов, то следует подчеркнуть, что астрология стала считаться дисциплиной о сверхъестественных и таинственных силах лишь в эпоху Нового времени, когда астрологическим учениям было отказано в научности. Но до той поры в доминирующих научных парадигмах воздействие небесных тел на земные процессы считалось вполне возможным, и посему астрология как таковая не воспринималась как мистическое учение. Астрология базировалась на “вере в божественное” в той же мере, как любая наука. Ведь наука, как считалось, даёт людям сведения о “божественных законах”, управляющих миром.
Таким образом, рассмотренные три эпитета (“оккультный”, “эзотерический”, “мистический”) могут быть вполне справедливыми, когда речь идёт, к примеру, о храмовой астрологии Древней Ассирии или об использовании астрологии теософами 19 в., но употребление данных эпитетов введёт нас в заблуждение, если мы будем рассматривать птолемеевскую “научную астрологию” или концепции И. Кеплера и Ф. Бэкона.
Говоря о проблеме определений, необходимо отметить отсутствие общепринятых строгих определений таких важных для нашего исследования понятий, как “культура”, “религия”, “философия”, “наука”. Сознавая, что уточнение этих фундаментальных понятий выходит за рамки задач данной работы, мы ограничимся использованием уже существующих в научной среде определений.
1.4. Классификация астрологических знаний
Теперь обратимся к запутанному вопросу классификации направлений астрологии. К сожалению, все известные нам системы таких классификаций неполны и зачастую внутренне противоречивы. К примеру, С. Вронский выделяет следующие основные разделы астрологии: натальная астрология (занимающаяся “изучением, анализом и определением всего, что связано с человеком и его судьбой”), мунданная астрология (рассматривающая и анализирующая “влияние космических факторов на племена, народы, нации, на отдельные города и государства, на целые регионы и континенты”), медицинская астрология, метеорологическая астрология, хорарная астрология (рассматривающая и анализирующая гороскоп на момент “рождения какой-либо идеи, мысли или вопроса, или на момент события, или на момент обращения человека с вопросом к астрологу“) и аграрная астрология [Вронский, 1991, с. 17–18]. В другой своей работе Вронский добавляет к этому списку кармическую астрологию и эзотерическую астрологию [Додонова, 1991, с. 9]. Сходным образом, британский астролог А. Лео указывает, что астрология “делится на семь ветвей – эзотерическую, натальную, медицинскую, хорарную, национальную, астрометеорологическую и духовную” [Лео, 1996, с. 15].
Очевидно, что в подобных классификациях отсутствует единое основание. Так, объект исследования натальной астрологии (человек в целом) включает в себя объекты и медицинской астрологии, и духовной астрологии, и кармической астрологии. Аналогичным образом, мунданная астрология включает в себя (частично или даже полностью) метеорологическую и аграрную астрологию. С другой стороны, из классификаций Лео и Вронского выпущены такие разделы астрологии, как астроботаника, астроминералогия, астрология взаимоотношений и многие другие.
Представляется, что проблему классификации астрологических направлений можно легко решить, исходя из предложенного нами определения астрологии. Если принять, что астрология базируется “на принципе корреляции земных процессов и состояний земных объектов астрономическими факторами”, то мы получаем три главных основания для классификации. Её можно провести: 1) по учитываемым астрономическим факторам; 2) по изучаемым земным процессам и объектам; 3) по вариантам прочтения корреляции. Для полноты системы, к указанным основаниям добавим различение того, проводится ли изучение объектов в статике или динамике. Таким образом, отрасли астрологии можно классифицировать по четырём базовым основаниям:
![]() I. Астрономические факторы, главенствующие при исследовании земных объектов и процессов.
I. Астрономические факторы, главенствующие при исследовании земных объектов и процессов.
Согласно классификации по данному основанию, отдельные направления астрологии посвящены изучению конкретных астрономических/астрологических объектов и их соотношению с земными событиями. Скажем, популярная астрология солнечных знаков даёт характеристики людям и событиям в зависимости от положения Солнца в знаках тропического Зодиака. Лунная астрология соотносит определённые типы событий и настроений с фазами Луны, “лунными днями” и с движением Луны по Зодиаку. Астрология неподвижных звёзд пытается выявить связь между земными процессами и астрологически выделенными звёздами. Астрология глубокого космоса занимается изучением астрологического “влияния” таких объектов, как квазары, чёрные дыры, галактики и т. п. Существуют и другие, довольно многочисленные, разделы астрологии: астрология затмений, астрология астероидов, астрология дуговых аспектов, астрология солнечной активности и так далее.
![]() II. Изучаемые земные объекты.
II. Изучаемые земные объекты.
Наиболее развитыми являются отрасли астрологии, изучающие мир человека в разных масштабах: от самых глобальных проблем человечества, нации, города, больших коллективов (мунданная астрология, от лат. mundus – “мир”) до исследования взаимодействия нескольких людей (астрология взаимоотношений) и изучения конкретного человека и его частных проблем (индивидуальная астрология, в которой можно выделить психологическую астрологию, медицинскую астрологию, кармическую астрологию и так далее). Однако объектом изучения астрологии являются не только люди, но и любые другие земные объекты и явления: как природные образования (этим занимаются астрогеология, астросейсмология, метеорологическая астрология, астроминералогия, астроботаника, астрозоология и т. п.), так и искусственные образования, порой даже не существующие физически (культурная эпоха, идея, вопрос).
![]() III. Исторически сложившиеся астрологические традиции и школы.
III. Исторически сложившиеся астрологические традиции и школы.
В разных странах мира в различные эпохи были созданы свои, самобытные подходы в астрологии (если апеллировать к нашему определению астрологии – разные варианты прочтения корреляции). Исторически наиболее значимыми, судя по всему, являются:
· а) астрологическая традиция Древней Месопотамии;
· б) получившая от неё мощный толчок к развитию эллинистическая астрология;
· в) связанная с ними индийская традиция;
· г) астрология Дальнего Востока;
· д) тибетская астрология, базирующаяся на сочетании китайских и индийских концепций;
· д) астрологическая система индейцев Месоамерики;
· е) персидская и арабская астрология;
· ж) западноевропейская астрологическая традиция.
В русле отдельных традиций выделяются астрологические школы и течения, различающиеся между собой как астрономическими факторами, которые принимаются во внимание, как набором астрологических методик, так и сферами интереса.
![]() IV. Изучение статических объектов или динамических изменений.
IV. Изучение статических объектов или динамических изменений.
При изучении гороскопа или каких-либо астрологических принципов и концепций может превалировать анализ объектов
· в статике – как в натальной астрологии (от лат. natio – “рождение”), изучающей гороскопы рождения, – или
· в динамике: развитие объектов во времени изучает прогностическая астрология, выбором наиболее благоприятного времени для тех или иных действий занимается элективная астрология (от лат. electio – “выбор”); изменения характеристик объектов в пространстве изучают методики астролокальности, они же обеспечивают выбор наиболее благоприятного места на земном шаре для проявления тех или иных качеств объекта.
ГЛАВА 2
Исторические этапы развития
и географический ареал астрологических систем
Представления о мире, на которых основана астрология (и формирование которых исторически ей предшествует), мы будем называть астрологическими представлениями (астрологическими принципами). Можно выделить следующие основные взгляды на мир, на его устройство и на место человека в этом мире, на которых базируется астрология:
- принцип всемирной симпатии (всеобщей связи явлений); принцип аналогии (а также развивающий и уточняющий его принцип целостности). В пространственном аспекте данный принцип представляет собой принцип подобия микрокосма и макрокосма: всякая сущность подобна миру в целом. Временной аспект принципа аналогии – принцип прогрессий; прогрессиями в астрологии называется один из основных методов прогноза, соотносящий между собой интервалы времени различного масштаба: так, прогрессия “день за год” определяет основные тенденции 50-го года жизни человека по расположению планет на 50-й день после рождения этого человека; принцип цикличности (волновых процессов в природе и обществе); принцип полярности, взаимодействия двух противоположных начал как основы всего существующего в мире; принцип структурной организации мироздания (на базе выделения четырёх или пяти основных стихий, присутствующих во всём); принцип сакральной нумерологии (мистика чисел); принцип сакральной номинации (представление о значимости имён и названий).
Вышеперечисленные принципы и образуют центральное ядро астрологической теории, поскольку именно они являются тем базисом, который позволяет астрологам постулировать наличие пресловутой корреляции земных процессов астрономическими факторами. Мироощущение, естественной составной частью которого являются эти представления, мы, соответственно, будем называть астрологическим мироощущением. Но для того, чтобы на этом базисе возникла собственно астрология, необходимо наличие определённого уровня систематизации, структурирования как земных процессов, так и астрономических факторов. Первыми очевидными признаками появления такого структурирования Космоса являются
- представление о космической иерархии и деление неба на участки, имеющие отличное друг от друга значение.
Только когда небо начинает подобным образом структурироваться, и элементы этих структур начинают соотноситься с земными объектами по определённой системе, мы вправе констатировать возникновение астрологии.
Развитыми астрологическими системами мы будем называть астрологические учения, которые существуют в изучаемой культуре в чётко сформулированном виде и с разработанными правилами применения.
В данной главе мы изложим нашу точку зрения на ключевые моменты, связанные с генезисом астрологии, и определим основные характеристики наиболее ранних стадий развития астрологии (а именно, анимистической и виталистической стадии, по терминологии Бертело–Радьяра). В следующей, третьей главе, мы выделим основные периоды существования развитых астрологических систем под углом соотношения астрологии с другими сферами духовной культуры (прежде всего, с религией, философией и наукой). Будет также очерчен географический ареал бытования основных астрологических традиций.
2.1. Зарождение астрологии
Вопрос о древнейшей стадии в истории астрологии крайне сложен и мало изучен. Единственная известная нам работа, где довольно детально рассмотрена эта стадия, была написана Д. Радьяром в 1936 г. [Радьяр, 1991]. Сознавая, что отдельные идеи данной работы выглядят сейчас устаревшими, мы, тем не менее, в своём обзоре генезиса астрологии будем во многом опираться на разработанный Радьяром подход, особо отмечая те его положения, с которыми мы не согласны. При этом мы будем исходить из акцента на становление и развитие сформулированных нами астрологических представлений.
Время зарождения астрологических представлений восходит к самому раннему периоду истории человечества. Уже в нижнем палеолите, судя по дошедшим до нас следам жизнедеятельности людей, начались наблюдения за небом, были выделены сезоны года. Имеются данные о том, что в мустьерскую эпоху (около 40–100 тыс. лет назад) произошли фиксация простейших наблюдений за движением Солнца, а также развитие первоначальных навыков счёта и геометрических построений различными способами в разных районах Евразии [Фролов, 1993, с. 7]. И интенсивное собирательство, и охота требовали внимания к пространственно-временным ориентирам, среди которых важнейшую роль играло небо, а на нём – прежде всего звёздные узоры и движение Луны, а также её изменения по фазам.
“Первобытный человек живёт ещё в лоне природы. Вся его жизнь – это опыт одновременно и психологический, и физиологический, ибо он вряд ли способен отличать внешний мир от внутреннего, объективное от субъективного. Он настолько един с природой, что остаётся постоянно погружённым в её явления, – то проецируя в них свою инфантильную самость, то возвращая их себе как состояния сознания, которые он посредством бессознательной идентификации считает собственными” [Радьяр, 1991, с. 12–13]. Л. Леви-Брюль использовал для описания подобного процесса психологического отождествления с предметами термин “мистическая причастность“ [Levy Bruhl, 1910]. Веру в одушевлённость природы называют также анимизмом [см. Тайлор, 1989], и мы, вслед за Д. Радьяром, будем называть древнейший период становления астрологии анимистическим.
Древние люди, как и современные дикари, всегда рассматривали природу как часть общества, а общество – включённым в природу и зависящим от космических сил. Для них природа и человек не противостоят друг другу, а потому им и не должны соответствовать два различных способа познания. “Это не означает (как часто думают), что первобытный человек для объяснения природных явлений наделяет неодушевлённый мир человеческими характеристиками. Для первобытного человека неодушевлённого мира попросту не существует” [Франкфорт, 1984, с. 25–26].
“Природа, как внешняя, так и внутренняя (что неразличимо для первобытного человека), представляет собой хаос существ, которые действуют и взаимодействуют, вызывая трепет ужаса и благоговения” [Радьяр, 1991, с. 13]. Скоро, однако, у человека зарождается некое ощущение причинности; оказывается, определённые факты всегда следуют один за другим. Теперь он даёт наименования не только вещам, но и отношениям между ними. Причём, основное отношение, которое он знает по личному опыту, – это отношение кровного родства. Так создаётся мифология, в которой природные силы сочетаются браком и производят потомство; оформляются представления об иерархии этих сил. Характерным примером такой иерархии является деление неба на слои, каждому из которых соответствует своё божество. Подобные представления мы находим, к примеру, в древней мифологии народов Центральной Азии.
Выделение небесного свода из всего многообразия объектов окружающего мира было закономерным, равно как и его соотнесение с обителью богов. Р. Тарнас отмечает: “Создаётся впечатление, что прежде всего древние наблюдатели заметили принципиальную разницу между мирами небесным и земным. Земной жизни всюду были присущи изменчивость, непредсказуемость, зарождение и упадок, тогда как небеса, казалось, обладали вечной размеренностью и сияющей красотой, делавшими их царством совершенно особого – высшего порядка” [Тарнас, 1995, с. 45]. При этом “было очевидно, что движение небесных тел весьма сказывается на земном существовании: принося, например, с непогрешимым постоянством вслед за ночью – рассвет, следом за зимой – весну. Некоторые важнейшие сезонные колебания климатических условий, засухи, наводнения, приливы и отливы, по всей видимости совпадали со специфическими небесными явлениями” [Тарнас, 1995, с. 46].
Солнце и Луна – важнейшие носители света. “Свет и жизнь нераздельны, ведь темнота и ночь очень часто несут с собой смерть. Солнечный свет разгоняет страх, даёт возможность видеть вещи ясно. Таким образом, Солнце – великий источник жизни; Луна же скрывает тайну. Она растёт и уменьшается, наполняя джунгли своим неверным светом, переменчивым и таинственным как женщина” [Радьяр, 1991, с. 14]. Скоро первобытными наблюдателями устанавливаются и фазы Луны, и на этом цикле начинает строиться чувство времени и периодичности. “Духов” лучше всего вызывать при её свете, возбуждающем воображение. Луна становится магической силой, силой таинственных ритуалов. Как доказано, лунный календарь мог существовать со времён палеолита: палеолитические охотники и собиратели, по суровой жизненной необходимости тонкие наблюдатели и стихийные материалисты, следили за фазами Луны и за движением её по звёздному небу, чтобы, во-первых, выбирать наиболее удачные для охоты и собирательства периоды и, во-вторых, иметь надёжные ориентиры для возвращения домой после многодневной охоты [Альбедиль, 1993, с. 75].
Отметим также следующий фактор, не упоминаемый Радьяром. Развитию необходимых условий для наблюдения за светилами способствовали сотни тысяч лет деятельности по поддержанию в стойбищах “приуроченного” огня. Чтобы поддерживать огонь, ему нужно было давать топливо непрерывно и определёнными порциями. Время горения чётко соответствовало количеству топлива. Долговременное поддерживание огня требовало периодического пополнения запасов топлива, поэтому было необходимо так или иначе “мерить” динамику естественного процесса “квантами” топлива в настоящем и в предвидимом будущем. К тому же, для первобытного человека аналогия между огнём и Солнцем как “небесным огнём” напрашивалась сама собой. Титанические усилия по добыванию и сохранению огня мотивировались стремлением дополнить живительное действие Солнца, поскольку это действие сокращалось в определённые периоды суточных и годовых ритмов его движения. Иными словами, “измеряя” огонь, люди так или иначе учились измерять динамику видимого движения Солнца по небосводу. А это способствовало сознанию периодичной повторяемости тех особенностей промысла и всей жизнедеятельности, которые зависели от суточных и годовых ритмов движения Солнца и соответствующих изменений в природе [Фролов, 1993, с. 7–8].
Определённые периоды года довольно рано могли ассоциироваться и с небесными явлениями, и с важными для первобытного охотника моментами поведения животных. “Синкретизм первобытных представлений о мире способствовал взаимосвязям, взаимопроникновению подобных наблюдений и действий, ведя к специфически охотничьему видению земных и небесных явлений как единого целого” [Фролов, 1993, с. 8].
По отношению к Солнцу и Луне, а позже, вероятно, и к самым ярким звёздам человек на анимистической стадии испытывает какую-то неясную тождественность. Он чувствует их как живых существ, стремится ко всё большему единению с ними, стремится преисполниться их сущностью. Это почитание звёзд (или, скорее, отождествление себя со звёздами) соответствует культуре тотемов [Радьяр, 1991, с. 14]. Тотемами чаще всего являются животные, но ими могут быть и звёзды, и даже облака или горы. Тотемические культуры ещё существуют у так называемых примитивных племён Африки, Америки, Австралии, Океании, и знакомство с ними, видимо, поможет лучше понять значения древней астрологии на анимистической стадии развития.
Д. Радьяр указывает, что “в те времена главным было не движение небесных тел, как позже, а особое жизненное качество, которым обладает каждое из небесных тел” [Радьяр, 1991, с. 14]. Однако такое утверждение нам представляется ошибочным, поскольку становление первобытного общества стимулировало точное измерение всё более протяжённых отрезков времени, которое производилось именно на основании наблюдений за небом. Естественным продолжением этого процесса в эпоху расцвета первобытного общества стало создание календаря (с делением года на сезоны и месяцы).
Солнце и Луна помогали человеку ориентироваться во времени по-разному. Если годичный период Солнца наглядно проявляется в смене сезонов, то динамика чередования лунных фаз чаще заметна и вследствие краткости цикла более практична. Из двух систем времяисчисления – по Солнцу и по Луне – первая проще из-за наглядной связи с чередованием сезонов, вторая удобнее для измерений как меньшим числовым рядом, так и большей наглядностью – счёт дней подтверждался изменением формы лунного диска. Хотя лунный месяц не выразить точно целым числом суток, а год – целым числом суток или лунных месяцев, история не знает народов, не умеющих определять время с помощью Солнца и Луны. Важно отметить, что “представление о годе и специальное слово для его обозначения были, как свидетельствует этнография, у всех народов Северной Евразии” [Фролов, 1993, с. 10]. Год делился на две части – летнюю и зимнюю, на сезоны и на месяцы.
Судя по дошедшим до нас архаичным календарным системам, изученным этнографически и астрономически, самые древние календарные системы сопряжены с движением Луны, а первобытная мифология мира к Луне обращается в целом значительно чаще, чем к Солнцу. Первобытным традициям народов мира известны и округлённый (28 дней) лунный месяц, и довольно точные значения синодического и сидерического месяцев.
В Луне как универсальных “часах” прежде всего приковывала к себе внимание наиболее существенная – двойственная – сторона её метаморфоз, а именно распадание цикла на две практически равные части: на протяжении первой Луна растёт до полного диска, на протяжении второй постепенно убывает до полного исчезновения. “Поворот” обычно приходится на 14-е сутки с момента её рождения, а ещё через 14 суток Луна исчезает. В массивах палеолитической графики встречаются многочисленные нарезки, зарубки и тому подобные знаки, соответствующие порядку и числу дней в лунном месяце: 14 нарезок идут в одном направлении, а следующие 14 резко меняют это направление [см. Фролов, 1993].
Это обстоятельство помогает понять и последний этап эволюции к выделению в календарных единицах числа 7: деление на две равные части отрезка из 14 суток. И здесь тоже мысль древних опиралась на зрительные аналогии: половина диска Луны в её первой и последней четверти, 7 звёзд Плеяд и Большой Медведицы, семь планет и тому подобное – и в итоге семёрка окончательно закрепилась в языке, календаре и космологических представлениях. Существовали и психологические факторы: 7 дней оказались наиболее удобными для ориентировки в длительных промежутках времени, то есть соответствовали естественным границам оперативного внимания и памяти; такая совокупность позволяла оперировать максимальным числом дней без усилий на предварительную “перекодировку” их в специальную новую единицу. Таким образом, “магическая семёрка” ещё в палеолите связывалась с лунными ритмами, с представлениями о времени, о космосе, о плодородии, жизни и смерти (аналогия с “умиранием” и “возрождением” Луны на небе через одинаковые промежутки времени) – представлениями, получившими столь значительное развитие в позднейшей астрологии. Данный фактор также не был принят во внимание Радьяром.
Исследования последних десятилетий однозначно говорят о существовании лунного календаря в графике палеолита на всей территории её распространения – от Камчатки до Пиренеев [см. Ларичев, 1989]. К условным изображениям динамики лунных (и вообще космических) циклов относятся спирали, зигзаги, меандр и другие подобные фигуры, находимые в памятниках материальной культуры каменного века.
Символика чисел, кратных 7, в ряде местонахождений палеолитической календарной графики (Мезинская стоянка близ Чернигова, стоянка Мальта на Ангаре и другие) переплеталась с символикой чисел, кратных 3, – в очевидной связи с вертикальной протяжённостью первобытной модели мира, с делением вертикали на 3 (небо – земной мир – подземный мир) и, вероятно, с восходом и заходом небесных светил в их видимом ежедневном движении. Это также связано с формированием систематического счёта на основе чисел 3 и 6, сопряжённого с универсальной 5-ти–10-тиричной системой, распространившейся затем у многих народов Старого Света. До открытий последних десятилетий, сделанных в изучении палеолитической графики [см. Ларичев, 1993], введение делений, кратных трём (6-, 12-, 60-ричные), обычно связывали с математикой и астрономией шумеров. Теперь же очевидно, что такие деления были известны гораздо раньше [Фролов, 1993, с. 23]. Семеричная “модель мира” шумеров и вавилонян была лишь одним из поздних проявлений архаических традиций палеолитического населения Европы, в которых не только выделялись 7-дневные отрезки соответственно фазам Луны, но и акцентировались рядом изображений группы из 7 персонажей, имена которых в принципе могли соотноситься с днями недели.
Здесь следует отметить, что, систематически наблюдая прежде всего за движением Солнца и Луны, люди эпохи палеолита не могли оставлять без внимания другие небесные светила. Такой важный ориентир, как Полярная звезда, был выделен очень рано – в связи с формированием представления о четырёх сторонах горизонта; в искусстве и всей материальной культуре верхнего палеолита разделение северного, южного, западного и восточного направлений стало устойчивой традицией. Очевидно, на ночном небосводе люди палеолита могли выделять и другие светила и группы светил, а для обозначения их пользоваться универсальным для первобытного мира способом, обращаясь к стереотипам своих промысловых и общинно-родовых представлений.
Большой интерес представляют зафиксированные археологией и этнографией случаи полного совпадения группировки звёзд в созвездия у далёких друг от друга народов, сохранявших вместе с тем немало таких черт в своей культуре, которые были присущи палеолитическим культурам Евразии. Наглядным примером может служить созвездие Большой Медведицы: с каким бы животным ни ассоциировалось оно у народов севера Азии (с медведем – у орочей, с диким оленем – у коряков, с лосем – у хантов и тунгусов, с ланью – у бурят), оно состоит из тех же семи звёзд. А вот созвездие Плеяд обозначали в противоположных точках земного шара – у аборигенов Австралии, индейцев Америки, коренного населения Сибири, в античном Средиземноморье – одним и тем же образом “семи сестёр” [Фролов, 1993, с. 25–26]. Аналогичным образом, название “Скорпион” присваивалось одной и той же группе звёзд в таких различных культурах, как протоиндийская, шумерская и ацтекская [Альбедиль, 1993, с. 80; Николов, Харалампиев, 1991, с. 182]. Окончательного решения проблемы появления таких совпадений у современной науки нет. Наиболее естественным объяснением здесь может быть гипотеза о том, что выделение этих созвездий и образное их обозначение по времени предшествовали заселению Америки и Австралии, то есть возникли в палеолите.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |




