В. П. МАКАРЕНКО
ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО ЗЛА:
расплата за непоследовательность
Москва
Вузовская книга
2000
ББК 60.55 M 69
Проблема общего зла: расплата за непоследовательность. - М.: Вузовская книга, 20с. ISBN I-7
В книге анализируются узловые пункты концепции А. Хиршмана — одного из главных представителей «исторической школы» в социологии, экономической теории, политологии, теории организации и управления. Эвристический потенциал теории «неожиданных последствий» будет интересен для студентов и специалистов всех гуманитарных дисциплин.
© , 1999
ISBN I01-7 ©«Вузовская книга», оформление, 2000
Предисловие
После распада СССР и краха «мировой системы социализма» генезис, функцгонирование и перспективы капитализма опять стали главной темой политических дебатов и академических дискуссий. В частности, теоретико-социологические аспекты проблемы обсуждались на одном из «круглых столов» журнала «Социологические исследования»1. Дискуссия сконцентрировалась вокруг доклада . Его позиция могла быть сведена к следующим основным положениям.
По мнению коллеги, генезис термина «капитализм» связан со взглядами мелкобуржуазных социологов середины прошлого века. Он означал определенную экономическую систему. Тогда как в марксизме «капитализм» никогда не был экономическим понятием, а мировоззренческой категорией. Эта категория на протяжении второй половины XIX в. отождествлялась с понятием «современность». Причем, такое отождествление было типично как для радикалов (социалистов и коммунистов), так и для либералов. полагает, что взгляды либералов более продуктивны в теоретическом отношении. Например, М. Вебер был национал-либералом по своим политическим ори-ентациям. И на рубеже XIX-XX вв. он предложил разделить капитализм на «архаичный» и «современный». Только второй из указанных идеальных типов капитализма связан с генезисом множества факторов, определивших культурно-историческую уникальность европейского капитализма.
Различие между указанными типами капитализма существовало на протяжении двух третей XX в. Однако в 1970-е гг. снова произошло отождествление капитализма и современности. Понятие капитализма опять выполняет мировоззренческую роль. с этой тенденцией не согласен. Со ссылкой на труды Ф. Броделя он трактует нынешний европейский капитализм как «паразитический нарост» на отношениях обмена. Эта болезнь присуща капитализму в той степени, в которой нарушаются правила эквивалентного обмена. В Европе давно
3
существуют слои «честных капиталистов» и «мошеннических утилизаторов». Последние всегда «деформировали» позитивные результаты спонтанного развития рыночной экономики.
считает, что руководство России при выработке программы социально-экономических преобразований заимствовало опыт европейских мошенников. В результате в стране сегодня господствует дикий, разбойничий, авантюристический, торгово-ростовшический капитализм. В нем можно обнаружить все признаки «архаичного» капитализма. Поэтому для оценки ситуации в современной России Веберрвская концепция капитализма более продуктивна, нежели взгляды Маркса и современных левых теоретиков.
Давыдова изложена в многочисленных публикациях. За последние годы она стала популярной не только в социальной науке, но и в публицистике. Кстати, все участники «круглого стола» поддержали идею о «современном» или «нормальном» капитализме. Правда, из нее следуют противоречивые выводы.
С одной стороны, в России никогда не было и нет до сих пор «нормального» капитализма. К тому же все участники дискуссии согласны с тем, что заимствованные на Западе «образцы» социально-экономического развития никогда ни к чему хорошему не приводили. С другой стороны, в современном мире вмешательство государства в экономику является «нормой». А Россия здесь издавна чемпион...
Короче говоря, точка зрения порождает больше вопросов, чем предлагает ответов и аргументов. Но в этой небольшой книжке я не буду даже пытаться их систематизировать. Меня интересует единственный вопрос: существует ли в современной социальной науке концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым могут сравниваться все остальные? Этот вопрос может быть разбит на несколько соподчиненных проблем: можно ли концепцию М. Вебера считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций? являются ли интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, наиболее надежной формой таких трансформаций?
4
Глава 1 Реальная проблема и ложная дилемма
В одной из предыдущих статей я уже упоминал теорию неожиданных последствий при обсуждении вопроса о связи групповых интересов с властно-управленческими процессами1. Однако диапазон указанной теории значительно шире. В частности, называет «блестящими и глубокими» работы А. Хиршмана, посвященные проблеме становления рыночной экономики2. Но эти работы в социальных науках России остаются практически неизвестными. Я попытаюсь восполнить этот пробел.
А. Хиршман развивает свою концепцию в противовес главным направлениям социальной мысли Нового времени. В его трудах обосновано принципиальное положение: ни рыночная, ни централизованная, ни смешанная экономика не являются эффективными средствами решения социальных проблем. Ни один из указанных видов экономики не может считаться образцом для подражания.
Однако в массе интеллектуальной продукции, в практической политике и публицистике господствуют до сих пор противоположные подходы. Здесь можно напомнить пресловутую полемику между «купцами и кавалеристами» (А. Стреляный) или «идеалами и интересами» (А. Нуйкин) в начале «перестройки» в СССР. В сегодняшней России тоже существуют адепты рыночной управляемой сверху, и смешанной экономики. Этот факт свидетельствует о кризисе всей системы социального знания. Социальные науки в целом пока не в состоянии описать губительные последствия развития экономики в любых социальных системах — капиталистических, социалистических, смешанных. Анализ таких последствий и определяет содержание исследований А. Хиршмана.
Не менее того в современном социальном знании распространено противопоставление Вебера и Маркса. Оно приобрело статус стереотипа. Действительно, эти мыслители различаются между собой в оценке относительного значения экономических и внешнеэкономических факторов. Но есть и моменты сходства позиций Маркса и Вебера:
- анализ генезиса капитализма и рождения его духа как борьбы с прежними идеалами и социальными отношениями;
5
- общее убеждение в коренной противоположности между «традицией» и «современностью»; для обоснования данной противоположности Маркс создал теорию общественно-экономических формаций, а Вебер — концепцию идеальных типов экономики, социальной структуры, господства и образов жизни;
- описание социальных изменений (в том числе генезиса и функционирования капитализма) в категориях рождения новой социальной системы;
- убеждение в том, что новые этосы или идеологии возникают более или менее параллельно процессу упадка прежней системы отношений.
Указанные гносеологические и мировоззренческие установки присущи как Марксу, так и Веберу. В результате ни тот ни другой не обращали внимания на способы воспроизводства старого в новом или рассматривали эту проблему как второстепенную.
А. Хиршман ставит перед социальными знаниями более сложную задачу — выявить и описать процессы становления и изменения идеологий как длительный эндогенетический процесс, повлиявший на субординацию всех (внешних и внутренних) факторов при генезисе новой социальной системы. Для этого надо установить последовательность взаимопереплетения идей, принадлежащих к совершенно противоположным идеологиям — либеральной, консервативной, социалистической. Речь идет о построении таких теорий экономики, общества, политики, идеологии и культуры, которые были бы свободны от всех (или хотя бы главных) исторических форм, идеалов и институтов, типичных для идеологий Нового времени.
Однако ни одна школа социальной мысли XX в. этого сделать не смогла. Нынешнее поколение ученых во всех сферах социальных знаний все еще движется в кильватере духовных вождей, создавших главные идеологии современности. А сами вожди, обычно, не осознают или равнодушны к проблеме непредвиденных последствий собственной системы взглядов. Если бы такие следствия были известны заранее, — не исключено, что Локк и Бентам отказались бы от либерализма и утилитаризма, Берк и Токвиль — от консерватизма, а Маркс — от социализма.
Почему же такое осознание невозможно по определению? Потому что для всех идеологий Нового времени отношение между идеями (идеалами) и интересами было и остается по сей день центральной проблемой социального знания и практической политики. Акцент на идеи или интересы породил целую гамму те-
6
орий. В любой из них связь между идеями и интересами трактовалась либо как отношение детерминации (прямой или обратной), либо как отношение констелляции. Ни одно из направлений социальной мысли даже не пыталось отбросить данную альтернативу целиком. А ее идейные предпосылки пока еще изучены недостаточно. А. Хиршман прослеживает специфическую «логику» становления данных предпосылок.
*"В докапиталистических обществах был наиболее распространен героический этос (с мотивом и идеалом славы)· Затем его заменил буржуазный этос со всеми добродетелями протестантской этики. В какой же момент времени торгово-промышленная деятельность начала рассматриваться как занятие, достойное человека? Ведь на протяжении более тысячи лет — т. е. в период идейного оформления, институционализации и распространения христианства — в торговле и промышленности видели воплощение пороков в жадности, скупости и жестокости. Затем вдруг торгово-промышленной деятельности начали приписывать положительные свойства. Причем, эта модификация не заключалась в упадке традиционных ценностей: «Критика героического этоса нигде не сопровождалась пропагандой нового буржуазного этоса»3. Исторические, психологические и культурные причины столь неожиданного изменения оценок до сих пор являются предметом дискуссии.
С чего же все началось? С попыток создать новую теорию государства. Она должна была усовершенствовать искусство политического управления в рамках существующего порядка. Макиавелли заложил основы этой теории. Он не пытался создать новый этический кодекс. А предложил рассматривать человека таким, каким он есть на самом деле. Люди руководствуются страстями, а не верой и не разумом. Это порождает бесконечную цепь жестокостей, из которых и состоит человеческая история. Требования христианской морали, включая угрозу осуждения на вечные муки, нисколько не улучшили человеческую природу. Значит, надо найти более эффективные средства для совершенствования людей и управления обществом. Начался интенсивный поиск средств, образующих альтернативу христианской морали.
В этом контексте было сформулировано три рецепта:
- применять насилие;
- сдерживать страсти путем убеждения;
- использовать страсти для достижения «общего блага».
7
Эти рецепты были преобразованы в проекты социального развития. Они существуют до сих пор как наиболее распространенные варианты идеологии, социальной теории и политики, порождая бесчисленные комбинации.
Первые два средства были, известны издавна и новизной не обладали. Третье привело к повороту всей ориентации социальной мысли. Да, жадность и своекорыстие — главные человеческие страсти, но на их основе может быть построен справедливый социальный порядок. Главный аргумент для доказательства этого положения сформулировал Мандевиль. Божественное провидение использует человеческие страсти для обеспечения общего блага и потому надежды на лучшую жизнь терять не следует!
Первоначально слова «страсти» и «жадность» были нагружены отрицательным смыслом. Постепенная эволюция языка привели к тому, что они были заменены нейтральными терминами «польза» и «интерес». Тогда как идея о возможности использования страстей для достижения общего блага стала главным элементом либерализма и парадигмой политической экономики. Если вспомнить Н. Лескова, эта «сиянс-госпожа» сразу стала претендовать на статус «главной» социальной науки.
Одновременно указанная идея повлияла на выработку представления о закономерном характере социальных процессов. На его основе были созданы гегелевская, марксистская и позитивистская концепции социально-экономических закономерностей. Все они восходят к метафоре «хитрость разума». Эта метафора выражала убеждение: хотя люди живут страстями, на самом деле они служат достижению некой высшей общечеловеческой цели, которая непостижима для индивидуального сознания. Метафора «хитрость разума» была введена в социальную философию Вико и Гердером, а окончательную легитимизацию получила в философии истории и философии права Гегеля. Как известно, немецкий ученый колпак положительно оценил страсти, поскольку в них непосредственно проявляется и воплощается «хитрость разума»..
Короче говоря, модификация моральной оценки страстей с отрицательной на положительную предшествовала становлению социальной теории. Затем происходила легитимизация страстей как предмета теоретического анализа.
Предполагалось, что все люди руководствуются тремя главными страстями — эгоизмом, жаждой власти и богатства. Эти страсти противостоят как вере (условиям христианского спасе-
8
ния), так и разуму. Они порождают войну, голод и мор — три главных несчастья человеческого рода. Одновременно страсти свирепы по отношению друг н другу. В целях их теоретической легитимизации были обоснованы идеи о взаимопожирании (Ф. Бекон и Спиноза) и равновесии (Юм) страстей: «Мысль об управлении социальным прогрессом посредством продуманного установления одной страсти против другой стала распространенным занятием интеллектуалов XVIII века»4.
В XVII в. идея взаимопожирания страстей вытекала из общего пессимистического взгляда на человеческую природу и убеждения в том, что страсти опасны и деструктивны. В XVIII в. произошла полная реабилитация страстей. Она выражала оптимистические представления (прежде всего французских материалистов) о возможности «улучшения и исправления» человеческой природы. Гельвеций первым снабдил термин «интерес» положительным смыслом. Он обозначил этим термином только те страсти, которым приписывались уравновешивающие функции.
Таким образом, история социальной теории есть процесс превращения моральных оценок в онтологические основы и гносеологические принципы социального знания. Отсюда вытекает тотальная аберрация мышления, которая еще далеко не закончилась.
«Отцы-основатели» США и вожди Французской революции пали первыми жертвами преобразования моральных оценок в политические постулаты. Те и другие начали использовать идею равновесия страстей как идеологические оружие для обоснования и практической реализации принципов разделения власти и социального договора. Американские демократы и французские революционеры полагали, что оба института не задевают человеческую природу и являются универсальными свойствами общества. На самом деле в основании принципа разделения властей и теории социального договора лежит представление о животной природе человека.
«Примечательно, — пишет А. Хиршман, — что при обосновании принципа разделения власти эта идея была переодета в другую одежду. Сравнительно новая мысль о контроле властей путем их взаимного сдерживания и уравновешивания стала убедительной благодаря представлению ее в форме общеизвестного и общепринятого принципа равновесия страстей»5. Иначе говоря, практика демократического конституционализма и революционного преобразования общества опираются на одни и те же теоретические основания
9
Теория социального договора стала элементом достижения равновесия. Гоббс во всех своих сочинениях лишь один раз сослался на равновесие страстей. Без этой ссылки он не мог сформулировать теоретическое обоснование государства. Причем такого, в котором раз и навсегда решены все проблемы, вытекающие из человеческих страстей. Однако большинство либералов и демократов не замечают собственной непоследовательности и применяют указанную стратегию постоянно. Она является результатом еще одной идеологической аберрации — противопоставления интересов и страстей. На этих иллюзиях — разделения власти в социальном договоре — до сих пор держится вся теория и практика демократии и связанная с нею парадигма социальной мысли Нового времени.
Природа указанных иллюзий состоит в том, что интересы начали отождествляться с материальной выгодой и пользой индивидов и групп. Этот смысл до сих пор является главным в повседневной жизни, политическом языке и словаре социальных наук. На протяжении XIX—XX вв. выражения «государственные», «классовые», «национальные», «групповые» и тому подобные интересы стали общепринятыми и уже не вызывают никаких возражений. Однако вплоть до XVII в. под интересом понималась совокупность человеческих намерений и связанных с ними размышлений. На протяжении последних 300 лет происходило сужение данного смысла с одновременной универсализацией единственного мотива человеческой деятельности — стремления к материальной выгоде и пользе.
В рамках данного процесса А. Хиршман выделяет две тенденции.
Первая восходит к Макиавелли и связана с отождествлением интересов с «государственным разумом» (принципами существования государства): «Эти понятия должны были вести борьбу на два фронта. С одной стороны, в них явно декларировалась независимость от правил и требований христианской морали, образующих основание политической философии до Макиавелли. С другой стороны, они должны были определить рациональную волю, не замутненную страстями и ежеминутными порывами. Именно такая воля становилась для Князя путеводителем»6. Однако доктрина Макиавелли ограничивала властвующих лиц ничуть не меньше, чем прежняя христианская мораль.
Властвующие обязаны были доказывать, что все их поведение определяется исключительно «высшими государственными
10
соображениями», свободными от личных страстей, произвола, династической политики, комбинаций политической игры и т. п. Но никто из людей, стоящих у кормила власти не собирался меняться в соответствии с доктриной. Поэтому отождествление интересов с «государственным разумом», (принципами существования государства) вскоре обнаружило свою бесплодность: «Если традиционные христианские стандарты добродетельного поведения были труднодостижимыми, то не менее трудно было определить интерес»7. Тем самым использование понятия интерес для обозначения властвующих лиц и структур государства (класса, нации, группы, вероисповедной общности и т. д.) становилось крайне размытым и могло обозначать любое случайное содержание. Но этот случайный произвол теперь выступал в маске необходимости и приобретал «теоретический» статус. Данная традиция существует до сих пор в социальной и политической практике и теории.
Вторая тенденция в истолковании интересов заключалась в отождествлении их с поведением индивидов и социальных групп: «Связь эгоизма и расчета стала квинтэссенцией поведения в соответствии с собственным интересом. Она показалась многообещающей в дебатах об искусстве управления»*. В начале XVII в. концепция интереса определялась в контексте династической внешней политики. Но под влиянием революции и гражданской войны в Англии эта концепция начала использоваться для идентификации проблем внутренней политики. Они определялись отношениями между вероисповедными группами пресвитериан, католиков, квакеров и т. д. После стабилизации политической ситуации и установлении религиозной толерантности под интересом начали понимать стремление «делать деньги». Оно стало эквивалентом всеобщего интереса. А. Смит придал этому понятию теоретическое содержание, полагая улучшение благосостояния главным мотивом поведения людей.
Аналогичный процесс шел во Франции. Здесь исходный смысл интересов определялся вопросом Макиавелли: что требуется для роста влияния, власти и богатства государства? По стандартам героического этоса для этого надо иметь честь и славу. Теперь социальный и моральный смысл интересов начал заменяться материальной выгодой. Первоначально такой мотив поведения был типичен для евреев-ростовщиков. Под влиянием данной социально-вероисповедной группы материальные интересы начали считаться универсальным мотивом поведения.
11
Тем более что у большинства простых людей не было никаких иных доказательств достойного существования, кроме материального благополучия.
В результате указанных процессов внимание возникающей социальной теории начало концентрироваться не на поведении властвующих лиц, а на поведении подвластных. Так возник еще один узел для связи социальной науки с произволом властвующих элит. Эта традиция тоже сохраняется вплоть до настоящего времени.
12
Глава 2 Интерес как новая парадигма социальной мысли
А. Хиршман показывает, что интеллектуальная история понятия интересов парадоксальна: сужение смысла понятия шло параллельно с универсализацией его одной стороны.
Первоначально интерес означал способность рационального, расчетливого и дисциплинированного руководства эгоизмом, жаждой власти, богатства и противопоставлялся страстям. Тем самым с помощью интереса в поведение людей вводились элементы расчета и предусмотрительности. Но в результате такого противопоставления возникло убеждение: одну группу страстей (жадность, алчность, скупость, своекорыстие, любовь к деньгам) можно использовать для усмирения других страстей (тщеславия, плотских и властных желаний). Неожиданное следствие заключалось в том, что этот смысл интереса соответствовал традиционным ценностям Отсюда вытекало: люди (человеческая природа) не обязаны меняться ни по религиозным, ни по рационалистическим рецептам.
Следовательно, любые ссылки на любые интересы в последующем развитии социальной и политической мысли и практики содержат в себе значительную долю традиционализма и консерватизма. Хотя этот момент обычно не осознается ни либеральными, ни социалистическими апологетами интересов.
Так была создана важная интеллектуальная предпосылка для связи илеи равновесия страстей с идеей их неизменности. Теперь эта неизменность выступала под прикрытием интересов. Обе эти идеи восходят к Макиавелли. Но конечный результат заставил бы его перевернуться в гробу: алчность становилась главной и привилегированной страстью, на которую к тому же возлагалась задача обуздывать другие страсти! И этот противоестественный и ядовитый симбиоз приобретал статус «вклада» в искусство управления государством и социальное знание...
Раньше алчность оценивалась отрицательно. Теперь «делание денег» было названо интересом. А само понятие интереса стало претендовать на оценочную нейтральность, объективность и теоретический статус. Однако в основе столь «нейтрального теоретизирования» лежит до сих пор положительная оценка самой мерзкой человеческой страсти. К тому же подобная аберрация связывалась с надеждой на возможность и научного руковоства обществом. Эта возможность была первоначально
13
реализована в просвещенном абсолютизме. В его основе как системы политического устройства лежит самое грязное своекорыстие. Зато теперь оно могло прикрываться соображениями о «государственных интересах».
Интересы стали новой парадигмой социальной философии и политики. В конце XVII в. максима «Интерес не подведет» была преобразована в теоретический постулат «Миром правят интересы». Но в первом случае имелась в виду способность рационального руководства страстями. Во втором — одна страсть становилась господствующей. И никто вначале не вдумывался в эти тонкости. Понятие интереса казалось самим собой понятным. Никто не пытался дать строгого определения интересов и выяснить их отношение к страстям и разуму.
Со времен Платона категории страстей и разума доминировали при анализе мотивов человеческого поведения. Однако исторический опыт показал что страсти деструктивны, а разум бессилен. Вера тоже не смогла исправить человечество. Такие результаты делали весьма мрачной перспективу существования человеческого рода. Но большинство людей отличается легкомыслием и не склонны задумываться о трагизме собственного существования. Тогда как большинство политиков и государственных мужей не желают учиться у Марка Аврелия — единственного философа на троне.
И европейские интеллектуалы в очередной раз пошли на поводу у большинства. Они умудрились «прописать» интересы (с указанной модификацией) между страстями и разумом. Эта процедура базировалась на воспроизводстве традиционной христианской ценности Надежды. Правда, теперь Надежда выступила в наряде социальной теории. Теория обещала: жить станет лучше и веселей, если люди будут руководствоваться интересами. Философы предпочли оптимистическое обещание беспощадному анализу мотивов человеческого поведения, из которых вытекали и вытекают до сих пор убийственные перспективы. Почти никто из мыслителей не желал создать такую социальную философию и теорию, в которых бы содержалось еще большее осуждение человека по сравнению с христианской религией. Речь идет о том мотиве христианства, в котором содержится абсолютное и безусловное отбрасывание мира и обвинение человеческого рода.
Интерес стал новой гибридной и противоестественной формой человеческого поведения. И ее начали считать свободной от разрушительных страстей и бессильного разума. Прежде жад-
14
ность, пиетет перед деньгами и материальным благополучием вообще считался свойством рабов, евреев, лакеев и простонародья. Теперь из этой страсти сделали залог «светлого будущего»: «Доктрина интереса в данное время была воспринята как действительный завет спасения»'.
Правда и в XVII в. более проницательные философы и просто умудренные жизнью люди не дали себя увлечь новой доктриной. Одни (Боссюэ) отвергли ее целиком, другие (Спиноза) сомневались в параллелизме страстей и интересов, понятых как «разумный ' эгоизм», третьи (маркиз Галифакс) полагали, что люди не в состоянии распознать собственные интересы. Однако оптимистические ожидания победили трезвую мысль. Надежда на спасительную роль интересов стала первой и главной интеллектуальной модой нового времени. И социальная мысль и политика до сих пор находятся под ее гипнозом!
Потребовалось совсем немного времени для горького похмелья. В XVIII в. интересы подверглись сокрушительной критике. А страсти были реабилитированы как потенциально положительная сила. Одни доказывали, что принцип «Люди руководствуются только интересами» полагает мир хуже, чем он есть на самом деле. Другие выдвигали принцип «Люди живут страстями». Мир, в котором господствуют страсти, тем самым полагался лучшим по сравнению с миром, в котором доминируют интересы. Действительно, едва интерес был сведен к своекорыстию, мир потерял привлекательность. Постулат «Интересы правят миром» превращался в жалобу или обвинение мира, в котором, кроме цинизма, ничего не существует. Поэтому Юм развил концепцию, согласно которой страсти могут улучшить мир, управляемый интересами. Реабилитация страстей соответствовала оптимистическим идеалам Просвещения. Оно окончательно отбросило типичный для Возрождения трагичный образ человека и мира.
Надо учитывать, что сами термины «оптимизм» и «пессимизм» появились в философском и социальном словаре лишь в XVIII в. В этом контексте использование данных терминов для обозначения любого поведения, взгляда на мир или продукта духовного творчества означает либо косвенное согласие со всей цепью описанных преобразований, либо элементарное бессмыслие.
Короче говоря, вся мысль Нового времени кружила вокруг нормативных постулатов, связывая с ними познавательные концепции. Вначале страсти оценивались отрицательно, а
15
интерес положительно. Затем произошла перестановка оценок. Страсти вошли в симбиоз с интересами и начали оцениваться положительно. С таким симбиозом связано становление политической экономии и, опосредованно, всей системы социальных наук. Эта связь и определила все главные просчеты и поражения социальной мысли на протяжении последних двухсот лет. Она до сих пор не смогла освободиться от морально-мировоззренческих постулатов.
Реабилитация страстей ничего не добавляла в их традиционное содержание. Зато максима «Интересы правят миром» вызвала значительное интеллектуальное оживление: наконец-то найдена реалистическая основа для жизнеспособного социального строя!
Интересам начали приписывать достоинства предвидимости, неизменности и постоянства. То есть, как раз те качества, которые раньше фиксировались только в природном мире. Предполагалось, что если человек руководствуется лишь собственными материальными интересами, то не только ему, но и другим людям будет хорошо. А если действия мотивированы интересами, то их можно предвидеть подобно тому, как нетрудно предсказать поступки добродетельного человека. Тем самым жадный и алчный человек превращался в идеал истинного христианина! Облегчалась и задача властвующих: «По сравнению с теорией экономики теория политики раньше обнаружила шансы взаимной пользы, достигаемой с помощью интереса»2. Однако и политическая экономия вскоре отправилась в лакейскую Каноссу!
Дело в том, что сфера международной политики была и остается неподконтрольной ни христианским принципам, ни диктату разума. В этой сфере обычно выступают взаимоисключающие интересы. Каждое государство стремится к расширению собственного влияния, власти и богатства. В этом смысле ни одно из государств не является самостоятельным: «Интерес данного государства является зеркальным отражением интересов его главного противника»3. Непредвидимость и непредсказуемость — существенные компоненты международной политики. В ней и воплощаются самые зверские человеческие страсти. Предложить что-либо новое в этой сфере философия не смогла. Поэтому она облегчила себе задачу.
Представление о равновесии страстей и интересов было перенесено в сферу внутренних конфликтов государства. Оно положило начало живой до сих пор концепции «равновесия
16
сил». Наибольшую пользу от предвидимого поведения начали усматривать в экономической деятельности. Локк обосновал идею о том, что неопределенность поведения индивидов и групп есть главный внутренний враг государства. И этот враг должен быть побежден любой ценой!
В результате всякое непостоянство стало рассматриваться как важнейшая помеха для создания такого социального строя, в котором решены главные моральные, социальные и политические проблемы. Тем самым в либерализме не были заложены теоретические основания свободы. Либерализм стал источником всеобщей регламентации социальных процессов. С этой регламентацией, в свою очередь, связан рост значения репрессивных институтов в обществе. Другие направления социальной мысли и практики — социализм и консерватизм — без всякого труда могли заимствовать эту идею, прикрывая ее лозунгом «свободы».
Так завязывались узлы между политикой и экономикой. Интерес отождествлялся с любовью к деньгам как вполне легальной и главной страстью. Причем эта страсть оценивалась положительно лишь в той степени, в которой накопление денег становилось самостоятельной целью, а не средством «красивой жизни». Данный момент обстоятельно проанализирован М. Ве-бером. А. Хиршман подхватывает эстафету, но обращает внимание на парадокс: раньше алчность квалифицировалась как наиболее опасная страсть; теперь она становилась добродетелью, поскольку связывалась с постоянством поведения индивидов. «Для того, чтобы столь радикальное изменение оценки стало убедительным, надо было снабдить алчность безвредностью»4. И эту задачу тоже выполнили философы!
Превращение материальных интересов в постоянные страсти вело к тому, что они начали сметать все на своем пути. Сто лет спустя осознание этою факта нашло наиболее полное выражение в «Манифесте Коммунистической партии». Как известно, становление капиталистического общества сопровождалось всеобщей коррупцией. Деньги начали рассматриваться как наиболее сильная социальная связь. Она не шла ни в какое сравнение с кровнородственными отношениями, честью, дружбой и любовью. Представление о деньгах как сильнейшей социальной связи было и остается до сих пор самой распространенной и опасной формой идеологии. К тому же она не нуждается в доказательстве именно в силу своей повсеместности. Никакая политика, даже
17
самая революционная, не смогла сломить это убеждение. Большинство политиков и теоретиков даже не ставили перед собой такой задачи. В результате развитие общества и социального знания пошло по совершенно другому пути.
Стремление к удовлетворению собственных материальных интересов было признано множеством мыслителей невинным и безвредным занятием. Однако это признание — непредвиденное следствие длительного господства идеалов аристократии. Она всегда питала презрение к ростовщикам, купцам и промышленникам. Это — грязные, серые и неинтересные люди, социальные отбросы и маргиналы. Аристократическое презрение породило убеждение в том, что торгово-промышленная деятельность лежит за пределами добра и зла, является этически нейтральной и потому не может играть важную социальную роль. «В определенном смысле победа капитализма, — пишет А. Хиршман, — как и победа множества современных тиранов, многим обязана всеобщему презрению к купцам и промышленникам. Это презрение не способствовало серьезному отношению к данной группе и не позволяло поверить в ее способность к великим делам и свершениям»5.
Для обозначения парадоксального синтеза презрения и невинности был изобретен специальный термин «douceur». Он означал мягкость, покой, комфорт и наслаждение — в отличие от непостоянства, стремительности, порыва и беспокойства, порождаемых другими страстями. Предполагалось, что погоня за деньгами и торговля смягчают и облагораживают нравы людей. Этот смысл и вошел в выражение «благородные народы». Оно противопоставлялось «диким и варварским народам». Указанные метафоры стали первой попыткой осознания дихотомии, которая в XIX—XX вв. приобрела вид противоположности между «историческими» и «неисторическими», «развитыми» и «отсталыми» нациями. Эта противоположность сохраняется по сей день в различных вариантах философии истории, теориях социального развития, модернизации и цивилизации.
Корни указанного термина связаны с некоммерческим значением коммерции. Оно означало не только торговлю, но и приятную беседу и другие формы любезного общения людей, в том числе между мужчиной и женщиной. Но даже филологический смысл выражения «doux-commerce» поражает апологетикой и несоответствием действительности. Облагораживание коммерции происходило в XVIII в. На этот период как раз приходится
18
пик коррупции и работорговли. Да и обычная торговля была крайне жестоким, рискованным и опасным предприятием. Иначе говоря, все аргументы в пользу торговли содержат идеологические конотации.
И все же в конечном счете «делание денег» начало рассматриваться как стабильная и спокойная страсть. Она переплелась с достижением частных интересов. Мирная жажда обогащения (в отличие от жадности) требовала действий с опорой на разум. Такое понимание интересов утвердилось в XVII в. Расчетливая погоня за деньгами осознавалась как сильная, но спокойная страсть, способная победить бурные, но слабые страсти. Своекорыстие начало противопоставляться стремлению к наслаждениям. Особый акцент на этом сделал Юм: «Ведущий философ эпохи прославлял капитализм потому, что он должен был оживить полезные склонности людей за счет вредных и подавить, а то и уничтожить, деструктивные и губительные свойства человеческой природы»6.
Лишь только после осуществления указанных семантических и идеологических процедур начала культивироваться надежда на то, что развитие экономики позволит решить все проблемы и улучшить социальный и политический строй. Таким образом, возникающая социальная наука так и не смогла освободиться от христианского принципа Надежды. Правда, теперь он выступал в виде экономикоцентризма — наиболее распространенной иллюзии последних двухсот лет.
19
Глава 3 Можно ли с помощью экономики улучшить социальный строй?
А. Хиршман детально прослеживает основные звенья этого процесса. Зеленый свет для погони за деньгами — продукт длительного развития европейской мысли. Тогда как принцип «Интересы противостоят страстям» остается до сих пор малоизвестным и неизученным. Существует несколько причин указанного «белого пятна» в социальном знании.
Прежде всего данный принцип относится к так называемому «неосознанному знанию». К. Поланьи определял таким образом комплекс убеждений, настолько очевидных для данной группы, что они никогда не выражаются полностью и систематически. Кроме того, «белое пятно» возникло в результате развития экономической мысли. В частности, А. Смит пренебрег различием между интересами и страстями. Он подчеркивал положительные, а не отрицательные политические следствия экономической деятельности. Однако теория А. Смита лишь завершила длительный процесс. Она сама стала неожиданным следствием надежды на то, что с помошью политики (искусства управления государством) можно решить социальные проблемы.
В трудах Монтескье, Д. Стюарта и Д. Миллара начала формироваться противоположная тенденция.
Монтескье сформулировал и обосновал положение о позитивном влиянии торговли на политику и культуру. По его мнению, демократия есть положительное следствие развития торговли. Как известно, торговля длительное время осуждалась церковью и потому стала занятием евреев. А бедные евреи долгое время страдали от преследований, насилия и эксплуатации со стороны королей и аристократии. В этой юдоли они находились до тех пор, пока не изобрели вексель — «невидимые деньги».
Однако главный аргумент Монтескье в пользу торговли и промышленности был типично верноподданным. По его мнению, торговля и промышленность способны предотвратить «злые умыслы» и государственные перевороты, которыми всегда отличалась и занималась аристократия. Поэтому французский мыслитель поставил интересы выше страстей и разума.
Он также первым сформулировал положение: прямая критика политиков за несоответствие их действий морали и разуму не имеет смысла. Она всех убеждает, но никого не исправляет. Лучше «пойти другим путем» — показывать бесполезность страс-
20
тей и намерений аристократии и властей. Иначе говоря, Монтескье придал принципу пользы политическое измерение.
Правда, взгляды Монтескье не отличались последовательностью. С одной стороны, он положительно оценивал развитие оборота векселей — «невидимого имущества». С другой стороны, опасался роста значения государственных ценных бумаг. Дело в том, что сразу же после изобретения векселя государственные займы и долги получили повсеместное распространение. И пока ни одно государство не собирается от них отказываться. Для борьбы с этим процессом Монтескье предлагал использовать принцип разделения властей и арбитража. Он питал иллюзию, что указанные средства положительно повлияют на международные отношения и увеличат шансы мира.
Общий вывод теории Монтескье поражает бездоказательностью: с одной стороны, торговля позволяет предотвращать гражданские войны, но, с другой стороны, способствует поддержанию военной морали в отношениях между государствами...
Стюарта были не менее противоречивыми. Он сформулировал ложную альтернативу в виде диалектического софизма: рост торговли и богатства увеличивает влияние политиков на поведение всех граждан и в то же время уменьшает сферу политического произвола в государственной власти в целом. Эта альтернатива повлияла на всю последующую политическую, экономическую и социальную мысль и практику. От нее до сих пор не могут освободиться ни либералы, ни социалисты, ни консерваторы. Подобный ход мысли, как показала последующая история, ведет в теоретические, политические и экономические тупики.
Для выхода из теоретического тупика Д. Стюарт сконструировал популярное до сих пор различие между властно-политическим произволом и строгим регулированием экономики. По его мнению, произвол власти обусловлен страстями властей предержащих. Тогда как строгое регулирование экономики приписывалось гипотетическому государственному мужу, который руководствуется исключительно общим благом. Развитие экономики устанавливает пределы для произвола и увеличивает потребность во вмешательстве власти в социальные процессы. Такое вмешательство и должно гарантировать устойчивое развитие экономики.
Для доказательства этого софизма Д. Стюарт сравнивал экономику с часами. Мир экономики уподоблялся вселенной, которой можно управлять извне. Произвол портит, а
21
регулирование исправляет часы. Под пером Д. Стюарта библейский Бог (создавший мир из глины) переквалифицировался в Главного Часовщика. Предполагалось, что сконструированные Богом часы могут ходить без всякой помощи со стороны людей. Правда, не всех. Для политиков и государственных аппаратов делалось исключение. Они уподоблялись часовщикам, регулирующим экономические механизмы.
Д. Миллар радикализировал этот вывод. По его мнению, государственный муж не может принимать произвольных решений, а должен непосредственно способствовать благосостоянию страны. Тем самым, экономические и политические механизмы ставились во взаимосвязь. Но как гарантировать правильный ход обоих? Такую гарантию Миллар усматривал в праве на восстание. Его аргументы были не менее механистическими.
Фабричные люди живут в городах. Масса горожан действует как машина, ход которой остановить невозможно. Рабочие постоянно совершенствуются в избранной профессии. Поэтому фабрично-городские слои меркантильно-ориентированных народов без всякого труда постигают общие интересы. Горожане обладают также возможностью контроля над государственными учреждениями и могут устранять невежественных чиновников. Поэтому любые массовые акции обладают положительным социальным смыслом. Трудящиеся массы обладают правом на восстание. Это право соответствует групповым интересам трудового народа и одновременно способствует совершенствованию конституции. Следовательно, плебейские массы выполняют рациональную и полезную функцию в экономическом процессе.
Монтескье, Д. Стюарт и Д. Миллар заложили основы первого направления, в русле которого категория интереса преобразовывалась в движущую силу экономического и политического развития.
Второе направление связано с физиократами. Они первыми потребовали ограничить оборот денег в торговле и промышленности. Главный аргумент состоит в необходимости увеличить определенность экономики. Физиократы также первыми заметили опасность того, что богатые купцы и промышленники могут применять средневековую корпоративную мораль для организации отдельных государств.
Физиократы соглашались с положением о том, что произвольная и некомпетентная политика тормозит экономический прогресс. Для предотвращения этого они сконструировали мо-
22
дель социального строя, в котором общие интересы тождественны индивидуальным интересам властвующих лиц. Такое тождество возможно только при абсолютной монархии.
Именно в этом контексте и была сформулирована доктрина о «гармонии интересов». Согласно данной доктрине, общее благо есть не столько результат стремления индивидов к собственной пользе, сколько следствие абсолютной власти. Идеальный политический строй может быть установлен только просвещенным монархом. Он является собственником всех средств производства и устраняет все конфликты межу властью и обществом.
Таким образом, посредством указанной интерпретации интересов физиократы защищали азиатский деспотизм.
А. Смит завершил эту концепцию. Монтескье и Стюарт были заняты проблемой ограничения власти короля. А. Смита больше беспокоило невежество и произвол аристократии. Он полагал-ее крах неизбежным, если только она решится использовать новые возможности потребления и улучшения материальной ситуации.
А. Смит тоже рассматривал политику как необходимую предпосылку и следствие развития экономики. В то же время он обосновывал необходимость государства не столько соображениями минимализации его функций, сколько потребностью установления рамок для произвола. Если произвол мешает экономике развиваться, то власть надо менять, а не ждать, когда она измениться сама по себе.
Отношение Смита к капитализму (особенно к принципу разделения труда) было неоднозначным. Но он первым заметил неожиданные следствия развития экономики:
- торговля способствует излишествам, коррупции и обшему упадку нравов;
- все страсти человека концентрируются в стремлении к наживе.
Отсюда вытекал главный вывод Смита: стремление к богатству не есть самоцель, а средство социального признания. Внеэкономические мотивы поведения не являются самостоятельными, но они направлены на укрепление экономических мотивов. Тем самым Смит отождествил интересы со страстями. Тогда как акцент на внеэкономические (моральные и политические) мотивы человеческой деятельности способствовал анализу экономического поведения в соответствии с прежней концепцией человеческой природы.
23
Иначе говоря, теория Смита была регрессом — возвратом к исходному состоянию пониманию интересов. Это объясняется тем, что британского моралиста и экономиста интересовал «человек толцы» — обычное поведение большинства людей. Главная забота большинства — самосохранение и улучшение материальных условий жизни. Абсолютное большинство людей не в состоянии ни подчинять свое поведение рыцарскому кодексу (этос чести и славы), ни «жить страстями» (как аристократия), ни удовлетворять страсти путем размеренной и систематической погони за интересами (подобно евреям, пуританам и возникающей буржуазии), ни вообще последовательно соблюдать сказанное слово.
Неожиданное следствие теории А. Смита состояло в том, что проблемы социальной морали вообще перестали интересовать экономистов. Такое положение сохраняется до сих пор в профессиональной среде экономистов, независимо от того, каких идеологических и политических ориентации они придерживаются — либеральных, социалистических или консервативных, этатистских или соииетальных. « Смита поставил такое количество интеллектуальных проблем, — пишет А. Хиршман, — что их расшифровка и решение дали пишу многим поколениям экономистов. Как сама гипотеза, так и возникшая на ее основе теория удовлетворяли посылкам победившей парадигмы. Они были удовлетворительным обобщением и одновременно дали возможность сузить поле исследования, по которому до тех пор свободно двигалась социальная мысль. Тем самым были созданы условия для интеллектуальной специализации и профессионализма»1. Научная специализация способствовала закреплению и воспроизводству указанных аберраций, от которых до сих пор не может освободиться социальное знание во всем комплексе дисциплин.
Вернемся к вопросу, поставленному в начале главы: можно ли с помошью экономики улучшить социальный строй? На него следует ответить отрицательно. В XVIII в. возникло представление о спасительных политических последствиях развития экономики. Это представление есть иллюзия. Она остается привлекательной до сих пор, хотя история ее полностью опровергла.
В частности, сравнение экономики с часами (постоянное движение, стабильность, точность и исправность рыночных механизмов) сыграло роль ключевого аргумента при установлении множества авторитарных режимов XIX — XX вв. в Европе и во всем мире. Этот аргумент впервые был использован физиократами, а затем бесконечно повторялся. В данном контексте была
24
также сформулирована идея о возможности «научного управления обществом» и веберовская концепция «рациональной бюрократии». Ни либералы, ни марксисты, ни консерваторы, ни просто политические прагматики так и не смогли освободиться от этих иллюзий. По сути дела, все остальные направления экономической, социальной, правовой, политической и организационно-управленческой мысли до сих пор испытывают влияние указанных иллюзий.
Например, уже у Барнава можно обнаружить противопоставление «солидарности» (племени, клана) и «торгашеского духа». Преследование материальных интересов создает потребность в социальной стабильности, но оно же может привести к противоположному следствию — стать идейным источником деспотизма. Указанная дихотомия затем была заимствована молодым Марксом, Дюркгеймом, Теннисом, Парсонсом и т. д. Правда, Маркс дополнил этот вывод. При анализе революции 1848 г. он показал, что развитие экономики к забота о материальных интересах могут как улучшать, так и ухудшать искусство управления государством. Однако Маркс полагал, что положительные следствия развития экономики предшествуют отрицательным. От этой идеи все еще не могут освободиться марксистские и постмарксистские теоретики и политики во всех странах.
Содержательные критические аргументы против всей системы описанных заблуждений были развиты Фергюсоном и Токвилем. Они исходили из констатации существующего положения вещей: у большинства людей влечение к материальным благам развивается быстрее, нежели склонность к познанию и навык практического пользования свободой. Если большинства людей занято лишь погоней за материальными интересами, то ловкие политические игроки могут захватить власть даже при формальной демократии. Если же народ требует от правительства только поддержания порядка для преследования материальных интересов, то он является рабом собственного материального благополучия.
Такие мотивы поведения большинства людей существуют до сих пор. При таком положении вещей вероятность появления «авторитарных личностей», стремящихся к подчинению всего народа, возрастает пропорционально степени распространения материальных интересов в обществе. Следует ли отсюда, что все политические формы современного общества (включая демократию) и весь корпус современного социального знания стоят на песке?
25
Глава 4 Интересы «квази-стражей» современного общества
Итак, погоня за материальными интересами и превращение последних в главный и морально мотивированный стимул социального поведения ведет к неразрешимой дилемме:
- любая детерминация политики экономикой лишь увеличивает вероятность властно-политического произвола;
- одновременно такая детерминация уменьшает участие большинства граждан в политической жизни.
Эту дилемму не удалось обойти ни одному демократическому государству. Тогда так в государствах деспотических и автократических вершины властных иерархий на протяжении XX в. по собственному произволу устанавливали сферу того, что является «полезным» и «вредным» для функционирования «деликатного часового механизма» экономики. Невозможно также отрицать очевидный факт: в современном обществе большинство людей занято погоней за деньгами и материальным благополучием. Это правило не зависит от специфики социально-экономических систем. Одновременно оно лишь увеличивает сферу свободы для тех, кто стремится к власти ради удовлетворения собственных амбиций — или страстей в терминологии XVII—XVIII вв.
Таким образом, «хорошие» и «плохие» последствия развития экономики всегда проявляются одновременно. Отсюда вытекает необходимость отбрасывания всех концепций, признающих идею о детерминации политики экономикой (и наоборот), независимо от положительной или отрицательной оценки данной детерминации. Речь идет о целых направлениях и школах современного экономического, социологического, политического и культурно-цивилизационного анализа. Сюда попадают:
- либеральные концепции свободного рынка и открытого общества (Л. Мизес, Ф. Хайек, И. Щумпетер, М. Фридман, К. Поппер и др.);
- марксистские концепции отчуждения и борьбы классов (Г. Лукач, А. Грамши, В. Ленин и др.);
- консерватино-аристократические концепции рессентимен-та и массового общества (Ф. Ницше, X. Ортега-и-Гассет и др.);
- социологические концепции солидарности, аномии и дисфункций (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.).
Вряд ли стоит особо доказывать, что современное научное сообщество в значительной степени состоит из последователей
26
данных концепций. Однако все аргументы, которыми пользуются последователи, против детерминации политики экономикой и государства вообще были сформулированы П. Прудоном. Он видел в частной собственности главную гарантию от угрозы вмешательства государства в социальную жизнь. Перечисленные концепции не дают возможности противодействовать данной угрозе постоянно и ежечасно в любых обстоятельствах места и времени. Отсюда вытекает кардинальное положение: никакого «нормального» капитализма не было и нет, а всякая связь материальных интересов с политическими и наоборот подозрительна по определению.
Как же в таком случае относиться к веберовской теории капитализма, в основании которой лежит представление о констелляции материальных интересов и идей во всех сферах социальной жизни?
Вебер и его последователи интересуются прежде всего психологией и этикой поведения индивидов. На этом основании объясняются причины концентрации определенных групп на рациональной калькуляции аккумуляции денег и других капиталов. Вебер полагал капитализм непредвиденным и непреднамеренным следствием поиска индивидуального спасения. Кальвиновская доктрина предопределения преобразовалась в методические действия. Они были одухотворены целью индивидуального спасения. Средством выступили требования протестантской этики, предполагающей самоотречение. Последователи Кальвина сумели найти выход между Сциллой фатализма и Харибдой стремления к мирским благам. В этом состоит парадокс. Он свидетельствует о наличии важных, но неожиданных и не всегда реализуемых следствиях человеческой деятельности. Открытие таких следствий стало важной задачей социальных теоретиков, начиная с Вико, Мандевиля и А. Смита.
А. Хиршман предлагает всему корпусу социальных знаний двигаться по этому пути. Значимое различие между теорией Вебера и концепцией Хиршмана состоит в ряде пунктов, из которых я отмечу лишь основные.
До сих пор социальные науки занимались анализом общества и его отдельных фрагментов. Теперь главным предметом анализа всей системы социальных наук должны стать реакции интеллектуальных, политически и чиновничьих элит на новые явления. Элиты обычно категоризуют все социальные явления и процессы на «положительные» и «отрицательные».
27
В частности, элиты положительно реагировали на становление и развитие капитализма, связывая с ним собственные надежды. Они считали, что погоня за деньгами удерживает человека на верном пути, сдерживает произвол и авантюризм власти во внутренней и международной политике. Эта надежда не подтвердилась.
Одновременно элиты отчаянно искали средства для коллективного спасения, предотвращения распада общества. По мере станоатения капитализма такой распад стал перманентной угрозой вследствие нестабильности внутреннего и внешнего социального порядка. Эта нестабильность порождается погоней за интересами и существует до сих пор. Следовательно, поиск средств коллективного спасения ни к чему не привел. Наоборот, истории XX в. с ее мировыми катаклизмами дает материал для противоположного вывода.
Короче говоря, элиты хотели и «невинность соблюсти и капитал приобрести». А. Хиршман предлагает соединить оба мотива при объяснении генезиса капитализма и любой формы современного общества — социалистического, смешанного и т. д.. Эти мотивы определяют поведение интеллектуалов и бюрократии.
Интеллектуально-чиновничьи элиты всегда заинтересованы в поиске путей группового спасения (т. е. собственного воспроизводства независимо от социальных и политических преобразований) и преодолению всех преград на этом пути. Здесь они наследуют функцию религиозного клира, хотя их квалификация в Новое время существенно изменилась. Маркс назвал эту социальную группу «идеологами», Вебер писал о «литераторах», а Р. Даль называет ее «квази-стражами» (по аналогии с функцией стражей в идеальном государстве Платона). Неожиданные следствия экономического и социального развития порождаются стремлением интеллектуально-чиновничьих элит найти пути группового спасения.
Однако ни политики, ни интеллектуалы, ни бюрократия не в состоянии ни объяснить, ни преодолеть неожиданные последствия. Любые человеческие решения и действия ведут к результатам, которые в моменты принятия решения и периоды осуществления действий совершенно не предполагались. Да и сами решения и действия предпринимаются лишь потому, что политические и интеллектуально-чиновничьи элиты искренне и с полным убеждение ожидают результатов, которые никогда не появляются.
28
В этом и состоит главный парадокс социальной жизни:
- надежды большинства людей остаются приватной сферой;
- надежды и иллюзорные ожидания политических и интеллектуально-чиновничьих элит возникают в моменты подготовки и принятия решений и становятся главной причиной выхода социальной жизни из-под контроля.
Иначе говоря, интеллектуально-чиновничьи элиты в наибольшей степени претендуют на знание социальной жизни и рациональные решения. Но они же несут главную ответственность за хаос социальной жизни. Кроме того, интеллектуально-чиновничьи элиты всегда претендуют на контроль обшества. Их надежды приобретают социальную историю, в отличие от индивидуальных надежд большинства людей. Социальная история надежд интеллектуально-чиновничьих злит была и остается вымышленной. Но она позволяет устранить из поля зрения действительные будущие следствия принятых решений.
Стало быть, социальные науки должны ориентироваться на поиск, открытие и анализ невоплошенных следствий принятых решений. Эта задача сегодня становится даже более важной, нежели исследование неожиданных, но реальных следствий. Реальные следствия обладают статусом существования. Невоплощенные надежды и иллюзии главных факторов социальной жизни превращаются в «преходящее мгновение». А если желаемые следствия не наступают, и нет никаких шансов на их появление, то о них не только стараются забыть, но и стереть все следы в памяти.
Процедура забывания — главное средство интеллектуальной самозашиты элит и легитимизации всякой новой социальной системы: «Может ли сохраниться любая социальная система с двойным сознанием: она была избрана с самым глубоким убеждением в том, что решит определенные проблемы, но одновременно никогда не в состоянии это сделать»'. Социальные науки должны постоянно напоминать о том, что обычно стремятся забыть элиты.
Таким образом, факт существования современного капитализма доказывает лишь то, что он был первый в истории социальной системой с «двойным сознанием». Но феномен «двойного сознания» типичен и для других социальных систем, возникших на почве капитализма. Если политики, интеллектуалы и бюрократия продолжают выполнять главные роли в социальной
29
системе, то различие между капитализмом и социализмом (или смешанным обществом) становится неуловимым. Социализм лишь воплощает в жизнь всю систему описанных надежд и иллюзий, усиливая ее тысячекратно. Дело в том, что социализм заимствует у капитализма всю систему социальных институтов и организационных структур. Они порождают не менее неожиданные следствия по сравнению с интересами.
30
Глава 5 От критики к разрыву
Как известно, большинство специалистов в сфере социальных знаний принадлежит к сторонникам рыночной экономики, регулируемой экономики или социального государства (смешанного общества, в котором снята дихотомия капитализма и социализма). А. Хиршман предлагает концепцию, которая может служить средством для того, чтобы вырваться из «заколдованного круга» современных академических дискуссий и политических дебатов. Его больше интересует внутренние конфликты любой завершенной и институционализованной системы взглядов.
Предельно кратко позицию А. Хиршмана можно определить так: любая идеология и социальная теория порождают комплекс непредвиденных следствий, разрушающих ее собственные основания. В этом смысле нет существенных различий между либерализмом; социализмом и консерватизмом. То же самое можно сказать о социальных и политических системах, пытающихся воплотить в жизнь указанные идеологии или их гибридные формы.
Главный нерв концепции состоит в критике рыночной и управляемой экономики, конституционно-демократического и революционно-тоталитарного способа преобразования общества. Отсюда не следует, что А. Хиршман ищет «третий путь» по образцу неомарксистов или сторонников «самобытности», предлагающих различные варианты смешанного общества.
При оценке любых социальных процессов требуется терпимость к недостаткам общества и ошибкам социального управления. Большинство обществ до сих пор обладало таким объемом благ, который превышал минимум средств к существованию. Об этом свидетельствует факт воспроизводства социального неравенства на всем протяжении человеческой истории. Отсюда не вытекает, что неравенство следует признать нормой, как предлагают консерваторы. Эта норма ничуть не нормальнее равенства. В социально-исторической жизни происходит постоянное нарушение любых представлений о «гармонии», «золотой середине» и т. п. Краткие и длительные, периоды таких нарушений следует рассматривать как свидетельство социальной динамики, которая может принимать разные формы.
Государство — одна из форм социальной динамики. На протяжении всей истории ни одному государству не удалось создать такие социальные и политические механизмы, которые бы
31
полностью предотвратили сбои социального организма. Следовательно, в таких механизмах нет и потребности. Болезнь (кризис, распад, катастрофа) есть нормальное состояние общества. Любые попытки его оздоровления и совершенствования заранее обречены на провал.
Для доказательства этого тезиса А. Хиршман приводит религиозные и светские аргументы.
Главный религиозный аргумент (в рамках христианства) состоит в квалификации всей истории человеческого рода как грехопадения. Последовательный христианин должен признать исходную испорченность человека. И не конструировать таких социальных идеалов, в которых бы заведомо испорченным людям жилось бы хорошо и комфортно. Однако большинство верующих всех религий, как и большинство неверующих не в состоянии поступать и жить последовательно. Для обоснования непоследовательности верующих-христиан была изобретена концепция «естественных прав человека».
Эта концепция связала христианскую социальную философию с различными вариантами светского мировоззрения Нового времени Данная концепция не удовлетворяет ни онтологическим, ни историческим, ни логическим критериям. Тем не менее она породила либеральную модель «государства всеобщего благосостояния», марксистскую модель «коммунизма», социал-демократическую модель «социального государства», христианскую модель «миллениума» и т. п.
Параллельно с формулировкой, разработкой, пропагандой и практическим воплощением всех указанных моделей наступила длительная эпоха кризисов, войн, революций, социальных и политических потрясений. Существует большой соблазн истолковать их как «ненормальное» состояние общества. Значительно больше оснований рассматривать все социальные катаклизмы как расплату за человеческую непоследовательность.
Кроме того, в периоды социальных кризисов можно уменьшать расходы ресурсов и средств, внедрять в жизнь ранее разработанные концепции и методы, испытывать пределы человеческой выносливости. Следовательно, кризисы были и остаются периодами социального творчества. Если до сих пор не удалось обеспечить социальный гомеостазис, то общество и не нуждается в абсолютно исправных механизмах. Любые попытки их создания неизбежно ведут к нормативизму в социальной теории и практике, политике и управлении.
32
От указанного нормативизма не свободна вся парадигма социального мышления Нового времени. Речь идет о концепциях интересов, конкуренции, демократии и патриотизма. Эти концепции конституируют современное мышление.
Об интересах уже шла речь. Действительно, для нескольких поколений людей XIX—XX вв. кажется естественной и непреложной ссылка на интересы как феномены, определяющие всю сферу социальной реальности. Интересы полагаются «нормой» поведения людей. Ссылка на интересы при теоретическом осмыслении реальности и принятия политических решений сегодня попросту не нуждается в обосновании. Между тем, как было показано, в интересах и скрываются предпосылки всех индивидуальных и групповых практических и теоретических аберраций. Их без труда можно обнаружить в губительных социальных последствиях экономического роста при капитализме, социализме и смешанных социально-экономических системах.
Одним из таких следствий является модель конкуренции. Она прилагается сегодня к любым типам социальных систем, хотя сложилась в рамках капитализма. Эта модель давно уже стала элементом манипуляции и не способствует познанию определяющих для нее конфликтов.
Что же это за конфликты? А. Хиршман предлагает анализировать конкуренцию как связь и противоборство между критикой и разрывом. Индивиды могут критиковать и порывать социальные связи. В этом отношении связь критики и разрыва есть универсальный способ реакции людей на любые ухудшения деятельности любых экономических и политических институтов.
Все индивиды на протяжении жизни связаны с определенными группами и организациями в качестве членов или клиентов. Если взаимодействия людей регулируются рынком, индивиды вправе порвать связи с группами и организациями, которые не обеспечивают надлежащий уровень доходов, благ и услуг. Реализация этого права зависит от материальных интересов людей. Критика может градуироваться от молчаливого недовольства до резкого протеста. Но в любом случае она требует непосредственного и решительного выражения взглядов. Не все индивиды на это способны. Поэтому критика в большей степени связана с политическим действием, хотя чаще высказывается при сбоях экономических механизмов.
Иначе говоря, существует несоизмеримость экономических и политических аспектов разрыва и критики. Такая несоизмеримость
33
мость существует в любых социальных системах. Она выражается во всех попытках регламентировать критику и разрыв — от группового и административного давления до статей соответствующих кодексов, определяющих отношения между работодателем и рабочим, прописку, алименты, пропаганду тех или иных взглядов, государственные преступления и т. д.
Указанная несоизмеримость (или конфликт) существует как при конкуренции, так и при монополии — семейной, групповой, корпоративной, государственной, смешанной и т. д.
Конкуренция обычно выражается в соперничестве разных фирм за ресурсы, рабочую силу и клиентов. Но она может выродиться в пустую трату ресурсов и труда, если руководство организационных структур находится под постоянной критикой извне или изнутри. Поэтому всякое руководство стремится блокировать критику. Такая блокировка существует и при конкуренции. Поэтому конкуренция не может рассматриваться как норма экономических и социальных процессов.
В любых социальных системах индивиды стоят перед дилеммой критики или разрыва связей с социальными группами, организациями и институтами. Критика может быть эффективным дополнением разрыва. Но для этого она должна удовлетворять следующим условиям:
- быть направленной на изменение экономики и политики в целом (на микро-, мезо - и макроуровнях экономической и политической системы);
- выражать интересы разных социальных групп;
- приводить к конкретным результатам;
- быть элементом (функцией) политических систем;
- не исключать разрыв связей индивида с любыми социальными группами, институтами и системами.
Ни одна из существующих социальных систем не удовлетворяет данным условиям. Этим определяются пределы социальной критики. Кроме того, существует распространенный стереотип поведения и мышления: положение можно изменить, если этим займется руководство. Следовательно, критика обычно не отвергает всю систему иерархического устройства общества и государства. Крайне редко встречаются индивиды, которые способны быть последовательными в критике.
Большинство индивидов не в состоянии порвать связи с теми или иными общностями. Для большинства критика остается единственным способом действия. Этот способ типичен для семьи,
34
церкви и государства. Критикой обычно занимаются те, кто не решился порвать связи сданными формами общности людей. Эти формы были и пока остаются всеобщими. Поэтому всегда существует опасность переплетения конкуренции с монополией — семейной, церковной, корпоративной, государственной. А любое переплетение экономического и политического поведения снижает потенциал критики.
Например, если уровень артикуляции интересов стабилен, то ухудшение дел в сфере экономики (неэластичность спроса и предложения) при отсутствии возможности разрыва способствуют росту критики «вхолостую»: люди на руководящих постах меняются, а социальные и организационные системы остаются прежними. Это правило не смогла отменить ни одна социальная и организационная система.
Общая модель связи критики и разрыва включает следующие варианты:
- при конкуренции в экономике критика дополняет разрыв, но приносят минимальную пользу из-за тенденции семьи, церкви и государства к монополии;
- чем более развивается критика экономики, тем более повышаются требования к качеству товаров и услуг;
- шансы улучшения экономики зависят от совместного действия критики и разрыва:
- но возможность и приоритет разрыва над критикой не способствует улучшению дел в сфере экономики.
Иначе говоря, всегда существует опасность превращения критики в субститут разрыва. Решение о разрыве учитывает шансы успеха критики. Если эти шансы высоки, то индивиды могут отказаться от разрыва. Если человек все же решается на разрыв, то он отказывается от критики, а не наоборот. Поэтому решение о разрыве с социальными группами, организациями и институтами обычно принимается после более или менее Длительного опыта бесплодной критики.
При рыночной экономике существует большое количество разнообразных товаров и услуг. Индивид может приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм. Такая ситуация способствует приоритету разрыва над критикой. Однако чем более развита конкуренция и чем более товары и услуги рассчитаны на индивидуальное потребление, тем более возможность разрыва вызывает непредвиденные последствия. Люди превращаются в потребителей, не интересующихся политикой. Если
35
товары и услуги рассчитаны на массовое потребление, политическое содержание критики возрастает. Но интерес к политике может сопровождаться профессиональным и организационным бесплодием.
Таким образом, критика есть искусство, которое может развиваться при любых условиях. Суть критики — открытие новых способов действия во всех сферах социальной жизни. Эти способы направлены на уменьшение расходов и рост эффективности. Тогда как возможность разрыва отрицательно влияет на доведение искусства критики до совершенства и практических результатов.
Однако даже в экономической сфере крайне трудно найти оптимальное сочетание критики с разрывом.
Например, во всех странах мира существует железнодорожный транспорт и система образования как отрасли массовых услуг и государственной экономики. Одновременно существует личный автотранспорт и система частных школ и высших учебных заведений. При конкуренции первая система всегда проигрывает, поскольку ее администрация всегда надеется на помощь государства. Поэтому руководство государственных предприятии при любых типах экономики наименее чувствительно к критике. Оно блокирует критику. Не дает возможности соединить ее с разрывом таким образом, чтобы это сочетание было оптимальным для большинства граждан.
Если государство монополизирует отрасли хозяйства, возможности критики еще более уменьшаются. При любых попытках социальных изменений администрация обеспечивает воспроизводство сложившихся стандартов бесплодной критики.
Отсюда вытекают два важных следствия:
- деятельность государственного и любого другого управленческого аппарата всегда порождает непредвиденные последствия;
- данный аппарат должен быть главным объектом анализа при историческом и социологическом описании опыта социальной критики в любой стране.
Что же такое бесплодная критика? Она существует при любых социально-экономических системах. Ее стандарты направлены на ограничение активности людей, наиболее заинтересованных в повышении качества товаров и услуг в экономической сфере. В итоге даже при конкуренции самые активные, инициативные и последовательные в критике люди становятся первыми в очереди на разрыв. Обычно качество последовательно
36
ухудшается в тех сферах, которые закрепляют за собой корпоративную и государственную монополию. Проблема состоит в определении класса экономических систем и отраслей производства, для которых монополия предпочтительнее конкуренции.
Однако эта проблема переплетена с экономическим поведением индивидов. Если цена товаров возрастает, первыми отказываются от них люди, которые были в них наименее заинтересованы. Если падает качество товаров и услуг, первыми от них отказываются наиболее требовательные клиенты. Вопрос состоит в установлении корреляции между числом потребителей первого и второго типа.
Определить такую корреляцию крайне сложно, поскольку роль качества в экономике изучена мало. А. Хиршман формулирует гипотезу об идентичности показателя эквивалентности для установления экономических мотивов критики:
Если бы падение качества товаров можно было выразить с помощью цены, эквивалентной для всех покупателей, то влияние падения качества и роста цен на решение о разрыве (отказе от покупки определенных товаров) было бы идентичным.
При доказательстве этой гипотезы можно исходить из того, что обычно потребители по-разному оценивают качество. Но если оценка качества является главной, то отказ от определенных товаров и услуг парализует критику, лишая ее главных исполнителей.
Например, если падает качество обучения в государственных школах, то первыми от них отказываются дети состоятельных родителей. Обычно такие родители высоко ценят образование и могли бы предпринять борьбу за улучшение качества образования в государственной отрасли. Вместо критики и борьбы они просто порывают с определенной системой образования. Если же ухудшается качество обучения в частных школах, родители оставляют там детей из-за понесенных расходов. Критика и борьба в этом случае наталкивается на экономические барьеры.
При существовании государственного и частного образования больше вероятность высокого качества в частном секторе. Правда, она зависит от возможности разрыва большинства населения с государственной системой образования. Если такой возможности нет (из-за низкого качества жизни большинства населения), то как критика, так и разрыв становятся бесполезными. В этом случае недостатки государственной системы
37
образования накладываются на слабости частной системы. Если же контингент учителей сотрудничает в обеих системах одновременно, происходит усиление недостатков и слабостей.
Короче говоря, существуют значительные трудности оптимального сочетания критики с разрывом в сфере экономики. Эти трудности определяются множеством факторов социальной жизни:
- роли производственной бюрократии и государственного
аппарата в системе социальных отношений;
- не существует универсальных критериев сравнения профессиональных сфер с точки зрения доли в них талантливых людей;
- не существует универсальных критериев сравнения цены и качества товаров и услуг с качеством жизни отдельных социальных групп;
- существует конфликт между процессами вертикальной и горизонтальной динамики социальных групп;
- либеральный постулат конкуренции (как наиболее эффективной социальной связи) не может быть использован для оценки социальных преобразований.
Эти трудности еще более усиливаются в сфере политики демократических стран.
38
Глава 6 Эталон демократии или инерционная политическая система?
Для иллюстрации указанных трудностей А. Хиршман детально анализирует политическую традицию США — страны, которая традиционно считается эталоном демократии.
В этой стране право на разрыв социальных связей всегда обладало высоким статусом. Само существование США связано с множеством решений людей, которые предпочли уход из родных стран критике и попыткам улучшить в них положение. Эта традиция укрепилась и после конституирования США как независимой страны. Возможность разрыва в виде мифа о «диком и открытом Западе» стала моделью решения проблем инди^ видуальной жизни. Социальное кочевничество (разрыв связей и уход на новое место жительства) предпочиталось изменению обстоятельств, так что разрыв с прошлым заменил опыт европейских революций и стал предпосылкой политической демократии.
Политическая демократия в США начала вырастать из непосредственной демократии пионеров. В этой среде формировались первые социалистические требования и новые политические программы. Избирательный процесс расширялся за счет введения в него институтов непосредственной демократии (выдвижение сенаторов, референдум, гражданская инициатива, отзыв членов парламента, импичмент президента и т. д.). В данных институтах отразилось стремление сохранить образ жизни пионеров, который постепенно исчезал по мере заселения территорий и пограничных областей.
Но эта же традиция породила удивительный конформизм американцев, отмеченный уже А. Токвилем. Зачем вдаваться в споры, критику, наживать врагов и затруднять себе жизнь, если всегда можно «сняться с места» и уйти, едва оно перестало удовлетворять индивида? Миллионы и десятки миллионов американцев предпочли такой образ жизни. В результате они становились равнодушными к любой среде обитания, общине и родине. После разрыва, судьба брошенных мест и людей их уже не интересовала.
На этой почве возникала американская идея индивидуального успеха. Речь идет о социальной динамике особого типа. Она связана с вертикальными (по ступеням служебной и социальной карьеры) и горизонтальными (переселение в фешенебельные районы города) перемещениями. Индивидуальный успех стал
39
основанием кристаллизации социальных групп. После этого начала культивироваться филантропия в отношении брошенных людей и гопосов. Она еще более затруднила критику и усилила иждивенчество в американском обществе.
Негритянское движение отбросило традиционный образ индивидуальной динамики и сделало акцент на групповое продвижение. Уход выдающихся лиц из общины начал рассматриваться как ее ослабление. Перед разрывом возникли всевозможные ограничения. Однако групповое продвижение в США стало лишь переносом традиоцинализма в индустриальное общество. Такое продвижение напоминает образцы поведения в современной Африке и других развивающихся странах: в них ни разрыв, ни критика не приносят никаких результатов.
Групповое продвижение связано также с метисизацией, при которой индивиды участвуют в изменениях только в качестве члена группы. На такой основе возникали американские группы интересов. Сегодня они обладают ключевым значением в различных сферах социальной жизни и блокируют любые радикальные изменения.
Указанные феномены породили веру в разрыв как главный способ решения индивидуальных проблем. В свою очередь эта вера способствовала слепому доверию к рынку, конкуренции и двухпартийной системе. «До тех пор, пока можно отказаться от покупки товара фирмы А и начать покупать товар конкурирующей фирмы В, — пишет А. Хиршман, — национальный романс с идеей разрыва продолжается»'. Однако разрыв породил собственную противоположность.
Бросая родину, эмигрант принимает трудное решение. Он вынужден порвать самые глубокие эмоциональные связи. Необходимость приспособления к новой среде требует дополнительного расхода сил и энергии. Речь идет о выработке искусственных эмоций — связей с новой родиной, поскольку за это заплачена большая цена. Брошенная родина все более теряет привлекательность. Новая все более идеализируется и выступает в качестве «последней надежды человечества». Поэтому слово «счастье» в американском сленге утратило глубокий смысл и отождествляется с довольством жизнью. Нынешняя Америка — страна довольных жизнью несчастных людей.
США были и остаются «страной последних шансов». Разрыв с нею для большинства немыслим. Такая ситуация определяет пределы социальной критики: если страну обвинять невозмож-
40
но, то всякое недовольство требует от индивида принять еще одну пилюлю «приспособления». В этом случае критика мотивируется типично американским убеждением: вес человеческие проблемы могут быть решены пугем улучшения социальных институтов. В результате либеральный индивидуализм — предпочтение экономических интересов гражданским добродетелям завершается самым яростным социоцентризмом. Социальная критика вытекает уже не столько из стремления изменить существующие обстоятельства, сколько из сравнения их с воображаемым идеалом. Таким идеалом выступает «американская идея», легитимирующая тотальный конформизм.
Этот конформизм выражен и в политической системе США. Она основана на конкуренции двух партий и блокирует любые радикальные изменения. Недовольство положением дел в обществе преобразуется в недовольство правящей партией и потому теряет критический потенциал.
В последние десятилетия американские политики и парламентарии перестали пользоваться правом добровольного ухода в отставку из-за принципиального несогласия по тем или иным вопросам. Иначе говоря, мотив идеализации собственной страны преобразовался в отказ от разрыва с ее администрацией. В американском парламенте и сенате появился тип «официальная критика». Он согласен выполнять эту роль только в качестве «члена команды», а не для выражения собственных взглядов и политического характера. Однако предвидимость критики сводит ее к нулю. А переход к критике означает, что реальная власть и влияние индивида заканчиваются, В итоге оппортунизм стал главной американской добродетелью. Члены правительства руководствуются неписаным правилом аппаратчика: противодействие проводимой политике не должно выставляется напоказ.
Таким образом, «самая демократическая страна» стала наиболее консервативной и бюрократической. Как известно, нынешний мир состоит из больших, средних и малых стран. Принадлежность к правительству и аппарату управления большой страны в наибольшей степени связана с вероятностью коррупции.
Американские политики и менеджеры подвержены еще одной бюрократической иллюзии: положение в обществе можно исправить только в том случае, если индивид принадлежит к правительству или администрации. На самом деле «... даже
41
небольшая власть и влияние в сильной и большой стране коррумпируют в наибольшей степени»2. Уход в отставку по причине расхождения в принципах и методах исчез из американской политики потому, что уходящий оказывается без партийной поддержки и поддержки общественного мнения.
Указанные феномены отражают более мощную социально-экономическую тенденцию: конкуренция в странах с рыночной экономикой только укрепляет монополию. Действие механизма разрыва способствует появлению все большего числа требовательных, активных и инициативных членов общества. Но они вынуждены прибегать к критике только тогда, когда находятся в безвыходном положении.
А. Хиршман формулирует эту зависимость в виде социологического закона:
— при данной структуре социальной организации (комплекс социальных институтов и связей между ними) критика становится массовой только тогда, когда большинство индивидов находятся в безвыходном положении.
В этом случае выбор между разрывом и критикой становится просто предпочтением меньшего зла большему, хотя всегда трудно определить, что хуже — разрыв или критика. Конкуренция ведет к тому, что разрыв и критика начинает. рассматриваться как неизбежное зло., а не реализация свободы и творческих потенций личности.
Конкуренция выталкивает из социальных институтов наиболее последовательных и настойчивых клиентов. Если политическая власть отражает экономическую, то во властно-управленческих структурах господствует то же отношение к критике и разрыву, которое характерно для экономических структур: бездарные, неспособные, пассивные и ленивые индивиды эксплуатируют слабых и бедных индивидов. Такая экономическая система неэластична, но весьма устойчива. Она пронизывает подавляющее большинство организаций и институтов в сфере экономики. В этом случае бюрократизация экономической и политической власти становится опосредующим звеном между конкуренцией и монополией. Ленивые и пассивные монополии одобряют конкуренцию лишь потому, что она освобождает от усилий и критики.
Такие монополии типичны как для рыночной, так и управляемой экономики. Они обычно возникают в национализированных отраслях промышленности — военно-промышленный и
42
энергетически комплексы, транспорт, связь, система образования, средства массовой информации. Ленивые пассивные монополии располагаются в таких социальных пространствах, где существует большое число подвижных клиентов, требовательных к качеству.
Ленивые и пассивные монополии существуют и в политических структурах. Например, правительства латиноамериканских стран вынуждают своих потенциальных критиков и соперников покинуть политическую сцену. Им предоставляется право эмиграции и выплачивается за рубежом пенсия выше, чем в родной стране.
В целом возможность разрыва деструктивно влияет на энергичную и творческую политическую жизнь. Разрыв ограничивает критику. Если же потенциальные и реальные критики находятся в безвыходной ситуации, то политические компромиссы отражают давление доминирующей стороны, а не являются следствием обоюдного консенсуса.
Наиболее показательным примером неожиданных последствий разрыва и критики является политическая система США. Она порождает политическую инерцию, в состав которой входят следующие феномены:
- неопределенность программ политических партий;
- движение партий к центру;
- радикализация политических требований вследствие бюрократизации партийного руководства.
Партии обычно положительно реагируют на критику, которая затрагивает практические вопросы, но безразличны к критике политических программ. В результате программы становятся все более неопределенными и потому конкуренция между партиями все более лишается смысла. Чем более партии заключают соглашений между собой (в виде блоков и выдвижения совместных требований в отношении правительства), тем более они становятся чуждыми собственному электорату.
Движение партий к центру не способствует политической активности и последовательности граждан. Из партий выталкиваются наиболее последовательные и принципиальные индивиды. Партия середины — отражение ленивой и пассивной монополии на политической сцене.
Радикализация политических требований партий отражает избирательную конъюнктуру и бюрократизацию политического руководства. Руководство партий обычно не занимается
43
управлением и не реагирует на падение популярности среди электората. Критика противников приобретает чисто инструментальное содержание. Она усиливается не от значимости социальных проблем, а зависит от периода между выборами. Чем больше этот период, тем больше «радикализация» политической конкуренции становится чисто вербальной. Стороны заинтересованы не столько в решении социальных проблем, сколько в победе над мнимым противником.
Таким образом, конкуренция в экономике и политике не может рассматриваться как норма экономических и политических процессов. Политическая традиция и система США не могут служить эталоном демократии. Демократия не в состоянии обеспечить оптимальное сочетание критики и разрыва, а только порождает неожиданные последствия. Нормативная модель демократии базируется на постулате о гражданине как активном участнике политического процесса. Однако в экономических и политических структурах стран таких граждан уже давно не существует. Эти структуры обеспечивают лишь политическую рутину и инерцию. Нормативная модель демократии давно уже стала элементом политической манипуляции. То же самое можно сказать о понятии «политического рынка», введенного для маскировки указанных процессов. Поэтому большинство членов современного общества руководствуется спасительным недоверием к любым пропагандируемым моделям.
44
Глава 7 Феномен «бессознательной лояльности»
Промежуточный вывод А. Хиршмана однозначен: для осуществления социальных изменений требуется оптимальное сочетание критики и разрыва, но конкуренция в экономике и политике не в состоянии его обеспечить. Главной причиной инерции демократии является такое толкование лояльности (законопослушности), которое блокирует критику и разрыв одновременно.
Возможность порвать связи с формами общности выталкивает критику. Критика играет значительную роль в таких формах социальной организации, разрыв с которыми крайне затруднен. Речь идет о семье, клане, церкви и государстве. Однако в данных формах социальной, религиозной и политической общности критика существует лишь в таких пределах, которые исключают радикальные преобразования. Взамен добровольного разрыва данные группы используют принудительное изгнание. Причем в большинстве случаев руководство указанных форм общности применяет принудительное изгнание по отношению к критикам и противникам.
Отсюда вытекает, прежде всего, вывод методологического характера:
— при описании политических традиций указанных форм социальной организации число и частота принудительных изгнаний могут составить особый предмет исторической и политической компаративистики.
Не менее важны политические модификации. Если руководство данных групп применяет принцип изгнания, то критика становится функцией лояльности.
Лояльность — это возможность отказа индивидов от определенности разрыва взамен за неопределенность надежды улучшить положение дел в данной социальной общности. А принцип надежды не поддается рационализации. Если индивиды хотя бы в малейшей степени руководствуются надеждой, то критика возрастает по мере роста лояльности. Наиболее критичные индивиды являются наиболее лояльными и наоборот. Если индивиды не могут освободиться от иррациональной надежды и не менее иррациональной сопричастности к семье, клану, церкви и государству, то они используются критикой как средством улучшения и усовершенствования данной общности.
45
Лояльность включает мотивы надежды и сопричастности и стимулирует критику. Но такая критика не выходит за пределы традиционной формулы патриотизма: «хорошая или плохая, но это моя страна». Достаточно напомнить, что на воротах Бухен-вальда висел аналогичный лозунг: «Право или неправо, но то мое отечество». Так что чем более иррациональна лояльность, тем легче ее утилизировать.
Люди могут уходить в эмиграцию, но не в состоянии освободиться от чувственно-эмоциональных связей со страной происхождения и указанной формулы патриотизма. В результате такой несвободы эмиграция не в состоянии породить принципиально новую систему политических идей, направленных на пересмотр указанной формулы патриотизма.
В результате указанных феноменов различие между религиозной верой и политической лояльностью становится трудноуловимым. Отождествление того и другого приобретает статус «нормы» социальной и политической жизни.
Но так понятная лояльность и связанная с ней критика теряют смысл, если нормы начинают выводиться из сравнительного анализа государств и систем универсальных принципов — свободы, равенства, справедливости. Данные принципы никогда не могут быть полностью воплощены в жизнь ни в одной стране мира. Кроме того, на протяжении XX в. произошла дифференциация стран по критериям качества жизни, экономической эффективности, политической и духовной свободы, возможности самореализации индивидов. Если расположить страны на этой шкале, то на вершине окажутся государства, не требующие ни иррациональной лояльности, ни патриотической идеологии. Внизу шкалы располагаются страны, транслирующие описанный тип лояльности и патриотизма. Потребность в нем наиболее сильна в маргинальных странах и направлена на удержание их целостности. И все же без традиционной лояльности уже можно обойтись.
Сравнение стран по качеству жизни и другим критериям — лишь первый этап на пути освобождения от всех элементов иррациональной лояльности и разработки новой теории лояльности.
По мнению А. Хиршмана, данная теория отражает процесс постепенного выравнивания стран по всем критериям модернизации. Так что проблема преждевременного расставания (разрыва) с той или иной страной может появиться только тогда, когда эти критерии станут примерно одинаковыми. Конеч-
46
но, «утечка мозгов» и миграционные потоки фиксируют пока противоположную тенденцию. Если экстраполировать эту тенденцию в будущее, то новую лояльность можно определить как ключевое понятие для понимания конфликта между разрывом и критикой.
Рациональный смысл лояльности определяется тем, что она может сколько угодно долго удерживать индивидов в рамках определенных групп, организаций и стран. Но критерием рациональной лояльности становится освобождение от традиционной формулы патриотизма. Речь идет о массовом использовании населением решительной и последовательной критики в отношении любых форм общности. Для этого должны быть разработаны механизмы, свободные как от традиционной лояльности, так и тех форм разрыва и критики, которые характерны для экономики и политики демократических стран. Пример США может быть только отрицательным. Существующие в ней формы разрыва и критики не могут считаться «нормой». А по сути дела еще ни в одной стране мира не существует таких механизмов.
Рациональная лояльность содержит в себе возможность нелояльности. Лояльность в отношении любых социальных групп и институтов, претендующих на монополию в сфере экономики и политики, тоже не может считаться «нормой». Если социальная критика поддерживается возможностью разрыва, то ее шансы укрепляются. Но превращение данной возможности в действительность не должно быть легким. Особенно в тот момент, когда тенденция к монополии связана с ухудшением деятельности любых организационных структур, социальных институтов и государств.
Короче говоря, рациональная лояльность невозможна как при конкуренции, так и при монополии любой социальной группы, организации и института на экономическую, социальную, политическую и культурную деятельность.
Так понятая лояльность позволяет А. Хиршману зафиксировать моменты тождества тоталитарных и демократических политических систем:
- служебное и утилитарное отношение к критике и запрет разрыва на уровне государства;
- запрет критики на уровне отдельных производственных единиц в целых отраслях;
- культивирование бессознательной лояльности.
47
В тоталитарных системах правящие партии и государственные аппараты ограничивают критику общества и государства в целом. Критика может касаться только частностей. Осуществляется также регламентация экономического и социального поведения индивидов. Они привязываются к производственным организациям и месту жительства, а всякая миграция монополизируется государством. Устанавливается запрет на добровольный разрыв с государством — он квалифицируется как «измена родине».
В демократических системах критика и разрыв формально доступны для каждого. Однако внутренняя демократия на уровне производственных единиц и политических партий тоже невозможна. В результате индивиды не в состоянии изнутри бороться за изменение ситуации на предприятиях, в корпорациях и партиях. По отношению к недовольным руководство применяет принцип: «Не нравится — можешь уходить». Но тот же принцип применяется и в тоталитарных системах, особенно в период их трансформации.
В обеих системах существует бессознательная лояльность. На уровне отдельных организаций и государств она не позволяет критиковать данные организации и социальные и политические системы в целом. А разрыв с одной организацией и переход в другую ничего не меняет ни в той, ни в другой. То же самое можно сказать об эмиграции. К тому же возможности разрыва могут запрещаться конституциями демократических стран.
Следовательно, мера бессознательной лояльности может быть установлена только со стороны. Хотя никаких абсолютных критериев здесь не существует.
Но можно утверждать совершенно определенно: чем больше возможностей разрыва (формальная и процедурная демократия), тем больше барьеров перед развитием внутренней демократии. Это правило относится к абсолютному большинству организационных структур и социальных институтов, существующих в мире. Формальная (процедурная) демократия на уровне государства одновременно означает блокаду демократии на уровне производственных единиц, групп интересов, корпораций, политических партий и государственных аппаратов. Следовательно, сознательная лояльность, предполагающая использование критики и разрыва большинством населения, невозможна и при демократии. Организационные и институциональные структуры по-прежнему имеют решающее значение для диспропорции критики и разрыва.
48
Например, во всех странах мира существуют государственные структуры для поддержки лояльности — органы внутренних дел и безопасности, аппараты измерения справедливости. Но они не в состоянии обеспечить эффективную связь критики и разрыва, ограничивая и то и другое. В длительной перспективе связь критики и разрыва полезна для всех производственных и социальных структур. Однако текущие интересы руководства толкают его к укреплению собственного положения за счет блокировки критики и разрыва. Поэтому государственные аппараты — прежде всего, главные государственные ведомства — обычно вырабатывают такие институциональные решения, которые противостоят интересам общества и государства в целом. Решить эту проблему до сих пор не удалось еще ни одному государству, даже самому демократическому. А по сути дела, ни одно из них и не бралось всерьез за ее решение.
В большинстве организационных структур используются два метода укрепления бессознательной лояльности: высокая цена за вход и выход из организации. Оба метода подавляют критику и запрещают разрыв. В итоге усиливается самообман общества во всех его организационных и институциональных структурах. Эти структуры только удлиняют время осознания экономических, социальных и политических проблем. Чем выше цена за вход в организацию, тем выше уровень индивидуального самообмана.
При этом вершины политических иерархий отличаются наибольшим самообманом. Как правило, они прибегают к критике в безвыходных ситуациях. А в таких ситуациях наибольшую активность проявляют как раз те, кто ранее отличался бессознательной лояльностью, был пассивен и доволен. Этим объясняется классическое правило «Революции пожирают своих собственных детей»: «Делая революцию, революционеры платят большую цену в виде риска, жертв и ориентации на одну-единственную цель. Когда революция совершена, появление разрыва между ожидаемым и реальным положением вещей более чем вероятно. Чтобы ликвидировать такой разрыв, те, кто заплатил наибольшую цену за установление нового порядка, ощущают наиболее сильную потребность опять его изменить. Для этого они вынуждены критиковать революционных товарищей, осуществляющих власть. В результате Представители обоих лагерей погибают в развязанной борьбе»1. Это ведет к росту политической рутины в организационных и институциональных структурах стран, осуществивших революцию.
49
Кроме того, разрыв со страной обычно связан санкциями в отношении «отступников» и «изменников». Это способствует тому, что сама мысль о возможности разрыва подавляется. Формула традиционного патриотизма в этом случае модифицируется в кредо: «Чем хуже страна, тем более она моя». Если внутренняя критика страны запрещается, то выбор критики или разрыва преобразуется в альтернативу внутренней или внешней критики. В этом пространстве и возникает потенциальная и реальная эмиграция, которая не в состоянии обойти данную альтернативу и предложить что-либо новое.
По отношению к критике А. Хиршман предлагает разделить все организации на два типа:
1. С нулевой ценой входа и большой ценой выхода, членами которых индивиды становятся в момент рождения. К таким организациям относятся семья, нация, вероисповедная общность.
2. С большой ценой входа и выхода. К таким организациям принадлежат гангстерские группы, тоталитарные государства, политические партии и государственные аппараты.
В группах первого типа стимулируется критика как компенсация разрыва. Исторический опыт показывает, что такие группы являются наиболее устойчивыми.
В группах второго типа критика и разрыв подавляются или отодвигаются во времени. Руководство этих групп обычно вдохновляется либеральным мотивом «общего блага». На самом деле такое благо преобразуется в реальное общее зло, связанное с материальными и политическими интересами. Все ранее описанные модификации интересов способствуют укреплению такого зла. То же самое относится к мотиву престижа во внешней политике, от которого несвободны и демократические государства. Стремление к престижу обычно заканчивается позором на международной арене. Показательными примерами здесь являются поражения США во Вьетнаме, СССР в Афганистане, Югославии в Косово, России в Чечне и т. д. Военные и политические структуры государств в этом случае стремятся подавить разрыв силой. Следствия становятся еще более сокрушительными.
Иначе говоря, в группах второго типа грань между общим благом и общим злом делается неуловимой. А именно такие организации, группы и социальные институты были господствующими в мире на протяжении XX в. Поэтому понятие общего зла обладает значительно большим эвристичес-
50
ким потенциалом по сравнению с либеральной концепцией общего блага.
Кульминация бессознательной лояльности приходится на периоды распада данных групп, время которого пока определить невозможно. Хотя внешние признаки такого распада налицо (крушение мировой социалистической системы), указанные группы обнаруживают дьявольские способности трансформации. Неопределенность периода распада ведет к тому, что решение о разрыве с данными группами становится тем труднее, чем дольше индивиды его откладывают. В периоды распада таких групп среди наиболее «сознательных» членов становится популярным убеждение: надо «оставаться в рядах» для того, чтобы предотвратить группу от еще худшего исхода. Это убеждение транслирует оппортунизм и бессознательную лояльность в новые условия.
В конечном итоге А. Хиршман предлагает следующую типологию организационных структур, социальных групп и институтов:
- критика и разрыв допускаются в мелких предприятиях, добровольных обществах и партиях в многопартийных системах;
- критика и разрыв не допускаются в гангстерских и террористических группах, монопартиях государственных аппаратах в тоталитарных системах;
- при конкуренции отдельные предприятия и корпорации допускают разрыв, но не допускают критики;
- семья, нация, церковь, государство допускают критику, но не допускают разрыва.
В этой типологии фиксируются только тенденции, которые нуждаются в историческо-социологической конкретизации. В то же время данная типология служит главным аргументом против всякого теоретического и практического нормативизма. Любой механизм улучшения под влиянием времени преобразуется в механизм разложения. Руководство любых организационных структур, социальных групп и институтов всегда заинтересованы в том, чтобы превратить критику в «выпускание пара» и институционализировать ее. Парламенты и средства массовой информации в современном обществе выполняют эту функцию. А механизм разрыва лишь отдаляет решение экономических, социальных и политических проблем.
Эти тенденции укрепляются бессознательной лояльностью членов любых организационных структур и большинства
51
населения всех стран современного мира. Такая лояльность позволяет руководству всех уровней пользоваться любым методом по собственному произволу. А произвол лишь усиливает неопределенность и неожиданные следствия. При доминировании критики в тех или иных организационных структурах недооценивается разрыв и наоборот.
Таким образом, оптимальное сочетание критики и разрыва пока еще не найдено ни одной экономической, социальной и политической системой. Поэтому ни одна из них не может служить примером социальных изменений для других.
52
Послесловие
Вернемся к вопросам, поставленным в начале книги. Я специально предпочел реферативно-классификационный способ изложения для того, чтобы дать на них определенные ответы:
- в современной социальной науке существуют концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым сравниваются другие социальные системы;
- теорию капитализма М. Вебера нельзя считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций;
- интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, не являются наиболее надежной формой таких трансформаций.
Однако точка зрения о существовании «нормального» капитализма, с которым могут сравниваться другие социально-экономические системы, распространена не только в России, но и в других странах Восточной Европы и современного мира. Поэтому я попытаюсь суммировать те положения концепции А. Хиршмана, которые имеют методологическое содержание. Я полагаю также, что эти выводы могут служить отправной точкой для дальнейшей дискуссии о специфике современного капитализма.
Хиршмана может рассматриваться как развитие идеи М. Вебера о том, что любые социальные события и процессы являются непредвиденными следствиями ранее принятых решений. В частности М. Вебер показал, что никто из создателей капитализма не стремился к его воплощению как некоего социального проекта. Вожди реформации разрабатывали протестантскую этику для достижения индивидуального спасения. В этой этике труд был мирским вариантом мирского аскетизма и преследовал трансцендентные цели. Если же люди ставят перед собой земные цели и реализуют их в традиционных формах общности, то возникает капитализм, в котором зло всегда господствует над добром.
А. Хиршман дает новую интерпретацию генезиса капитализма и его духа. Он показывает, что социальные болезни (кризисы, войны, революции) есть нормальное состояние общества и расплата за непоследовательность поведения индивидов и социальных институтов. Концепция «естественных прав человека» и
53
вся парадигма социального познания Нового времени отражает данную непоследовательность. Но в настоящее время более важно не противопоставлять фигуры и концепции (Вебера — Марксу и т. п.), а изучать моменты общего между ними. Это нужно для установления последовательности взаимопереплетения социальных теорий, принадлежащих к различным идеологиям.
История социального знания Нового времени показывает, что все попытки создания новых теорий для усовершенствования управления обществом и государством заканчиваются крахом или ведут к неожиданным последствиям. Терминология социальных наук, возникших в Новое время, претендует на объективность и нейтральность. Однако в ней содержится аксиологически нагруженные понятия, причем оценки предшествуют выделению предмета теоретического исследования. Познавательные концепции современной социальной мысли связаны с нормативными постулатами. По этой причине социальное знание до сих пор не освободилось от христианского принципа Надежды. В значительной степени это объясняется тем, что социальное знание не разорвало все связи с господствующими группами. Ориентация на анализ поведения подвластных отражает сервилизм социальных наук.
Наиболее ярким примером указанных тенденций является категория интереса. Она все еще является базисом всей системы социальных наук и политики. Однако эта категория при использовании в экономическом, политическом и теоретическом языке может означать любое случайное содержание. Ссылка на интересы всегда содержит консервативный момент. Если даже экономические отношения и действия мотивированы религией и моралью, она не является нормой социального развития.
Квалификация материальных интересов как предвидимых, постоянных и безвредных ведет к неожиданным следствиям. Определение денег как наиболее сильной социальной связи есть наиболее опасная форма идеологии. Все теории социального развития и модернизации базируются на нормативных основаниях. Однако ни интересы, ни идеи, ни их констелляции не являются движущими силами социального развития. Доктрины гармонии интересов и равновесия сил есть разновидности идеологической аберрации.
Конкуренция тоже не может рассматриваться как норма социальных процессов. Она распадается на элементы критики и
54
разрыва. Если экономические и политические мотивы поведения индивидов разорваны, то любая их связь снижает потенциал социальной критики. Это относится ко всем формам прямой и обратной детерминации и политического поведения. Снижение потенциала критики объясняется вытеснением наиболее активных и последовательных индивидов из любых форм социальной организации. Такое вытеснение соответствует интересам управленческого и государственного аппарата.
Институционализация права на разрыв порождает социальный конформизм. Он выражается в стремлении к индивидуальному успеху, становлении групп интересов и групповом вертикальном и горизонтальном продвижении. При демократии социальное пространство критики ограничивается индивидами и группами, находящимися в безвыходном положении. Это тоже снижает потенциал критики и порождает ленивые монополии, бюрократизацию и инерцию политических систем. Тогда как связь критики с социальными общностями семьи, церкви, нации и государства порождает феномены «бессознательной лояльности» и патриотизма. Они делают неуловимым различие между демократией и тоталитаризмом.
Итак, социальные проблемы невозможно решить ни религиозными, ни моральными, ни экономическими, ни политическими средствами. Главной причиной такой невозможности являются социальные институты и группы, профессионально занятые в сфере экономики, религии, морали, политики и производства идеологий. Теория неожиданных последствий требует отбрасывания (радикальный вариант) или переосмысления (умеренный вариант) всей системы главных понятий и концепций, образующих парадигму социального мышления Нового времени. Представление о возникающих в связи с этим проблемах дает прилагаемый перевод одной из статей А. Хиршмана (см. приложение).
Как осуществить такое отбрасывание или переосмысление вообще и по отношению к истории и современному состоянию Росси в особенности? — на этот вопрос ни в зарубежной, ни в отечественной социальной науке ответа нет. Хиршмана позволяет его поставить. В заключение я хотел бы обратить внимание коллег и читателей лишь на один аспект данного вопроса.
Если упростить логику анализируемой концепции, то можно исходить из двух постулатов: в истории Европы главным злом
55
была конкуренция в ее разновидностях гражданского общества и демократического государства; в истории России главным злом было и остается государство, поскольку оно всегда господствовало над материальными интересами и социальными институтами.
Для применения данных постулатов к объяснению современного капитализма в России требуется пересмотр практически всех схем социо-гуманитарных знаний. Я думаю, что эта задача намного более интересна и продуктивна, нежели применение к современной России схем из теоретического чулана Европы.
56
Примечания
Предисловие
1. См.: Капитализм как проблема теоретической социологии: «круглый стол» // Социологические исследования. 1998, №2
Глава 1
1. См.: Макаренко интересы и властно управленческий аппарат: к методологии исследования // Социологические исследования. 1996, №11; 1997, №7
2. См.: Капустин как предмет политической теории. М., 1998, с. 52
3. Страсти и интересы: интеллектуальные истоки капитализма. Краков, 1997, с. 23
4. Там же, с. 34
5. Там же, с. 37
6. Там же, с. 39
7. Там же, с. 40
8. Там же, с. 41
Глава 2
1. Там же, с. 47
2. Там же, с. 51
3. Там же, с. 52
4. Там же, с. 56
5. Там же, с. 58
6. Там же, с. 63
Глава 3
1. Там же, с. 94-95
Глава 4
2. Там же, с. 107
Глава 6
1. Лояльность, критика, разрыв. Краков. 1995, с. 111
2. Там же, с. 115
Глава 7
1. Там же, с. 95
57
Приложение Хиршман
РЫНОЧНОЕ ОБЩЕСТВО: противоположные точки зрения
Еще недавно все воспринимали социальный, политический и экономический порядок, определяющий рамки человеческой жизни, как нечто самоочевидное. Конечно, многие из тех, кому довелось жить в столь идиллические времена, страдали от материальных недостатков, болезней, насилия, и потому чувствовали себя несчастными. Нет сомнения и в том, что многие ощущали свои несчастья по менее очевидным причинам. И все же большинство было склонно приписывать несчастья конкретным и случайным событиям (личные неудачи, слабое здоровье, происки врагов, жестокость господ и властителей) или отдаленным, общим и неизменным причинам (таким как человеческая природа или божественная воля). Убеждение в том, что сам социальный порядок — как нечто среднее между случайностью и необходимостью — может быть существенной причиной ощущения несчастья, стало популярным лишь в Новое время, начиная с XVIII в. Отсюда вытекает известный афоризм Сен-Жюста: «Идея счастья есть нечто новое в Европе». Действительно, в те времена признание счастья как чего-то такого, что может быть запроектировано путем изменения социального порядка, было абсолютным новаторством. Речь идет о постановке перед собой задачи, к выполнению которой сам автор приведенных слов и его якобинские друзья отнеслись с самым глубоким убеждением.
Отметим попутно, что идея социального порядка, который поддается совершенствованию, появилась одновременно с представлением: действия и решения людей могут повлечь за собой непредвиденные последствия. По существу второе представление было сформулировано таким образом, чтобы нейтрализовать первую идею. Оно позволяло полагать, что даже блестяще спроектированные институциональные изменения могут привести к непоправимым результатам, — именно благодаря указанным непредвиденным следствиям или «результатам, противоположным намерениям». И все же нельзя утверждать, что с самого начала обе идеи сталкивались между собой как раз с такой целью. Идея, согласно которой социальный порядок может быть усовершенствован, возникла впервые во Франции в эпоху Просвещения. Концепция непредвиденных последствий была главным
58
достижением шотландских моралистов, действовавших в ту же эпоху. Первичная форма данной идеи состояла в подчеркивании положительных и социально желательных последствий деятельности, направленной на удовлетворение личного своекорыстия. Речь шла о действиях, которые традиционно рассматривались как достойные осуждения. Вначале не имелось ввиду открытие неудачных следствий реформ, осуществляемых во имя самых добрых намерений. Во всяком случае, идея общества, которое может быть усовершенствовано, не была задушена уже в момент ее рождения. Наоборот, она расцвела и появилась вскоре после Французской революции. На сей раз, она выступила в маске решительной критики социального и экономического порядка капитализма, возникшего на пороге XIX в,
Здесь я попытаюсь описать ряд вариантов такой критики и отношений между ними. Прежде всего, я покажу близкую связь и одновременно противоположность между ранними аргументами в пользу рыночного общества и более поздней решительной критикой капитализма. Затем будет описано противоречие между данной критикой и очередным диагнозом несчастий, глубоко затрагивающих современное капиталистическое общество. Но вторая разновидность критики будет побеждена ее же оружием — еще одним комплексом идей. Во всех трех случаях мы практически имеем дело с полным отсутствием коммуникации между противостоящими тезисами, Иначе говоря, развивались родственные интеллектуальные формации, нисколько не осознавая факт взаимного существования. Нет никого сомнения в том, что подобное незнание близких родственников — цена, которую платит идеология за собственную самоуверенность.
Теория doux-commerce
Вначале я позволю себе кратко напомнить комплекс идей и надежд, сопутствующих экспансии рынка и развитию торговли с XVI по XVIII в. Здесь я должен вернуться к главной теме моей книги «Интересы и страсти» для того, чтобы успокоить читателей. По крайней мере, тех, кто упрекал меня в том, что (хотя я достаточно подробно проследил развитие идеологии вплоть до Адама Смита) я заставил их гадать о последующих событиях. Эти читатели имеют в виду нашу нынешнюю эпоху, которая действительно значима для них. В указанной книге я обращал внимание на положительные побочные результаты в сфере формирования характера граждан и в искусстве управления,
59
которых с доверием и надеждой ожидали от возникающей экономической системы. Я особенно подчеркивал последнюю надежду — ожидание того, что расширение рынка ограничит произвольные действия и эксцессы в борьбе за власть со стороны монарха, как во внутренней, так и во внешней политике. Эта надежда была выражена Монтескье и Джемсом Стюартом. Теперь я хотел бы остановиться на том, какие следствия для гражданина и гражданского общества надеялись получить от развития торговли. Убеждение в том, что торговля обладает большим цивилизующим значением, стало в середине XVIII в. конвенциональной мудростью, хотя Руссо выступил против нее. Я позволю себе еще раз процитировать ключевое положение Монтескье, помещенное в самом начале обсуждения экономических вопросов в сочинении «О духе законов»: «Можно считать общим правилом, что везде, где нравы кротки, там есть и торговля, и везде, где есть торговля, там и нравы кротки». Связь «кротких нравов» с торговлей здесь представлена как взаимоукрепляющая, но спустя несколько предложений Монтескье не оставляет никаких сомнений о характере причинной зависимости: «Торговля... шлифует и смягчает варварские нравы: это мы видим ежедневно»1.
Такой способ восприятия влияния развития торговли на общество был общепринятым почти на всем протяжении XVIII в. Он акцентирован в двух известных историях прогресса — «Взгляде на прогресс общества в Европе» (1769) У. Робертсона и «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» (1793—794) Кондорсэ. Вслед за Монтескье Робертсон повторяет почти буквально: «Торговля... укрощает и смягчает человеческие нравы». И хотя Кондорсэ критически относился к политическим идеям Монтескье, но в этом отношении он верно следовал за ним: «Нравы смягчились... благодаря влиянию духа коммерции и промышленности, врага жестокостей и потрясений, изгоняющих богатство»2.
Одно из наиболее сильных утверждений сформулировал в 1792 году Т. Пейн в «Правах человека»: «Торговля — это система мира, и она действует таким образом, чтобы род людской стал более сердечным, а народы и отдельные индивиды полезными друг для друга... Изобретение торговли ... остается до сих пор самым крупным шагом в направлении всеобщей цивилизованности, которая непосредственно не связана с моральными принципами»3.
60
Каким же был конкретный смысл пресловутой «douceur» — политеса, мягкости, хороших манер и сердечности? И какими путями рост торговли должен был привести к столь поразительным следствиям? В литературе XVIII в. об этом почти ничего не говорится, возможно потому, что современникам это казалось самоочевидным. Наиболее подробное описание, с которым мне пришлось встретиться, исходит от некого Сэмюэля Рикарда. Впервые оно было опубликовано в 1704 г. и, видимо, стало весьма популярным, поскольку многократно переиздавалось на протяжении последующих 80-ти лет,
«Торговля связывает людей между собой благодаря тому, что они становятся взаимно полезными. Благодаря торговле моральные и физические страсти заменяются интересами... Торговля обладает особыми свойствами, отличающими ее от всех остальных занятий. Она настолько сильно влияет на чувства людей, что из прежде гордого и высокомерного делает неожиданно мягкого, кроткого, учтивого и услужливого человека. Благодаря торговле человек приобретает рассудительность, честность и хорошие манеры, учится быть смышленым и сдержанным на словах и в делах. Человек избегает нехороших поступков, поскольку знает, что для удачи, в делах нужны рассудительность, благоразумие и честность. По крайней мере, в своем поведении он стремится соблюдать приличие и уважение к другим людям для того, чтобы не вызвать неблагоприятных мнений со стороны тех, с кем приходиться встречаться сегодня или завтра. Он не осмелится выставить себя на посмешище из-за опасения потерять доверие у других людей. Тем самым в обществе удается избежать скандалов, над которыми оно могло бы сокрушаться при иных обстоятельствах»4.
В приведенном отрывке торговля описана как мощная моральная сила. Она приносит обществу множество нематериальных благ, хотя и допускает некоторую дозу лицемерия. Указанные изменения — смягчение человеческих нравов и человеческой природы — Д. Юм и А. Смит несколько позже приписывали распространению торговли и промышленности. Они составили особый реестр добродетелей, которые, по их мнению, обусловливаются и укрепляются торговлей и промышленностью. К ним относятся старательность, упорство (противоположность лени), бережливость, точность и честность. Видимо, последняя добродетель наиболее существенна для функционирования рыночного общества5.
61
Таким образом, появилось не только устойчивое убеждение в том, что общество, в котором рынок есть главный механизм удовлетворения человеческих потребностей, будет создавать значительное количество новых богатств на основе разделения труда и технического прогресса. Такое общество, в качестве побочного продукта или внешнего эффекта, приведет и к появлению более «смирной» разновидности человека. Этот человек будет более честным, достойным доверия, систематичным, дисциплинированным, дружелюбным, способным к поддержке других людей, всегда готовым к поиску решения конфликтов и нахождению сферы согласия при противоположных мнениях. В свою очередь, новая разновидность человека облегчит исправное действие рынка. На ранних фазах существования капитализм был весьма неустойчивым. Это объясняется необходимостью соответствия тем элементам докапиталистической ментальности, которые остались после феодализма и других «примитивных и варварских» эпох. Но в соответствии с указанным рассуждением, благодаря культивированию торговли и промышленности капитализм со временем создаст комплекс психических установок и моральных склонностей, которые сами по себе достойны подражания. Одновременно они будут влиять на дальнейшее распространение системы. И действительно, в некоторые периоды темп и стихийность экспансии капитализма придавали такому предположению значительную вероятность.
Теория саморазрушения
Что же произошло с проектом XVIII века? Я пока откладываю эту тему для последующего разбора, а сейчас займусь другой группой идей. По сравнению с теорией doux-commerce они намного более известны и являются ее противоположностью. Капиталистическое общество нисколько не способствует сохранению douceur и других видов кроткого поведения. Наоборот, оно обнаруживает совершенно определенную склонность к разрушению моральных основ, на которые должно опираться любое общество, включая капиталистическое. Эту разновидность идей я определяю как теорию саморазрушения.
У нее нетрудно обнаружить множество предшественников среди марксистских и консервативных мыслителей. Более того, один из представителей современной политической экономии, которого нельзя причислить ни к одному из указанных направлений, тщательно проанализировав данный тезис и придал ему новую из-
62
вестность. Ф. Хирш недавно опубликовал популярную книгу под названием «Социальные пределы развития экономики» В ней осуществлен детальный анализ проблемы «атрофия морального наследства» капитализма (так называется раздел, включающий главы 8—11). Хирш доказывает, что рынок разрушает моральные ценности, которые прежде были главным основанием его функионирования. Он утверждает, что они являются наследством социально-экономических систем (например, феодализма), предшествующих капитализму. Идея о том, что капитализм способствует омертвению или «эрозии» собственных моральных оснований, формулируется следующим образом:
«Социальная мораль, образующая каркас экономического индивидуализма, является наследством докапиталистических и доиндустриальных эпох. Данное наследство ослабляется с течением времени и вследствие коррозии, являющейся результатом столкновения с действительными ценностями капитализма. Или вследствие роста анонимности и подвижности индустриального общества, если ту же мысль выразить в общем виде. В результате система потеряла внешнюю поддержку, которую индивиды прежде считали самоочевидной. По мере того как поведение индивидов все больше ориентировано на индивидуальные блага, теряют значение традиции и стимулы, связанные с позициями и целями социального характера. Ослабление традиционных социальных ценностей усиливает недостатки функционирования капиталистической экономики»6.
Опять-таки хотелось бы знать более детально, каким же образом рынок влияет на ценности, но не способствует культивированию douceur, a вызывает их «омертвение» и «эрозию»? Развивая аргументацию, Хирш формулирует следующие главные тезисы:
1. Типичный для капитализма акцент на личные интересы и собственность затрудняет производство публичных благ и гарантии сотрудничества (особенно на поздних стадиях развития капитализма), необходимых для функционирования системы (глава 11).
2. По мере роста значения макроэкономической политики (по Кейнсианским или другим образцам) ее авторы вынуждены все больше руководствоваться «всеобщими», а не индивидуальными интересами, однако - система, базирующаяся на единичных интересах, не обладает механизмами, гарантирующими выработку надлежащих мотивов поведения. Если такие мотивы все
63
же появляются, они образуют пережитки прежних ценностей, подверженных эрозии».
3. Такие социальные добродетели как «истина, доверие, согласие, самоограничение, чувство долга» необходимы для функционирования «индивидуалистической экономики, основанной на контракте» и в значительной степени вытекают из религиозных убеждений. Однако «индивидуалистическое и рационалистическое основание рынка подрывает собственный религиозный фундамент»7.
Последнее утверждение совершенно противоречит прежнему пониманию торговли и ее полезной роли. Во-первых, мыслители XVII—XVIII вв. были убеждены в том, что должны принимать человека «таким, каким он есть на самом деле». Но так понятый человек означал существо, в значительной мере бесчувственное к императивам морали и предписаниям религии. В рамках данной пессимистически-реалистической оценки человеческой природы мыслители двигались в направлении открытия «интереса» как принципа, способного заменить «любовь» и «милосердие» в качестве основания хорошо организованного общества. Во-вторых (что наиболее важно в контексте указанных рассуждений), в той мере, в которой обществу для его функционирования нужны моральные ценности «истины, доверия и т. д.», эти мыслители лелеяли еще одну надежду: данные ценности не только не будут подвергаться эрозии, а наоборот — они будут вырабатываться функционированием, практикой и стимулами, действующими в рамках рынка.
Следовательно, Хирш — лишь один из последних представителей теории саморазрушительных склонностей, культивируемых рынком и капитализмом. При анализе данной теории надо оглянуться назад, хотя бы для ответа на вопрос: существовал ли вообще когда-либо контакт между двумя противоположными взглядами на моральные следствия торговли и капитализма?
Нет никакого сомнения в том, что идея «Капитализм как социально-экономическая система содержит в себе зародыш собственной гибели» есть краеугольный камень марксистской мысли. Однако для Маркса эта популярная метафора относилась к социально-экономическим следствиям действия системы. Некоторые свойства капиталистической системы (тенденции концентрации капиталов и падения нормы прибыли, периодические кризисы перепроизводства) должны были привести к социалистической революции, которую должен осуществить все
64
более многочисленный, классово сознательный и боевой пролетариат. Иначе говоря, Маркс не обязан был открывать непосредственные и разрушительные механизмы, которые будут действовать подобно пятой колонне, подрывая изнутри капиталистическую систему. Но он выковал одно из главных звеньев в цепи рассуждений, которая в конечном счете привела к такому выводу. В «Коммунистическом Манифесте» и других ранних работах Маркс и Энгельс обращали значительное внимание на способы, посредством которых капитализм разрушает любые традиционные институты и ценности, такие как любовь, семья и патриотизм. Все становится предметом купли-продажи, любые социальные связи рушатся под воздействием денег. И все же Маркс не был первым, заметившим это явление. Почти сто лет назад такая констатация была сутью консервативной реакции на развитие рыночного общества и формулировалась Болингброком и его окружением, находящихся в оппозиции к Уальпилю и правительству вигов. Заново эта тема была поставлена в начале XIX в. романтическими и консервативными критиками промышленной революции. Например, Кольридж в 1817 г. писал: «Действительный источник и логово всех бед коренится в господстве духа торговли над силами, которые противостоят ему по природе вещей — древними чувствами иерархии и происхождения»8.
Однако способность капитализма «доминировать» над всеми традиционными и высшими ценностями не рассматривалась как угроза для него самого. По крайней мере, эта опасность вначале не замечалась. Дело обстояло совершенно иначе. Правда, нередко полагали, что мир, сформированный капитализмом, становится все более нищим в сфере духа и культуры. Однако сам капитализм как таковой рассматривался как победная сила, противостоять которой невозможно. Не менее распространенной была еще одна надежда: развитие капитализма приведет к полной перестройке общества. Обычай будет заменен контрактом, «община» — «обществом», традиция — современностью, а все остальные сферы жизни (государство, семья, традиционные иерархии, постоянные формы взаимодействия людей) будут кардинально преобразованы. Для описания влияния капитализма на извечные формы социальной жизни использовались разные метафоры: от «разложения» через «эрозию», «коррозию», «порчу», «проникновение» до «вторжения» и даже «истребительного рынка» (по определению К. Поланьи).
65
Но едва капитализм был признан непобедимой силой, безудержные успехи которого вызывали просто шок, как сразу же появилась идея: он рано или поздно свернет себе шею, подобно всем остальным победителям! Он есть дикая и слепая сила (вспомним выражение «слепые силы рынка»). Поэтому капитализм может способствовать не только коррозии традиционного общества с присущими ему ценностями, но и разлагать ценности, которые имели фундаментальное значение для успеха капиталистического общества.
А по сути дела приписывание капитализму необузданной силы экспансии, проникновения и дезинтеграции было ловким идеологическим трюком. Он призван был доказать: капитализм стремится к собственной гибели. Такой маневр оказался особенно популярным во времена, в которые произошел отказ от идеи прогресса как главного мифа для того, чтобы оказаться в сфере влияния разнообразных мифов саморазрушения — от Нибелунгов до Эдипа.9
Простейшую модель самоубийства капитализма можно назвать сценарием «красивой жизни», в отличие от самоподтверждаюшей модели doux-commerce. На первых фазах для успеха капитализма требуется, чтобы капиталисты были крайними скопидомами и жили крайне скромно в целях обеспечить процесс накопления. Однако в определенный момент, установить который крайне трудно, связанный с накоплением рост богатства начинает ослаблять дух бережливости. Все более слышны голоса «Даешь красивую жизнь!». Смысл этого лозунга состоит в немедленном удовлетворении потребностей, а не откладывания их на потом. Но едва этот лозунг будет реализован, прогресс капитализма остановится.
Однако в таком выводе нет никакой новизны. Идея о том, что успешное накопление богатства подрывает процесс их производства, существовала уже в сознании на протяжении XVIII в., от Д. Уисли до Монтескье и А. Смита. Рассуждения подобного типа стали модными после выхода исследования М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Любые свидетельства, подтверждающие разрушение репрессивной этики, имевшей принципиальное значение для развития капитализма, истолковывались как большие угрозы для способности системы к самосохранению. Столь разные наблюдатели, как Г. Маркузе и Д. Бэлл, писали в таком духе и по одному шаблону. Я считаю, что они просто не осознавали того, что извлекают из нафтали-
66
на давно известную старую морализирующую историю. В ней повествуется, как еще в Древнем Риме республиканские добродетели сдержанности, гражданской гордости и мужества вначале способствовали победам и захватам новых территорий. А затем эти успехи, в свою очередь, подорвали указанные добродетели, уничтожили республику и привели, в конечном счете, к крушению империи.
Непритязательная диалектика этой истории до сих пор остается привлекательной. Правда, она давно отброшена как объяснение заката и падения Рима. Все попытки объяснить современный капитализм и предсказать его будущий упадок практически в тех же самых категориях заслуживают подобной судьбы, причем, по многим основаниям. Упомяну лишь одно: в приведенном вымышленном и мнимом объяснении процесса развития и упадка капитализма главная роль приписывается вначале становлению, а затем упадку значения индивидуальной бережливости. Это ведет к тому, что совершенно упускаются из виду переменные, имеющие ключевое значение — экономичность предприятий, технологические инновации и предприимчивость, не говоря уже об институциональных и культурных факторах.
Есть и более рафинированные и менее механистичные шаблоны тезиса о саморазрушении. Видимо, наиболее известным является положение, сформулированное И. Шумпетером в книге «Капитализм, социализм, демократия». Вторая часть книги называется «Может ли устоять капитализм?» На этот вопрос Шумпетер отвечал преимущественно отрицательно. Причем не вследствие неразрешимых проблем, с которыми сталкивается и которые порождает капитализм, а вследствие роста вражды к нему со стороны многих социальных слоев, особенно интеллектуалов. В контексте этого вывода Шумпетер пишет: «Капитализм порождает нормы интеллектуальной критики, которые после ликвидации морального авторитета большинства институтов обращаются, в конечном счете, против него самого. Буржуа неожиданно замечает, что рационалистическая установка не заканчивается на титулах королей и пап, а с такой же силой атакует частную собственность и все систему буржуазных ценностей»10.
По сравнению со сценарием «красивой жизни» здесь мы имеем дело со значительно более общим выводом на тему саморазрушения. Но является ли он более убедительным? Капитализм сводится к роли ученика чародея, который не может остановить приведенный в действие механизм, и, в конечном счете, губит
67
не только своих врагов, но и себя. Это представление могло соответствовать убеждениям Шумпетера. Не следует забывать, что его происхождение связано с Венской культурой эпохи «конца века», для которой самоубийство было повседневностью, не подлежащей сомнению и понятной самой по себе. Те, кто не укоренен в данной традиции, совсем не обязательно должны считать приведенные аргументы убедительными. Более того, в них можно усомниться и подчеркнуть: наряду с механизмами саморазрушения надо учитывать и элементарные силы воспроизводства и самосохранения. Несомненно, такие силы многократно заявляли о себе в истории капитализма, начиная с фабричного законодательства и кончая введением социальных гарантий и экспериментами по осуществлению антициклической макроэкономической политики.
Конечно, взгляды Шумпетера можно сделать более убедительными, если бы удалось доказать: освобожденные капитализмом направления идеологии непроизвольно разрушают моральные основы капитализма. Иначе говоря, если капитализм находится в большом долгу перед прежними формами общества и идеологии, нежели это осознает победившая буржуазия и ее идеологи, то действия, направленные на подрыв капитализма, влекут за собой случайное следствие по разрушению социальных оснований, на которые опираются данные группы. Такая идея была высказана в тот же период, к которому относится указанная работа Шумпетера. Но эту идею развивала совсем другая группа еврейских интеллектуалов, тоже эмигрировавших в США в 1930-е гг. Речь идет о представителях критической теории Франкфуртсткой школы. Оставаясь в рамках марксистской традиции, они уделяли большое внимание идеологии как ключевому фактору исторического развития. Главной фигурой данной группы был М. Хоркхаймер. В лекциях, прочитанных во время войны и опубликованных позже под претенциозным названием «Затмение разума», он дает абсолютно идеалистическую интерпретацию несчастий и бед, выпавших на долю западной цивилизации в этот период.
По мнению Хоркхаймера, при капитализме частные интересы становятся решающими и детерминируют агностицизм в отношении вечных ценностей. В итоге разум сводится к чисто инструментальной роли, ограниченной решениями о средствах, которые могут использоваться для достижения произвольно установленных целей. А в прежние времена разум и вера исполь-
68
зовались не только для определения средств и формулировки целей человеческих действий. Разум был способен таюке формировать ключевые понятия свободы, равенства и справедливости. Но едва утилитарная философия и частный интерес прочно уселись в седле, разум начал терять эту способность. Тем самым «... прогресс субъективного разума уничтожил теоретические основания мифических, религиозных и рационалистических идей, несмотря на то, что цивилизованное обшество до сих пор существует благодаря остаткам этих идей».
А далее писанина Хоркхаймера превращается в сплошное рыдание по поводу возвышенных идей и ценностей, начиная от свободы и человечности и кончая «радостью от цветка и благоуханного воздуха... которые, наряду с физической силой и материальными интересами, способствовали поддержанию целостности общества... но которые, однако, были подорваны вследствие формализации разума»".
Нетрудно установить, что в данном случае мы имеем дело с одной из более ранних версий тезиса Хирша об «исчерпании морального наследства капитализма». И не составляет труда догадаться, почему эта идея была забыта за период всего в 30 лет, разделяющих Хирша с Шумпетером и Хоркхаймером. Для западного мира то был период необычайно длительного времени устойчивого экономического роста и политической стабильности. Казалось, что капиталистическое рыночное хозяйство наконец, преодолело указанную склонность к самоубийству благодаря кардинальным изменениям на основе кеинсианства, планирования и реформы социального государства. И ему удалось еще раз возродить если не douceur, то значительную уверенность в возможности решения проблем, встречающихся на его пути. Однако ощущение всеобщего кризиса, типичное для 1930—1940-х гг., снова появилось в 1970-е гг. Частично оно было следствием массовых движений конца 1960-х гг., которые все еще полностью не поняты, а частично отражало непосредственную реакцию на происходящие волнения и потрясения.
Кроме того, теоретический анализ социальных взаимодействий на основании принципа мотивации индивидуальным интересом привел в это время к открытию специфических ситуаций (например, дилеммы узника), при которых строгое следование за собственным интересом не может привести к оптимальным результатам, особенно в том случае, если актеры не руководствуются какими-либо внешними нормами взаимодействия. Но
69
поскольку поведение, иллюзорно мотивированное индивидуальным интересом, не приводило к гибельным последствиям (как это имело место ранее), возникло искушение извлечь следующие выводы: некие внешние нормы соблюдаются всегда, хотя и не всегда сознательно; их происхождение связано с эпохами, предшествующими рыночному обществу, в котором господствуют интересы отдельных индивидов; сохранение данных норм в настоящее время находится перед угрозой. При таких обстоятельствах опять появилась идея, согласно которой существование капитализма связано с использованием наследства прошлого, включая прежние моральные принципы.
Не удивительно, что столь пессимистические идеи возродились в трудные и мрачные моменты нашего столетия. Более поражает то, что их даже не пытались связать с предшествующими надеждами: рыночное общество само по себе должно укреплять собственные моральные основы посредством стимуляции douceur, честности, доверия и т. д. Одна из причин отсутствия такого контакта — практическое исчезновение тезиса doux-commerce в XIX в., после мгновений процветания в предшествующем столетии. Другая причина — преобразование тезиса в такую форму, при которой невозможно распознать его исходный и действительный смысл. Поэтому надо рассказать историю указанного отсутствия и преобразования.
Закат теории doux-commerce в конце XVIII века
Легче всего согласиться с таким обоснованием заката теории doux-commerce в XIX в., согласно которому она пала жертвой промышленной революции. Безусловно, экспансия торговли в прежние столетия обычно была насильственной и разорительной для многих индивидов и стран. Насилию и разорению подверглись, прежде всего, страны Африки, Азии и Америки, ставшие предметом европейской экспансии. Вместе с промышленной революцией начала разоряться Европа. Традиционное производство все более подвергалось конкуренции со стороны новых «пустяков и безделушек». Многочисленные группы трудящихся становились безработными, а их опыт становился бесполезным. Все социальные классы охватила низменная и судорожная страсть к обогащению. По мере распространения указанных явлений становилось всеобщим ощущение того, что новая революционная сила появилась в самом сердце капиталистической экспансии.
70
Как ранее отмечалось, эта сила определялась как дикая, слепая, необузданная и неумолимая, но ни в коем случае не doux. Лишь в отношении внешней торговли время от времени высказывали спорадические рефлексии: расширение сферы контактов повлечет за собой не только взаимную материальную пользу, но и весьма тонкие побочные следствия в сфере морали и культуры — обогащение ума, улучшение взаимопонимания и мир12. Но если рост промышленности и торговли происходил в рамках отдельной страны, все соглашались с тем, что он ведет к распаду прежнего общества, ослаблению и дезинтеграции (а не укреплению) социальных и эмоциональных связей.
Правда, время от времени в разных странах можно было расслышать эхо прежнего представления: густая сеть взаимных отношений и обязательств, возникающих в результате действия и экспансии рынка, есть способ интеграции гражданского общества. Едва проблема ставится в такой плоскости, сразу вспоминается Э. Дюркгейм и его «Разделение общественного труда». Дюркгейм доказывал (хотя не всегда последовательно), что углубление разделения труда в современном обществе действует как специфический субститут «группового сознания», которое прочно соединяло примитивные общества: «Именно разделение труда поддерживает целостность социальных агрегатов высшего типа». И все же в соответствии с проницательным анализом Дюркгейма, обусловленные разделением труда сделки сами по себе не достаточны для появления указанного субститута. Решающую роль играют многочисленные и, как правило, ненамеренные связи, возникающие между людьми и способствующие взаимным обязательствам. Такие связи возникают вследствие торговых сделок и обязательств, вытекающих из контрактов. Приведем несколько формулировок данного положения, которые встречаются в ходе рассуждений Дюркгейма:
«Мы сотрудничаем в соответствии с собственными желаниями, однако добровольное сотрудничество возлагает на нас обязательства, которые мы на себя брать не собирались...
Члены общества со сформировавшимся развитым разделением труда объединяются посредством связей, постоянство которых значительно превышает те краткие моменты, при которых осуществляется обмен... Поскольку мы восполняем те или иные функции в семье или обществе, постольку становимся узниками сети обязательств, разорвать которые не имеем права...
71
Но если разделение труда производит солидарность, то не потому только, что оно делает из каждого индивида обменщика, как говорят экономисты, а потому, что создает между людьми целую систему прав и обязанностей, надолго связывающих их друг с другом»13.
Следовательно, созданная Дюркгеймом конструкция является значительно более сложной и действует более опосредованно по сравнению с концепциями Монтескье и Д. Стюарта. Рыночные сделки, мотивированные индивидуальными интересами, сами по себе нисколько не способствуют превращению общества в мирное и цивилизованное. По отношению к этой доктрине Дюркгейм высказывает много резких слов, совершенно отличающихся от представления об интересах, типичного для XVII— XVIII вв.: «Хотя интересы сближают людей, но лишь на несколько мгновений, создавая лишь связи внешнего характера... Интересы способствуют лишь поверхностным контактам сознания людей, которое остается взаимно непроницаемым... Любая гармония интересов содержит в себе дремлющий или отложенный на время конфликт... В этом мире интерес есть нечто наименее устойчивое»14.
Итак, позиция Дюркгейма располагается между прежним представлением, согласно которому действия по реализации интересов создают основы социальной интеграции, и более близкой к современности критикой атомизации и разложения социальных связей, обусловленных рыночным обществом. Дюркгейм нигде детально не разъясняет, каким же образом может возникнуть «солидарное» общество на основе разделения труда. В конце жизни он изменил свои взгляды на более активистские и уже не надеялся на разделение труда как механизм социальной интеграции, подчеркивая роль морального воспитания и политического действия15. Но в дальнейшем я постараюсь доказать, что столь амбивалентная позиция обладает существенными достоинствами, а идея, согласно которой социальные связи (при благоприятных обстоятельствах) могут быть привиты экономическим сделкам, заслуживает более глубокого анализа.
Подобно Дюркгейму, позиция его немецкого ровесника Г. Зиммеля тоже амбивалентна. Никто по сравнению с ним не писал более убедительно о том, что свойства денег способствуют отчуждению. Зато в других работах Зиммель подчеркивал интегрирующие функции конфликта в современном обществе и в связи с этим высоко оценивал конкуренцию как институт,
72
оживляющий эмпатию и укрепляющий социальные связи. Но не между конкурентами как таковыми, а между конкурентами в целом и клиентом — третьим важным участником обмена, о котором часто забывают: «Цель конкуренции в данном обществе всегда заключается в предполагаемой пользе одного или множества третьих лиц, к которым стремится максимально приблизиться каждая из конкурирующих сторон. Обычно подчеркивают вредоносные, дезинтегрирующие и гибельные последствия конкуренции, соглашаясь в лучшем случае с тем, что она способствует росту общего благосостояния. Но конкуренция обладает также огромными социализирующими следствиями. Конкуренция принуждает волокиту к тому, чтобы он сблизился с предметом собственных вожделений, вступил с ним в контакт, открыл и приспособился к его сильным и слабым сторонам...
Бесконечное число раз конкуренция добивается того, что удается достичь только любви. Речь идет о постижении самых сокровенных желаний другого человека, причем раньше, чем он сам сможет их осознать. Между человеком интереса и его конкурентами существует взаимная напряженность. Она обостряет — вплоть до ясновидения — чувствительность к возникающим в обществе тенденциям в сфере изменения вкусов, мод и интересов... Современная конкуренция обычно определяется как борьба всех против всех, но не в меньшей степени она является борьбой за всех...
Короче говоря, конкуренция есть сеть из тысячи социальных нитей, которая соткана путем сознательной концентрации воли, чувств и мыслей сограждан... Едва подвергается децентрализации узкая и наивная солидарность, характерная для примитивных социальных условий, как стремление каждого человека сблизиться и приспособиться к другим людям возможно только при условии заплатить за это конкуренцией. Ее цена состоит в том, что борьба с одним из сограждан ведется во имя сближения с другими»16.
Здесь взгляды Зиммеля сближаются с позицией Дюркгейма в том смысле, что он тоже открывает в структурах и институтах капиталистического общества функциональные эквиваленты элементарных связей обычая, которые (по идее) поддерживали единство традиционного общества. В другом месте он показывает, что в современном обществе развитое разделение труда и значение кредита для действия экономики одновременно зависят и укрепляют высокий уровень доверия в общественных
73
отношениях17. В отличие от строгого Дюркгейма Зиммелю была присуща экспрессия и иконоборчество. И он более успешно убеждал читателя в том, что определенные свойства рыночного общества скорее способствуют, нежели препятствуют социальной интеграции.
Тем самым меньшинство получило неожиданную поддержку со стороны знаменитых и неоднозначных мыслителей. Но нет сомнения и в том, что их фундаментальный вклад в социальные науки (примером может быть хотя бы Дюркеймовское понятие «аномии») одновременно обеспечивал аргументами представителей большинства. Здесь уместно присмотреться к американской сцене, хотя бы для контраста, как правило, к пессимистическому анализу капитализма европейскими социологами. На этой сцене можно увидеть группу значительных ученых, начиная с , Ч. Кули, Э. Росса и кончая молодым Д. Дьюи, действующих в конце XIX—начале XX вв. В отличие от европейских коллег, их не интересовали в такой степени проблемы социальной дезинтеграции. Они просто хотели понять: что же поддерживает единство общества столь успешно? Для объяснения было изобретено понятие «социального контроля». Ключевое значение в нем приписывалось небольшим размерам, непосредственным отношениям и способностям разных групп успешно поддерживать нормы и правила18. Характерно, что в этой литературе экономические отношения практически не упоминаются как источник поведения, способствующий социальной интеграции.
То же самое можно сказать о системе социологии Т. Парсонса, сконструированной несколько позже. Существуют принципы, которые удерживают в рамках мошенничества на рынке. Парсонс называл их «ориентацией на группу», полагая, что такая ориентация в той или иной степени существует в любом обществе. Парсонс не считал, что указанные нормы в какой-либо степени вытекают из самого рынка. Система Парсонса сконструирована из жестких дихотомий. И потому в ней просто невозможно появление множества «универсальных» (по определению) связей между рыночными сделками. У Парсонса речь идет о «партикулярных» и «дисперсных» явлениях типа дружбы и вообще любых приватных связей между людьми19.
Вот и все на тему социологии. Что же сказать об экономистах? Эта публика, в конечном счете, осталась верной либо традиции открытой критики капитализма либо традиции его за-
74
шиты и прославления. Но разве не должны были, по крайней мере, апологеты быть заинтересованными в поддержке жизненности идеи, согласно которой повторяющиеся акты купли-продажи, характерные для развитых рыночных обществ, выковывают самые разнообразные связи доверия, дружбы и обобществления, тем самым поддерживая общество в состоянии интеграции? По существу, поражает отсутствие такого хода рассуждений в профессиональной экономической литературе. И тому есть много причин. Во-первых, экономисты стремились следовать за естествознанием с точки зрения дисциплины и количественной точности. Поэтому они не видели никакой пользы в применении нестрогих («туманных») спекуляций на тему о влиянии экономических сделок на интеграцию общества. Во-вторых, большинство экономистов было воспитано в традициях классической политической экономии. И они свысока относились к тревоге социологов, обусловленной отрицательными и губительными следствиями развития капитализма. Экономисты квалифицировали такие следствия как неизбежную, но скоропреходящую цену, которую надо заплатить за обретение длительной пользы. А критика капитализма не склоняла экономистов к поиску или констатации влияний, которые рынок может оказывать на социальную жизнь и социальные связи.
Однако главное объяснение имеет иной характер. Экономисты, выступавшие в пользу рынка, не могли использовать и связывать себе руки возможностью применения аргументации относительно интегрирующих следствий рынка. Причина в том, что такие аргументы не могут быть сформулированы для рынка, на котором существует совершенная конкуренция. Утверждение экономистов об аллокативной рациональности и всеобщей максимилизации благосостояния истинно только для такого рынка, на котором имеется множество анонимных участников (продавцов и покупателей), располагающих полной информацией. Для таких участников цены есть внешняя данность, на которую они не имеют никакого влияния. Такие рынки функционируют без всяких длительных личных и социальных контактов участников. Иначе говоря, при совершенной конкуренции нет места для торгов, негоциации, рекламации и взаимных уступок. Заключающие договор стороны не обязаны входить в повторные, длительные и постоянные контакты, благодаря которым они могут лучше познать друг друга. Совершенно ясно, что данный аспект рынка (образование связей) может приобрести важность лишь
75
тогда, когда мы имеем дело со значительными отступлениями от модели идеальной конкуренции — «извращениями» действия рынка. На самом деле такие отклонения существуют постоянно и приобретают особую важность. Тем не менее прорыночно настроенные экономисты обычно не выходят за рамки схемы. Они либо указывают на соглашения между продавцами, вслед за А. Смитом эпигонски осуждая их как «заговоры против общества», либо значительно чаще просто пренебрегают данными отклонениями и пытаются представить действительную несовершенную конкуренцию как нечто такое, что в незначительной степени отклоняется от идеала. Таким образом, экономисты стараются придать рынку экономическую легитимность, одновременно принося в жертву социологическую легитимизацию. По отношению к последней всегда можно выдвинуть претензии, поскольку в отличие от модели идеальной конкуренции большинство рынков функционирует в действительном мире20.
Лишь в последние годы экономисты разработали методы анализа, в которых отклонения от модели конкуренции не рассматриваются как грех или пустяк, не имеющий значения. Наоборот, новые подходы подчеркивают значение стоимости сделок, недостаточной информации и несовершенной максимализации. В этом случае объясняются или легимитизируются явления, которые играют роль причины возникновения существенных, постоянных и взаимосвязанных взаимодействий между участниками сделок. Речь идет о следующих феноменах: постоянные связи между производителями и потребителями; создание иерархических структур рынка; использование «критики», а не «разрыва» для модификации взаимного недовольства. Тем самым сцена уже подготовлена для частичной реабилитации теории doux-commerce.
Теория феодальных оков
Я отношусь с полным уважением к новым подходам. Но нельзя не заметить, что популярная в XVIII в. теория doux-commerce, доказывающая благотворное влияние развития капитализма на общественные отношения, практически исчезла с интеллектуальной сцены в последовавший за ней продолжительный период, т. е. как раз тогда, когда наступило полное развитие капиталистического общества. Параллельно развивались значительно более критические взгляды на социальные последствия капитализма. Но пути идеологии никогда не бывают прямыми. Тщательный анализ показывает, что оптимистический
76
тезис doux-commerce снова появился в XIX—XX вв., но теперь в качестве неотъемлемого элемента критического взгляда на развитие капитализма, поскольку критическое отношение к нему стало повсеместно распространенным. Не исключено, что теории doux-commerce удалось сохраниться как раз благодаря ренегатской смене лагеря, к которому прежде принадлежали ее сторонники.
До сих пор я рассматривал одну разновидность критического анализа влияния капитализма на социальный порядок — теория саморазрушения квалифицирует капитализм как необычайно мощную силу, которая разлагает все предшествующие социальные формы и любые идеологии, подрывая даже моральные основания самого капитализма. Но не менее громко заявила о себе совершенно противоположная критика капитализма. Она полагает главной слабостью капитализма бессилие буржуазии (по сравнению с традиционными социальными группами) как его приказчика. Речь идет о нежелании буржуазии подняться в открытую атаку, о ее холуйстве и верноподданности в отношении окопавшейся аристократии и старого порядка. Подобно теории саморазрушения здесь тоже нельзя говорить о единой и целостной системе взглядов. Скорее мы имеем дело с серией введений разных авторов, написанных в разных целях и в различных контекстах. Тем не менее общую тенденцию усмотреть нетрудно: капиталистические страны критикуются и одновременно испытывают трудности как раз из-за того, что проникновение капитализма в социальную жизнь является крайне осторожным, трусливым и нерешительным. Поэтому многие элементы прежнего порядка остаются нерушимыми. Они определяются по-разному — как феодальные гири, оковы, путы, пережитки, грузы и реликты. Но теперь оказывается, что именно они обладают значительной силой и влиянием. А поскольку такие страны критикуются как раз за то, что не ликвидировали все указанные феодальные пережитки, то не менее часто говорят, что «им не удалось осуществить буржуазную революцию». Эту группу идей можно определить как теорию феодальных оков или неосуществленной буржуазной революции.
Если теория феодальных оков совершенно очевидно противостоит теории саморазрушения, то одновременно она является зеркальным отражением идеи doux-commerce. И в этом нетрудно убедиться. Из теории феодальных оков имплицитно вытекает: все шло бы лучшим образом, если бы только торговля, рынок и
77
капитализм могли свободно развиваться, если бы их не держали на поводке докапиталистические институты и отношения. При этом предполагается, что цивилизаторская миссия рынка может осуществиться либо непосредственно (в соответствии с ориги-н&пьным сценарием теории doux-commerce), либо опосредованно (через открытие пути для пролетарской революции и социалистического братства сразу после того, как будет сметен капитализм). И тогда общество окажется всего в одном шаге от пресловутой douceur, обусловленной рынком! Однако ни тот ни другой сценарий не могут воплотиться в жизнь, поскольку враждебные силы старого порядка обладают такой силой, которой от них никто не ожидал. Следовательно, тезис о феодальных оковах базируется на теории doux-commerce, но не желает в этом признаться. Это — переодетая в критический костюм и поставленная на голову теория doux-commerce.
Итак, есть две разновидности критики капитализма — теория саморазрушения и теория феодальных оков. Каждая из них подчеркивает «противоречия» капитализма, но не менее очевидно, что обе теории совершенно противоречат друг другу.
Следовательно, в данном случае мы имеем дело с противоречием между противоречиями или с присущим капитализму противоречием второго порядка, если воспользоваться языком математики. Характер данной противоположности прояснится после краткого обзора развития разных модификаций теории феодальных оков.
Как бы ни противоречили друг другу обе теории, в конечном счете, они являются критикой капитализма. И это можно установить путем продвижения назад, вплоть до творчества К Маркса. Я уже отмечал, что Маркс подготовил почву для теории саморазрушения, подчеркивая разрушительные свойства капитализма. Каркас теории феодальных оков тоже был создан Марксом. В предисловии к «Капиталу» он писал, что, по сравнению с Англией, Германия страдает не столько из-за недостаточного развития капитализма, сколько из-за множества унаследованных пороков, вытекающих из сохранения прежних устарелых способов производства вместе с целой надстройкой связанных с ними анахроничных общественных и политических отношений21.
От этой констатации нетрудно перейти к утверждению: для определенных стран устойчивость и неожиданная сила докапиталистических формаций вместе с соответствующей им слабос-
78
тью капиталистической формации могут стать серьезной проблемой. Но для каких именно стран? Пример Германии подталкивает к выводу: речь идет о тех странах, в которых развитие капитализма запоздало, а само запоздание вытекает как раз из прочности докапиталистических форм и того факта, что феодальная «паутина» не была тщательно «выметена» всепроникающей «буржуазной революцией». Согласно этому сценарию, местная буржуазия в данных странах является не только бессильной, но и холуйской, ленивой и трусливой, заключая компромиссы с силами старого порядка и подчиняясь его нормам и ценностям. В результате происходит «извращение» или «оглушение» капиталистических структур. Иначе говоря, вывод становится неожиданным: главная проблема капитализма заключается не в его силе, развитой вплоть до угрозы самоуничтожения, а в его слабости для выполнения «прогрессивной» роли, которую по ошибке приписала ему история.
В настоящее время подобные взгляды развиваются в ряде вариантов неомарксистского анализа стран, находящихся на периферии капитализма. Существуют и более ранние версии, показательным примером которых является широко известная теория империализма Шумпетера. Я уже отмечал, что в начале развития капитализма одной из наиболее сладких надежд было убеждение: мировая торговля и связанные с капитализмом инвестиции сделают войну невозможной и создадут прочные основания для «вечного мира» и дружбы между народами. Однако на пороге XX в. обманчивое содержание этой надежды стало очевидным." И тогда приобрел популярность совершенно другой ход мысли: капитализм неизбежно ведет к соперничеству и войнам между мировыми державами. Эта идея «доказывалась» в разных вариантах теории империализма, сформулированных в этот период в работах , Р. Люксембург, Р. Гильфердинга и В. Ленина. Но Шумпетер писал свой труд во время первой мировой войны. И поспешил на помощь прежним оптимистическим представлениям, доказывая, что капитализм сам по себе может вести только к миру. Для Шумпетера рациональный и ориентированный на калькуляцию «дух капитализма» совершенно противоречил бравурному азарту, типичному для воинственности современной и вообще любой эпохи. Почему же события пошли совсем в другом направлении? Потому что капитализм оказался недостаточно сильным и не смог кардинально изменить ни характер социальных структур, ни ментальность
79
доиндустриальной эпохи с характерной для нее склонностью к геройским глупостям, порождающей только беды и несчастья.
Наиболее поражает то, что в сравнении с Марксом Шумпетер оказывался еще более краснобайствующим сторонником как теории феодальных оков, так и теории саморазрушения. Согласно первой теории, главная проблема капитализма заключается в его слабости (по сравнению с докапиталистическими формациями). Вторая теория подчеркивает разрушительную и самоубийственную силу капитализма. Для объяснения указанного мнимого несоответствия надо прежде всего обратить внимание на то, что тексты, в которых изложены оба тезиса, разделяет период около 20-ти лет. Во-вторых, независимо от возникшего между ними противоречия, обе теории имеют ряд общих свойств: в обоих подчеркивается значение идеологии и ментальное™ и потому обе вполне сознательно направлены на критику марксизма; обе находят удовольствие в подчеркивании ключевой роли нерациональных факторов в человеческом поведении и тем самым вполне соответствует климату эпохи, созданному такими фигурами, как Фрейд, Бергсон, Сорель и Парето.
Но тем временем и марксисты не дремали, подхватив намек своего учителя. Разумеется, если марксисты занимались критикой недостаточной динамики некоторых стран в условиях капитализма, то они преимущественно подчеркивали структурные, а не идеологические факторы. Например, в Грамши и Э. Серени анализировали РисЪрджименто в категориях «неполной» или «неудавшейся» буржуазной революции. Имелось в виду то, что политическое объединение страны во второй половине XIX в. не было связано с аграрной реформой или революцией. Поэтому слабость итальянской буржуазии и отсутствие у нее якобинской энергии рассматривались как автохтонный или самобытный синдром новейшей истории Италии. А затем туземный стереотип сознания трактовался как первичная причина всех последующих несчастий, начиная от неравенства экономики и кончая приходом фашизма22.
Этот анализ частично был поставлен под сомнение специалистами по экономической истории. Они показали, что так называемая «неудача в осуществлении революции» — проведение взамен нее аграрной реформы — по сути дела способствовала накоплению капиталов на Севере страны. Поэтому мнимая неудача на самом деле обладала достоинствами в том смысле, что она
80
обеспечила «большой скачок» промышленности на Севере страны в период, предшествующий первой мировой войне".
Теперь рассмотрим тезис о неудачной или неполной революции. Главная цель, к которой стремились вожди Рисорджимсн-то в Италии, заключалась в объединении нации. И эта цель была достигнута. Характеристика данного движения как неудавшейся буржуазной революции является пустой выдумкой. Эта процедура осуществляется путем замены действительных намерений действующих факторов некой вымышленной «целью» или «духом истории». С другой стороны, неудача революции 1848 г. в Германии была совершенно очевидной, она обнажила политическую слабость немецких буржуазных либералов. Эти события можно было толковать простейшим способом, в соответствии с тезисом о пережитках феодализма. «Трагедия буржуазии состояла в том, что ей еще не удалось победить своего предшественника — феодализм, как на исторической сцене появился уже ее новый враг — пролетариат», — приведенная формула Г. Лукача является весьма изысканной и одновременно наиболее пустопорожней. Тем не менее, она соответствовала условиям Германии и Центральной Европы. Действительно, в этих странах буржуазия никогда не пошла в открытый бой против своего исторического «предшественника» — властвующих элит аристократии и военщины. После нескольких столкновений в 1848 г. буржуазия пошла на компромисс с мощными «пережитками феодализма». По оценкам многих наблюдателей, данный компромисс возлагает на немецкую буржуазию ответственность за все беды и несчастья новейшей истории Германии.
Пример Италии и Германии обладает историческим значением. Но независимо от этого представление о буржуазии как классе, который появляется вместе с развитием торговли и промышленности, но не в состоянии вымести все предшествующие докапиталистические формации, неоднократно высказывалось и открывалось с большой помпой. Например, в Латинской Америке. После второй мировой войны здесь наступил период бурного экономического развития. И ученые принялись за анализ «периферии», руководствуясь молчаливой посылкой: в «центре» капитализм всегда функционировал блестяще. На основе этой посылки теоретики приходили к выводу: трудности «периферии» вытекают из «отклонений» от модели, функционирующей в «центре». При принятии таких понятийных рамок теория феодальных оков становилась крайне привлекательной.
SI
Андерсон высказал строгую и удобную метафору, определив социальную и политическую сцену Латинской Америки как «живой музей». В нем по-прежнему функционируют всевозможные фигуры политической власти, известные из исторического опыта Европы. Тем самым Андерсон как бы намекает на то, что на Западе данные формы следовали друг за другом в неком установленном порядке24.
Отсюда следует: страны Латинской Америки не смогли освободиться от устарелых производственных отношений, и в этом заключается главная причина острых проблем, характерных для данных стран. Местная буржуазия в очередной раз становилась главным виновником. Она всегда готова продаться отечественной земельной аристократии или зарубежным инвесторам, а чаще всего — сразу тем и другим. К этому сводится суть большинства современных попыток неомарксистского анализа. Но теперь в них уже не ставится задача обвинения буржуазии за то, что она не сыграла свою «историческую роль». Поскольку страны Латинской Америки располагаются на «периферии», постольку теперь отрицается прежнее положение: буржуазия может играть положительную роль в развитии. Неспособность к выполнению такой роли выражается в формулировке оскорбительных терминов «компрадорская буржуазия» (П. Баран) или «люмпен-буржуазия» (). Этот вывод повлек за собой падение интереса и пренебрежение к процессам индустриализации и развития капитализма в Латинской Америке.
Я не буду рассматривать здесь истинность приведенных тезисов, а только скажу: они вызывают сомнение, о чем мне уже приходилось писать25. Но я все же хочу продвинуться дальше и обратить внимание на специфический трюк, продемонстрированный недавно сторонниками теории феодальных оков.
Раньше она всегда служила для ответа на вопрос: почему экономическое развитие любой отсталой или запоздавшей в развитии страны испытывает трудности по сравнению с передовыми странами, в которых (как предполагается) развитие шло гладко и ровно? Сегодня некоторые авторы неожиданно обращают внимание на то, что такой счастливой страны нигде и никогда не существовало, зато везде и всегда буржуазия была слабой, трусливой и бесхарактерной. Наиболее решительно этот тезис сформулировал А. Майер в книге «Постоянство старого порядка» (Нью-Йорк, 1981). По его мнению, вплоть до первой мировой войны ситуация во всей Европе напоминала нынешнее положе-
82
ние в Латинской Америке: о местном капитализме можно сказать все за исключением того, что он является динамичным и вездесущим; буржуазия в латиноамериканских странах всегда была подчинена господствующей аристократии; элиты старого порядка обладали не только экономической и политической властью, но и осуществляли культурную гегемонию. Нетрудно понять, что Майер высказывает специфический умеренный вариант тезиса Шумпетера о роли империализма. Он приписывает развязывание первой мировой войны стремлению представителей старого порядка дать ответ на впервые дошедшие до них проявления недовольства господством, которое прежде не подлежало никакому сомнению.
Итак, произошла полная универсализация тезиса о пережитках феодализма. И она оказалось особенно смелым и шокирующим утверждением по отношению к Англии и Франции — двум великим державам. Издавна считалось, что буржуазия и капитализм одержали полную победу во Франции (в результате политической революции) и в Англии (в ходе промышленной революции). Сомнение в позиции Франции и Англии как образцовых стран появилась именно тогда, когда «золотые годы экономического роста» пятой и шестой декады нашего столетия оказались позади. Начали возникать новые вопросы об условиях сохранения капиталистической экономики и общества. Книга Майера распространяет тезис о феодальных оковах на страны, к которым он ранее не относился. По существу, эта книга не является исключением. Аналогичные взгляды развиваются в книге М. Винера в отношении Англии. Он полагает, что дух индустриализации в этой стране лишь промелькнул в 1850-е гг., а затем постоянно угасал. Причина состоит в том, что происходящие из средних классов интеллектуалы были пронизаны аристократическими ценностями. И эта группа начала осуществлять контрреволюцию идеалов, завершившуюся успехом26. Такой ход мысли доведен до крайности в книге «Французская идеология» (Париж, 1981), имевший скандальный успех. По мнению этого автора, вся социальная и политическая мысль Франции в период с середины XIX в. до второй мировой войны и во всю ширину идеологического спектра находилась под влиянием отвратительный амальгамы глупейшего расизма и прото-фашизма!
Моя цель не заключается в критике указанных работ. Я стремлюсь лишь показать, каким образом теория феодальных
83
оков в последнее время применяется в отношении Англии и Франции. Прежде она не имела к ним никакого отношения практически по определению. Причина в том, что теперь большинство ученых квалифицирует наиболее развитые страны как отягченные острыми проблемами, обусловленными преимущественно силой, а не слабостью капитализма.
В конечном счете универсализация теории феодальных оков подрывает две теории одновременно: популярное убеждение о специфическом характере проблем капитализма в периферийных странах (включая те страны Европы, в которых развитие капитализма происходило с запозданием); ту форму теории саморазрушения, которую можно обнаружить прежде всего в наиболее развитых странах.
Америка или угрозы, обусловленные отсутствием феодального прошлого
Чтобы разрешить сомнения и завершить обзор теорий, присмотримся теперь к Соединенным Штатам — форпосту капитализма, который пока не упоминался. Необходимость обращения к опыту данной страны определяется тем, что она — единственная страна, не имеющая никакого отношения к универсализированной теории феодальных оков. По крайне мере, еще никто до сих пор не утверждал, что США находятся или когда-либо находились (если пренебречь Югом и рабством) под гнетом какого бы то ни было старого порядка. Не приходилось и слышать о том, что развитие капитализма в этой стране замедлялось или нарушалось стабильным рыцарским этосом и сохранением феодальных институтов. Наоборот, США до сих пор рассматривались как исключение из правил теории феодальных оков. Причем, энергичное развитие капитализма, предполагающее решительный плюрализм, приписывалось именно отсутствию феодального наследства. Давно известно представление: США находятся под особым благословением, поскольку не отягчены кандалами прошлого, в отличие от Европы. Эта идея была выражена уже в 1818 г. Гете в стихе «К соединенным Штатам», начинающимся словами:
Amerika, Du has est besser Als unser Kontinent, der Alte Hast keine verallenen Schlösser...27
Токвиль придал классическую форму этой сравнительной оценке в одном предложении, которое часто цитируется: «У аме-
84
риканцев имеется то огромное преимущество, что они достигли демократии, не испытав демократических рсполюции, и что они не добивались равенства, а были равны с рождения»". Большинство американских комментаторов с пылом и наслаждением признало собственной столь лестную интуицию. Так возникло широко известное представление об «американской исключительности»: на фоне других наций и стран Америка находится в исключительно удачном положении, поскольку ее история отличается от историй всех остальных стран. К этому обычно добавляют в качестве дополнительных факторов богатые природные ископаемые и величину страны. Поэтому Америка свободна от бесконечных внутренних конфликтов, присущих другим странам Запада.
И вдруг произошла полная перемена декораций! Главный вклад в эту литературу сделал Л. Гарц в классическом труде «-Либеральная традиция в Америке». Гарц полностью согласен с идеей, согласно которой США свободны от пережитков феодализма единственным в своем роде способом. Он цитирует стихи Гете, а цитату из Токвиля помещает в качестве эпиграфа. Но если читать книгу внимательно, можно заметить то, что автор никогда не говорит прямо: скрытое несогласие с Гете и Токвилем! В частности, книга Гарца — это длинное причитание на тему бед и несчастий, павших на долю США по причине отсутствия феодальных пережитков, остатков и т. п. А в выводах он доказывает, что пресловутое отсутствие — весьма сомнительное благо, да и то в лучшем случае. Обычно же Гарц описывает этот феномен как отравленный дар или скрытое проклятие.
По существу, рассуждение Гарца является крайне простым и потому кажется столь убедительным. Америка «родилась свободной» и никогда не вела длительной борьбы с «отцом» — феодальной аристократией. По этой причине в ней нет социального и идеологического разнообразия, в котором никогда не было недостатка в Европе. Именно указанное разнообразие —. главный элемент действительной свободы. Согласно Гарцу, отсутствие идейного разнообразия в Америке — причина отсутствия настоящей консервативной традиции, давно известного бессилия социалистических движений и даже непосредственный повод длительного бесплодия самого политического либерализма. Он указывает еще более важное следствие: отсутствие разнообразия ведет к «тирании большинства», инспирированной «иррациональным учением Локка» и «неслыханным либеральным абсолютизмом»29.
85
Такое положение вещей влечет за собой многочисленные отрицательные последствия в сфере внутренних проблем и международных отношений. Я приведу лишь одно наблюдение, поскольку оно связано с проблемами сегодняшнего дня. Анализируя Новый Порядок и связанный с ним значительный отход от традиционного кредо либерализма, Гарц отмечает, что Рузвельт проводил инновационные реформы под лозунгами «прагматизма» и «смелых и упорных экспериментов»: «Но наиболее важно то, что он был не обязан вообще артикулировать какую то бы ни было философию по причине отсутствия социалистического вызова и традиционного корпоративного вызова со стороны правых сил»30.
Согласно Гарцу, большая часть успеха политики Рузвельта связана с таким способом осуществления который является просто «сублимированным американизмом». В настоящее время уже можно определить цену расходов, связанных с этим маневром. Реформы Нового Порядка и последовавшие за ними программы социального государства никогда не были консолидированы как элементы нового экономического порядка и идеологии. По этой причине реформы не обрели легитимизацию, в отличие от аналогичной политики в других высокоразвитых странах. Теперь стало ясно, что проведенные реформы податливы на атаки со стороны сил, выступающих от имени типично американского «неслыханного либерального абсолютизма».
Анализ Гарца связан с формулировкой новых интуиции за счет преобразования типичных стереотипов, связанных с наличием и значением феодальных пережитков в капиталистических странах. Он показывает, что другие, но не менее острые проблемы могут раздирать страну именно по причине ее «исключительного» и «завидного» положения, которое состоит в отсутствии феодального прошлого. Следует добавить, что позиция Гарца была подкреплена и обоснована недавно проведенными макросоциологическими исследованиями. Из них вытекает, что феодальное общество - с присущей ему сложной институциональной структурой и вмонтированными конфликтами — послужило исходной плодородной почвой для становления западной демократии и капитализма 31. И наоборот: в эссе К. Велице о Латинской Америке (его ход мысли почти идентичен рассуждениям ) доказывается, что отсутствие классической феодальной структуры в историческом опыте данного континента
86
объясняет его «централистскую традицию», которая и несет ответственность за главные проблемы Латинской Америки.
На пути к «Идеологическому табло*
Мой обзор горизонта интерпретаций развития капитализма получился несколько растянутым. В его ходе я сосредоточил главное внимание не на том, что в капитализме является «плохим» или «хорошим» (с точки зрения «справедливости», «эффективности», «экономического роста»), а на том, что ведет к желательным или нежелательным последствиям. Речь об идеях о возможностях экономической и внеэкономической (моральной, социальной, политической) динамики системы. Если читатель ошалел от хаоса представленных тезисов, то теперь я продемонстрирую (на таблице с параметрами 2x2), что мое рассуждение, в сущности, крайне просто и к тому же отличается классической симметрией.
Доминирующее положение рынка против устойчивости докапиталистических формаций; их влияние на рыночное общество
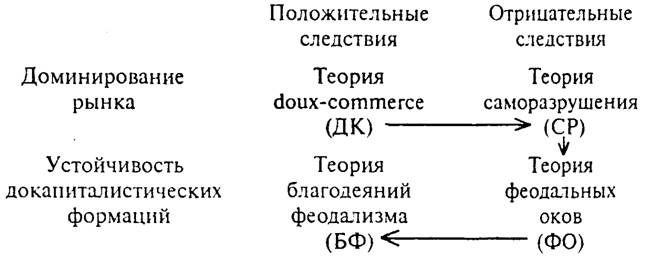
В принципе, я анализировал четыре типа тезисов или теорий и представил их в виде цепи, в которой каждый последующий тезис отрицает (в определенном отношении) тезис предшествующий. Я начал с теории doux-commerce XVIII в. В ней предполагалось, что рынок и капитализм создадут такую моральную общность, которая одновременно приведет к расцвету морально совершенного общества и самого рынка. Но вскоре появился контрапункт в форме теории саморазрушения, которая доказывала противоположное положение: рынок с присущим ему акцентом на частные интересы индивидов разлагает все традиционные ценности, включая те, которые являются основанием
87
функционирования самого рынка. Тогда как теория феодальных оков доказывала: упадок капитализма не есть следствие его собственной чрезмерной энергии, а результат действия сильных пережитков докапиталистических норм и институтов. Этому тезису противоречит вывод об отрицательных следствиях, вытекающих из отсутствия феодального прошлого. Таков смысл тезиса Л. Гарца, который можно определить как теорию благодеяний феодал изма. Из нее вытекает вывод: феодальное прошлое - фактор положительный с точки зрения дальнейшего развития демократии и капитализма. Тем самым мы оказываемся в ситуации, совершенно противоположной и находящейся в резком конфликте с исходной и первичной теорий doux-commerce. Она рассматривала рынок и капитализм как положительную силу, призвание которой состоит в освобождении «гражданского общества» от «феодальных оков».
Приведенная схема позволяет лучше понять связи между данными теориями. Она может служить вспомогательным средством для достижения главной цели моего очерка: установить контакт между близкими по существу идейными формациями, но развивающимися в совершенной изоляции друг от друга. Но несмотря на взаимную изоляцию, столь различные идеологии ведут к созданию целостного образа довольно удивительным способом, который проиллюстрирован на таблице. Можно сказать, что это напоминает ситуацию, в которой четверо детей с завязанными глазами все же смогли сообща разукрасить разными цветами один контурный рисунок.
Вплоть до этого момента я выступал или, по крайней мере, стремился произвести впечатление в том, что выступаю в роли наблюдателя и хроникера того важного фрагмента Человеческой Комедии, который связан с производством идеологий. Теперь я должен признаться, что, стоя лицом к лицу со столь разными идеями, я не могу удержаться от искушения поставить вопрос: какая же из них является истинной? С этой точки зрения представленное идеологическое табло может оказаться полезным. Во-первых, оно показывает, что (независимо от общего несогласия и несоответствия) каждая из теорий может обладать «моментом истины» и быть «страной истины». Ведь каждая их них относится к определенной стране или группе стран в определенный момент времени. То же самое можно сказать о генезисе указанных теорий, поскольку их творцы имели в виду определенную страну или страны.
88
Но это табло особенно необходимо тогда, когда мы стремимся пойти более сложным (и более верным, как я полагаю) путем и воздать по заслугам каждой из конкурирующих идеологий. Нетрудно понять, что даже в определенной точке пространства и времени каждая из теорий отражает лишь часть истины и нуждается в дополнении со стороны одной или нескольких других теорий, сколь бы неподходящими они не казались на первый взгляд. Табло требует от нас систематической проверки различных связей четырех тезисов. В дальнейших выводах я ограничу свою проверку лишь тремя уже указанными «противоречиями»32. Моя задача состоит в ответе на вопрос: можно ли вообще и стоит ли связывать теории, образующие данные противоречия?
Несомненно, мы имеем дело с разными степенями несоответствия точек зрения и доктрин, которые, на первый взгляд, взаимно противоречат друг другу. Я уже отмечал, что практически невозможно преодолеть противоположность между теориями саморазрушения и феодальных оков. Первая трактует капитализм как дикую и необузданную силу, которая все сметает на своем пути и, в конечном счете, наносит себе смертельный удар, поражая собственные основания. Вторая квалифицирует капиталистов как слабых и лакейски настроенных холуев, победить которых не составляет никакого труда, поскольку они всегда были подвержены влиянию докапиталистических формаций. Правда, в мире политики и идеологии наиболее распространен тип осатанелых эклектиков и любителей объединения любой ценой. И они могут по-прежнему доказывать положение, члены которого взаимно противоречат друг другу: капитализм может уничтожить все предшествующие «наследство» (включая ценности истины, честности и gemütlich-keit), и это является его положительной характеристикой; одновременно капитализм разрушает и полностью подчиняется всему тому отрицательному, что происходит из докапиталистического общества. Но можно ли полагать, чтобы какая-либо из исторических формаций отличалась столь безошибочным инстинктом следования по самому плохому пути?
Значит, здесь находится «противоречие второго порядка» - наиболее аутентичное и наименее поддающееся редукции. Вполне возможно, что каждый из указанных тезисов - о саморазрушении и феодальных оковах - сохраняет ценность при объяснении трудностей, на которые наталкивается капитализм
89
в разных контекстах. Иначе говоря, я утверждаю, что обе теории взаимно уничтожают друг друга, и потому мы можем самодовольно надеяться на то, что капитализм полностью свободен от любых проблем, обусловленных обстоятельствами, зафиксированными в данных теориях.
Но теперь уже ясно, что указанные два способа объяснения не только отрицают друг друга, но и противоречат концепциям, которые квалифицируют как положительные именно те факторы, которые признаются отрицательными в двух предшествующих объяснениях. Я имею в виду теорию doux-commerce и теорию благодеяний феодализма, на которых кратко остановлюсь.
Рассмотрим вначале теорию феодальных оков и феодальных благодеяний. Если предположить, что обе могут быть истинными одновременно, то появлению такой амальгамы ничто не мешает. Наоборот, она более достоверна по сравнению с предположением: только одна из теорий истинна, а другую надо полностью отбросить. Соединение обоих означает, что докапиталистические формации и ценности мешают развитию капитализма, но одновременно снабжают его определенными ценностями. Взвешенная оценка должна учитывать влияние обоих типов. Нет сомнения в том, что пропорции между ними будут различными в каждой конкретной исторической ситуации.
Еше больше этот вывод относится к последней паре - теориям doux-commerce и саморазрушения. Могут ли обе быть истинными в один и тот же момент? Если поставить такой вопрос, станет ясно, что это не только возможно, но и весьма вероятно. Капитализм обнаруживает одновременно тенденции самоподдержки и самоуничтожения. Й этот факт не более «внутренне противоречив», нежели одновременное существование приходов и расходов в бухгалтерии предприятия! Например, если мы имеем в виду целостность общества, то постоянная повторяемость торговых сделок способствует культивированию доверия, взаимопонимания и аналогичных чувств. С другой стороны, такая практика способствует тому, что все общество пронизывается элементами калькуляции и рассуждения в инструментальных категориях, о чем уже знал Монтескье. Если принять такую точку зрения, то моральные основания капитализма подлежат постоянной эрозии и восстановлению одновременно. Если эрозия преобладает над регенерацией, отсюда следует кризис системы. Эту возможность не следует отрицать. Но надо строго оп-
90
ределить особые обстоятельства, при которых может возникать такая ситуация. То же самое можно сказать об условиях, при которых система будет более прочной и легитимизированной.
Теперь ясны причины того, почему, несмотря на декларации в пользу диалектики, мы обычно с трудом соглашается с тем, что в обществе действительно происходят противоположно направленные процессы. Речь идет не только о трудностях их познания, но и трудностях психологической природы. Предположение об одновременной истинности теории doux-commerce и саморазрушения (или феодальных оков и благодеяний) ведет к тому, что наблюдателю, критику или «исследователю» социальной жизни крайне трудно произвести впечатление на публику утверждением: процессы свидетелями, которых мы являемся, должны повлечь за собой неизвестные и неизбежные следствия.
Но мы сегодня — свидетели множества неосуществившихся пророчеств. Не следует ли социальным наукам согласиться со сложностью мира, если даже такое согласие возможно только за счет предъявления к ним претензий относительно способности предвидения?
91
Примечания
1. Избранные произведения. М., 1955, с. 433
2. Кондорсэ исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936, с. 162-163
3. Paine f. The Rights of Man. New York, 1951, p. 215
4. Ricard S. Traite general du commerce. Amsterdam, 1781, p. 463
5. См.: Rosenberg N. Neglected Dimensions in the Analysis of Economic Change // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1964, V.26, N. l, p. 59-77
6. Hirsch F. Social Limits to Growth. Cambridge—London, 1976, p. 117-118
7 Там же, с. 143
8. Coleridge S. Collected Works. T. C. Princeton, 1972, p. 160-170
9. О значение проблемы самоуничтожения в экономической и политической мысли Р. Вагнера см.: Rather L. The Dream of Self-Destruction: Wagners Ring and the Modern World. Baton Rouge, 1979; Euegene E. Lesidees Politiques de Richards Wagner. Paris, 1973
10. Schumpefer I. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa, 1995, s. 176
11. Horkhejmer M. Eclipse of Reason. New York, 1947, p. 34, 36
12. Например, пишет: «При настоящем низком уровне совершенства человечества невозможно переоценить значение контактов человеческих существ с непохожими на них людьми, способы мышления и действия которых совершенно отличаются от общеизвестных... Такие отношения всегда были и есть одним из главных источников прогресса, особенно в наше столетие». Mill LS. Lasady economii politycznej. Warszawa, 1966, t.2, s. 232-233
13. Durkheim E. De la division du travail social. Paris, 1902, s. 148, 192, 207, 402-403
14. Там же, с. 180-181. Этот текст следует сравнить с совершенно противоположным утверждением XVII—XVIII вв. о постоянстве и предвидимости интересов. Данное утверждение я описываю в книге «Интересы и страсти».
15. Lukes S. Emile Durkheim: His Life and Work. New York, 1972, p. 178
16. Simmel G. Conflict and the Web of Group Affiliations. Glencoe, 1995, p. 61-53
17. Simmel G. Soziologie. Leipzig, 1923, s. 260-261
18. Silwer A. Small Worlds and the Great Society: The Social Production of Moral Order. Рукопись, 1980
19 Parsons T. The Social System. Glencoe, 1951, p. 98, 125-Аналогичный вывод я сделал в книге «Лояльность, критика, разрыв». В том же духе Вильямсон недавно писал о «неблагожелательной тенденции» отношения экономистов к инновациям на уровне предприятия Инновации такого типа всегда подозреваются в том, что они послужат причиной отклонения от модели совершенной
92
конкуренции. См.: Hirschman A. Lojalnosc, krytyka, rozstanic: rcuk-cje na kryzys panstwa, organizacji i przedsicbiorstwa. Krakow, Warszawa, 1995, s. 28; Willamson O. The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes//Journal of Economic Literature. 1981, N 12, ρ 1540
21. См.: Энгельс Φ. Соч., 2-е изд., т. 23, с. 9
22. Сборник статей на эту тему, к счастью, в большинстве критических, содержится в издании: 11 vizio d'origine. Firencc, 1980
23. См.: Romeo R. Risorgimeiito с capitalismo. Bari, 1959; Gcrschcn-kron A, Economie Backwardnessin Historical Perspective. Cambridge, 1962, ch. 5
24. Anderson С. Politics and Economic Change in Latin America. New Jork, 1967. Разумеется, я не отрицаю, что индустриализация в Латинской Америке обладала специфическими свойствами, и сам пытался их описать с подобающей подробностью.
25. См.: Hirschman A. A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America. New Haven, 1971, ch. 3
26. Wiener M. English Culture and the Decline of Industrial Spirit: 1850— 1980. Cambridge, 1981. Раннюю версию вывода об исторической слабости английской буржуазии можно найти в статье: Anderson P. Origins of the Present Crisis // New Left Rcwiew. 1964, January—February, p. 26-53
27. «Америка! В тебе привольней Всем дышится, чем в Старом свете, Ни замков нет, ни колоколен — Базальта столетий».
Гете . соч. в 13-ти тт. Т.1, М.-Л., 1932, с. 523
28. Демократия в Америке. М., 1994, с. 375. Приведенная цитата завершает краткую главу под названием «В чем причина того, что в конце демократической революции индивидуализм проявляется значительно сильнее, чем в любую другую эпоху», в которой Токвиль перечисляет множество конфликтов и проблем, характерных для стран, которые прошли через демократическую революцию
29. Hartz L. The Liberal Tradition in America. New Jork, 1955, p. 11, 140-142, 285
30. Там же, с. 263
31. Чтобы напомнить об убедительных исследованиях такого типа, можно сослаться на труды двух авторов, представляющих совершенно противоположные идеологические позиции: Anderson P. Lineages of the Absolutist State. London, 1974; Baechler J. Les origines du capitalisme. Paris, 1974
32. При наличии четырех теорий существует шесть возможных связей в пары, из которых четыре, как было показано, являются «полностью противоположными». Оставшиеся две, расположенные по диагонали (ДК-ФО и СР-БФ), должны прекрасно уживаться друг с
93
другом, поскольку, к примеру, doux-commerce сопоставляется с отрицанием собственного отрицания. В этом и состоит суть дела. Я уже указывал, что теория феодальных оков может трактоваться как переодетая теория doux-commerce. Следовательно, их взаимосвязь не несет никакой новой информации и не обогащает возможных интерпретаций.
Если присмотреться ко второй из пар, расположенных по диагонали, т. е. к теориям саморазрушения и благодеяний феодализма, то вывод будет аналогичным. В рассуждении Гарца на тему ужасных следствий из-за отсутствия феодализма имлицитно содержится тревога: страна, в которой полностью доминирует рынок, стоит перед лицом больших опасностей. Оба тезиса совпадают, а их сопоставление друге другом ничего не привносит ни в один из них.
В этом тексте я не намерен заниматься парой ДК-БФ. Указанные два противоречия друг другу, поскольку дают совершенно иные объяснения причин здоровья и силы капитализма. Однако эта пара есть ни что иное, как зеркальное отражение пары СР-ФО, в которой мы имеем дело с двумя противоположными объяснениями трудностей, с которыми сталкивается рыночное общество. Вторую пару я рассматриваю в тексте, как и оставшиеся две пары ДК-СР и ФО-БФ.
Перевод
94
Оглавление
Предисловие............................................................... !
Глава 1. Реальная проблема и ложная дилемма. .................. s
Глава 2. Интерес как новая парадигма социальной мысли... 13
Глава 3. Можно ли с помощью экономики
улучшить социальный строй?............................... 20
Глава 4. Интересы «квази-стражей»
современного общества....
Глава 5. От критики к разрыву............................................. 31
Глава 6. Эталон демократии или инерционная
политическая система?.......................................... 39
Глава 7. Феномен «бессознательной лояльности»............. 45
Послесловие........................................................................... 53
Примечания..........................................................
Приложение............................................................................ 58
Хиршман.
Рыночное общество: противоположные точки зрения...... 58
95
ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО ЗЛА: расплата за непоследовательность
Под редакцией автора Компьютерная верстка:
Лицензия на издательскую деятельность ЛП № 000 от 01.01.2001 г.
Подписано в печать 10.06.2000.
Печать офсетная. Формат 84x108 1/32.
Печ. л. 6. Тираж 1000.
Издательство «Вузовская книга»
Москва, Волоколамское шоссе
Т/ф
E-mail: vbook @ *****
Отпечатано ООО "Связь-Принт" в типографии "Радио и связь 103473 Москва, 2-й Щемиловский пер., 4/5



