|
Использовано - http://**/pole/Novyj-standart-spravedlivosti От редакции. В 2011 году вышла новая книга Марты Нуссбаум «Создавая возможности: подход с точки зрения человеческого развития» (Creating Capabilities: The Human Development Approach), являющаяся итогом ее многолетних исследований. | |
|
В книге обрисовывается новый подход к критериям оценки успешности и эффективности общества, призванный придти на смену устаревшим утилитаристским подходам, меряющим страны на основе сухих цифр ВВП. Эти идеи уже нашли свое частичное применение в Индексе развития человеческого потенциала, который публикуется ежегодно с 1990 года. Марта Нуссбаум вместе со своим учителем индийским экономистом Амартией Сен сыграла ключевую роль в разработке и концептуализации того подхода, который лег в основу данного Индекса. В 2010 году Марта Нуссбаум была включена журналом Foreign Policy в число 100 ведущих глобальных мыслителей. Марта Нуссбаум – американский философ, специалист по античной философии, профессор права и этики Чикагского университета. Автор книг: «Качество жизни» (в соавторстве с Амартией Сен, 1993), «Поэтическая справедливость» (1996), «Скрыться от человечности: отвращение, стыд и закон» (2004), «Свобода совести: в защиту американской традиции религиозного равенства» (2008), «Не выгоды ради: почему демократия нуждается в гуманитарных науках» (2010). |
* * *
Русский журнал: Что именно не устраивает вас в подходе, оценивающем развитие страны на основе ее ВВП или других простых численных показателей? Почему возникла нужда в каком-то альтернативном подходе?
Марта Нуссбаум: В наше время погоня за прибылью и забота об экономическом росте – основные мотивирующие факторы для государств. Однако экономический рост, являясь важной составной частью благоразумной государственной политик, есть всего лишь часть, лишь один из инструментов этой политики. В конечном счете, главное – это интересы людей, доходы – лишь инструментальные средства обеспечения человеческой жизни. Задача современного развития как на международном, так и на национальном уровне – позволить людям жить полноценной творческой жизнью, развивая собственный потенциал и обустраивая свое существование в соответствии с присущим всем людям в равной мере человеческим достоинством. Другими словами, истинной целью развития является человеческий прогресс; все остальные подходы и показатели в лучшем случае средства для этого. К сожалению, большинство этих средств обращается к человеческим приоритетам без должной меры вдумчивости и изобретательности. Поэтому, в частности, широко распространенный метод измерения успеха через расчет объемов ВВП на душу населения все еще популярен, несмотря на ширящийся консенсус относительно того, что он даже близко не отражает качество жизни людей.
К счастью, большинство стран в своей внутренней политике пришло к осознанию того, что уважение к людям требует более обширного и детального анализа национальных приоритетов, не могущий быть редуцирован к одним лишь показателям ВВП. Более адекватный подход к этому вопросу отражен в конституциях и других основополагающих документах наиболее продвинутых государств. Однако в области нового мирового порядка доминирующие и определяющие формирование политического курса теории пока еще не дотягивают до утонченности национальных конституций. Эти ущербные теории обладают огромной силой. К сожалению, они по-прежнему способны оказывать большое влияние не только на международные институты, но также и на внутренние приоритеты государств, многие из которых до сих пор гонятся за экономическим ростом в ущерб другим обязательствам перед собственным народом.
РЖ: Почему таким абстрактным показателям, как ВВП, ВНП или доход на душу населения удалось на долгое время стать основными параметрами оценки благосостояния страны? Почему мы подвержены чарам этих выраженных в числах экономических показателей?
М. Н.: Показатель ВВП получил повсеместное распространение потому, что был легко доступен и не вызывал разногласий. Другие параметры требуют гораздо больше работы и размышлений над тем, как их правильно измерить. Работа на этом направлении ведется давно, но люди по-прежнему предпочитают ходить легкими путями.
Отчасти тут дело в том, что многие до сих пор верят в так называемую теорию «просачивания» – мол, экономический рост сам по себе, в конечном счете, за счет просачивания богатств на нижние этажи социальной иерархии приведет к улучшению благосостояния бедных, позволит повысить качество жизни во всех важнейших сферах жизни, таких как здравоохранение, образование, а также степень политических свобод. Но на данный момент стало совершенно ясно: это просто неправда – эмпирические исследования убедительно показали, что улучшение показателей экономического роста не приводит к более справедливому распределению благ между населением, оно никак не улучшает ситуацию в здравоохранении и образовании, и тем более не гарантирует политических и религиозных свобод, о чем наглядно свидетельствует пример Китая.
Итак, сегодня мы ясно видим нужду в ином подходе, учитывающем эти важные соображения.
РЖ: Вам принадлежит авторство альтернативного подхода, который вы назвали «подходом с точки зрения возможностей», именно ему посвящена ваша последняя книга. Не могли бы вы кратко рассказать, в чем суть этого подхода?
М. Н.: Мой подход можно условно определить как способ сравнительной оценки качества жизни и теоретизирования о базовой социальной справедливости. Согласно этому подходу, ключевым вопросом при сравнении обществ и оценке базового уровня их достоинства или справедливости является вопрос о том, «что в этом обществе может делать конкретный человек и кем он может стать?» Другими словами, в рамках такого подхода каждый отдельный человек является самоцелью, а разговор идет не о совокупном или среднем уровне благосостояния, но о доступных каждому человеку возможностях. В фокусе внимания оказывается выбор или свобода: ключевым благом, которое общество должно предлагать человеку, это набор возможностей или субстанциальных свобод, которыми люди вольны действенно воспользоваться или пренебречь. Таким образом, это один из способов отдать дань уважения способности людей к самоопределению.

Данный подход твердо придерживается плюралистического подхода в отношении ценностей: те возможности, которыми люди могут воспользоваться, различаются не только по своему количеству, но и по своему качеству, поэтому они не могут не быть искаженными быть редуцированы до единой числовой шкалы. Для их понимания и создания необходим особый учет каждой из них. Наконец, данный подход учитывает укоренившуюся несправедливость и неравенство, в частности тот недостаток возможностей, который возникает в результате дискриминации или маргинализации. Наипервейший императив, вытекающий из данного подхода в плане практической политики, это улучшение качества жизни людей, понимаемого через концепцию возможностей.
Эта новая парадигма обретает все большее влияние на все международные институты от Всемирного Банка до Программы развития ООН (ПРООН) в рамках проводимых ими дискуссий о благосостоянии. Благодаря Отчетам о развитии человечества, который ежегодно, начиная с 1990 года, публикует ПРООН, предлагаемый подход получил распространение в большинстве современных стран, что побудило некоторых из них создать собственные основанные на возможностях индексы благосостояния различных регионов и групп своего общества. Собственно, большинство стран уже перешло к практике создания таких внутренних индексов. Начиная с 2008 года даже США присоединились к этой группе. Существуют сегодня и региональные отчеты, например, Арабский отчет о развитии человечества. Кроме того, созданная в 2003 году Ассоциация человеческого развития и возможностей, насчитывающая 700 членов из 80 стран, проводит высококачественные исследования по целому ряду направлений, на которых «подход с точки зрения возможностей» и человеческого развития может оказаться полезным. Буквально недавно данная парадигма оказала большое влияние на подготовленный Комиссией Саркози Доклад об оценке успеха экономической политики и социального прогресса.
РЖ: Если говорить об Отчетах о развитии человечества или об Индексе развития человеческого потенциала, то в полной ли мере они отражают тот подход, который предлагаете вы и Амартия Сен?
М. Н.: Создатели этих отчетов пользуются понятием «возможности» в качестве сравнительного показателя, но они не выстраивают на его основе нормативной политической теории. Амартия Сен сыграл ключевую интеллектуальную роль в создании этих отчетов, однако они не учитывают все аспекты его прагматичной и ориентированной на результаты теории; эти отчеты просто-напросто сводят сопоставительную информацию таким образом, чтобы скорее перенаправить развитие и ход дебатов, чем продвинуть систематическую экономическую или политическую теорию.
РЖ: Что это за базовые возможности, о которых Вы упоминаете?
М. Н.: Учитывая все разнообразие человеческой активности, в рамках данного подхода к вопросу о социальной справедливости я задаю вопрос: «Что необходимо для жизни, подобающей человеческому достоинству?» Чтобы определить эту необходимость хотя бы в ее минимуме, я говорю о десяти основополагающих возможностях. Достойный политический порядок должен обеспечить всем гражданам, по крайней мере, пороговый уровень десяти основополагающих возможностей:
1. Жизнь. Возможность прожить человеческую жизни до старости, не умереть раньше срока или до того как жизнь станет настолько несносной, что потеряет ценность.
2. Физическое здоровье. Иметь возможность наслаждаться хорошим здоровьем, в том числе здоровьем репродуктивным, нормально питаться и иметь пристойное жилье.
3. Телесная неприкосновенность. Иметь возможность свободно перемещаться с места на место; не опасаться насилия, в том числе сексуального насилия, насилия в семье; иметь возможности сексуального удовлетворения и выбора в репродуктивных вопросах.
4. Чувства, воображение и мысли. Иметь возможность использовать органы чувств, воображать, мыслить и рассуждать; при чем делать это так, как подобает «полноценному человеку», обладающему адекватным образованием, в том числе – навыками грамотности и базовыми знаниями математики и естественных наук. Иметь возможность пользоваться воображением и мышлением в процессе переживания событий и произведений искусства – религиозных, литературных, музыкальных и прочих. Иметь возможность пользоваться собственным разумом – под защитой гарантий свободы совести и мысли – в политических, художественных и религиозных практиках. Иметь возможность испытывать наслаждение и избегать не необходимой боли.
5. Эмоции. Иметь возможность испытывать привязанность к вещам и людям; любить тех, кто любит и заботится о нас; огорчаться их отсутствием; в целом, иметь возможность любить, печалиться, испытывать страсти, благодарность и оправданный гнев. Человек должен иметь право на эмоциональное развитие, не омраченное страхом и тревогой. (Гарантировать эту возможность, значит гарантировать наличие всех формы людских объединений, которые можно считать необходимыми для их развития).
6. Практический разум. Иметь возможность формировать представление о благе посредством критического осмысления и планирования своей жизни. (Для этого необходимы гарантии свободы совести и соблюдения религиозных обрядов.)
7. Членство. (А) Иметь возможность жить с другими людьми и ради их блага, признавать других и заботиться о них, вступать в разнообразные формы социального взаимодействия с ними; быть способным входить в чужое положение. (Для этого необходимо оберегать институты, обеспечивающие и питающие подобные формы принадлежности, необходимо гарантировать свободу собраний и политических выступлений.) (B) Иметь социальные основания самоуважения и не унижения; иметь возможность быть существом, требующим от других уважения собственного достоинства и равного обращения. Для этого требуются гарантий отсутствия дискриминации по половому признаку, сексуальной ориентации, а также этнической, кастовой, религиозной или национальной принадлежности.
8. Другие виды живых существ. Иметь возможность заботиться о животных и взаимодействовать с ними, а также с растениями и другими частями природного мира.
9. Игра. Иметь возможность смеяться, играть, наслаждаться отдыхом и развлечениями.
10. Контролировать свою среду обитания. (А) В политическом плане. Иметь возможность действенного участия в принятии политических решений, от которых зависит жизнь человека; обладать правом участия в политической жизни, иметь гарантии свободы слова и собраний. (B) В материальном плане. Иметь возможность владеть собственностью (как движимой, так и недвижимой), а также обладать правами на собственность наравне с другими; обладать равным со всеми правом на труд; быть свободным от угрозы несанкционированного обыска и изъятия имущества. На рабочем месте обладать возможностью трудиться как человек, использовать свой практический разум и вступать в осмысленные отношения взаимного признания с другими рабочими.
РЖ: Вы упоминали, что «подход с точки зрения возможностей» позволяет иначе осмыслять большинство из стоящих перед нами проблем. Например, как этот подход позволяет переосмыслить проблему бедности?
М. Н.: Сен всегда утверждал, что бедность лучше всего рассматривать как нехватку возможностей, а не просто как отсутствие тех или иных товаров или даже дохода и состояния. Бедность подразумевает всевозможные формы отсутствия возможностей, которые не всегда соотносятся с доходом. Более того, люди, исключаемые обществом, могут оказаться просто неспособными превратить свой доход в полноценное существование; так что доход едва ли можно считать хорошим показателем наличия возможностей. В целом, скажу так: доход – это средство для достижения цели, а целью является обретение возможностей.
Работы Сена, посвященные отсутствию возможностей, стали продолжением его исследований о голоде, за который ему, в конце концов, была присуждена Нобелевская премия. В своих работах он подчеркивает, что причиной голода является не просто недостаток еды, а скорее отсутствие возможностей получить необходимые человеку вещи (например, по причине безработицы). Поэтому проблему голода невозможно решить поставками продовольственной помощи или раздачами еды. Подлинное решение данной проблемы потребует уделить внимание отсутствию у слабозащищенных групп населения возможностей, это решение потребует предоставить им возможности трудоустройства и другие источники доступа к важнейшим товарам. Это положение сегодня стало частью общепринятого подхода.
РЖ: В России очень долго говорили об «эффективности» как критерии оценки политического курса. Что вы думаете об «эффективности»?
М. Н.: Я не знаю, что именно имеется в виду под «эффективностью» в российской политической риторике, но, как правило, она ассоциируется с увеличением совокупной или средней полезности. Здесь возникает первый вопрос — как это можно измерить? Удовлетворение предпочтений? Наличие данных об уровне счастья? После того, как вы примете решение о критерии измерения полезности, вы тут же столкнетесь с множеством проблем утилитаристского подхода. Четыре из этих проблем особенно сложны. Во-первых, данный подход пренебрегает распределением, на его основании можно получить высокие оценки в ситуации, когда некоторые люди влачат неприемлемо жалкое существование. Во-вторых, в этом подходе в одну кучу сваливаются различные составляющие человеческой жизни, таким образом, от внимания ускользает тот факт, что некая страна, обладающая хорошими показателями в области здравоохранении, может сильно отставать в плане политических свобод и так далее. В-третьих, отдается явное предпочтение существующему положению вещей, так как есть известный факт: люди соотносят свои предпочтения с тем, что считают для себя действительно возможным — это так называемая проблема «адаптивных предпочтений». В-четвертых, вознаграждение получает состояние удовлетворения, тем самым пренебрегают ценностью стремлений, действий и активной вовлеченности людей в процесс обустройства своих жизней.
РЖ: Говоря об основополагающих возможностях, вы говорите об идеальном обществе?
М. Н.:Я никогда не рассуждаю об «идеальном». Я говорю о минимальном достоинстве, о том пороговом уровне опустившись ниже которого государство уже не может называться даже в минимальной степени справедливым. Я бы предпочла сфокусироваться на том, чтобы поднять все общества выше порогового уровня по всем десяти перечисленным возможностям, а не задаваться вопросом - что предстоит сделать, когда эта цель будет достигнута. На данный момент мы и близко не подошли к достижению данной цели. Поэтому минимально справедливое и достойное общество — это общество, в котором все граждане ощущают поддержку в своих усилиях реализовывать те десять возможностей, которые я перечислила.
РЖ: Как соотносится демократия (политический режим, подразумевающий деятельное участие людей в политической жизни, а также в обсуждении общественного блага) и «подход с точки зрения возможностей»?
М. Н.: Демократия – это часть базового списка, равные политические свободы — это одна из десяти позиций, без которых нет никакой возможности добиться минимальной справедливости. Как показал Амартия Сен в своих работах, существует прочная связь между демократией (включая свободу прессы) и отсутствием голода. Так что следует искать возможности связей и синергийного взаимодействия между демократией и прочими возможностями. Однако тот тип демократии, которому я отдаю предпочтение, не является простой мажоритарной демократией: в демократии должно быть место для прав (политических и религиозных свобод, прав на образование), которые не могут быть аннулированы волеизъявлением большинства.
РЖ: Можете ли вы перечислить те страны, которым удалось дальше всего продвинуться вперед в терминах подхода на основе способностей и возможностей? Бывает ли так, что какая-то страна занимает высокую позицию по показателям подхода основанного на ВВП, и в то же время отстает по показателям потенциальностнго подхода (или наоборот)?
М. Н.: Страны, являющиеся успешными с точки зрения возможностей, как правило, занимают высокую позицию и по показателям ВВП, поскольку ВВП дает необходимые ресурсы. Однако обратное не всегда верно. У страны может быть высокий ВВП, как например у Китая, но при этом страна может быть лишена полноценных политических и религиозных свобод. Но даже если страна имеет хорошие показатели по большинству из перечисленных мною возможностей, то жесточайшие провалы в некоторых сферах все равно не исключены. В США такие провалы можно наблюдать в сфере права на здравоохранение. Кроме того, там очень велико неравенство в здравоохранении и в образовании между богатыми и бедными. Это пятна на репутации США.
Лучше всего в этом смысле дела обстоят в странах Скандинавии, где экономическое благосостояние сочетается с социальной политикой обеспечивающей всем гражданам доступ к образованию и здравоохранению. Образовательная система Финляндии заслуживает особой похвалы, так как обеспечивает получение качественного образования всем детям, начиная с очень раннего возраста.
Но я скажу, что некоторые очень небогатые страны и регионы в области здравоохранения и образования смогли проделать значительный прогресс. Штат Керала в Индии, например, добился поголовной грамотности среди подростков, а также высокого уровня здравоохранения, сравнимого с некоторыми районами Нью-Йорка. И это несмотря на крайнюю бедность экономики Кералы.
РЖ: Если данный подход станет новой международной нормой, значит ли это, что к отстающим странам могут быть применены какие-то санкции? Или этот подход мыслится исключительно в качестве рекомендаций? Вы сторонник национального суверенитета или не исключаете возможности вмешательства?
М. Н.: Это рекомендации — таковыми они и должны оставаться! Я убежденный сторонник национального суверенитета: если страна отстает, то народ должен избрать себе другое правительство. Я могу надеяться лишь на то, что благодаря новым способам передачи информации, а также новым критериям сравнения люди станут самостоятельно добиваться воплощения данных рекомендаций в жизнь. Другого достойного способа добиться перемен не существует. Военная интервенция в дела другого легитимного режима оправдана только в случае геноцида и преступлений против человечества. Если режим не обладает легитимностью и является обыкновенной тиранией, то вопрос об интервенции может быть поставлен на обсуждение, но все же лучшей стратегией всегда остается содействие расширению политических прав и возможностей людей, нежели грубое вмешательство извне.
Индия – пример государства, во многих отношениях являющегося хаотичным, однако демократия и волеизъявление народа привели к принятию реальных мер для решения проблем бедности. Смотрите насколько далеко вперед продвинулась Индия с момента обретения независимости в 1947 году благодаря твердому демократическому курсу, насколько Индия опередила Пакистан, который стартовал с того же места, но так и не создал институтов, наделяющих народ властью. Значит, демократия работает, какой бы сумбурной она ни была.
Я, например, считаю, что моя собственная страна движется в неправильном направлении почти по всем пунктам списка возможностей, но я бы не хотел, чтобы мои взгляды воплощались в жизнь в условиях диктатуры! Лучший способ достичь те цели, которые я считаю важными, был продемонстрирован Франклином Делано Рузвельтом, который был мастером объяснения и убеждения. Я бы хотела, чтобы сегодня он был все еще жив. Или вспомните партнерство Махатмы Ганди и Джавахарлара Неру – та же самая картина: это лидеры, которые обладали способностью убеждать людей, наделять их силой; эти лидеры осуществляли перемены по-настоящему открытым и демократическим способом.
РЖ: Что вы можете сказать о тех, кто назовет ваш подход лишь очередным примером империалистического и колониального мышления?
М. Н.: Среди отцов-основателей Ассоциации человеческого развития и возможностей граждане Пакистана, Японии, Бразилии, Голландии, Италии, Бангладеша, Великобритании и Америки. Члены Ассоциации относятся к восьмидесяти странам. Из президентов Ассоциации двое были из Индии, один — гражданин Великобритании и один — гражданин США.
Но даже если права человека и зародились на Западе, сам по себе этот факт не дает повода отвергать их как непригодные для других народов. Люди все время заимствуют друг у друга разные вещи, а изобретательность, которую проявляют разные культуры при заимствовании изначально чуждых им материалов – один из самых примечательных фактов человеческой истории. Более того, общества порой заимствуют не только небольшие фрагменты чужих мировоззрений, но и целостные систематические взгляды, изначально пришедшие извне. Все основные культурные движения мира — включая христианство, буддизм, ислам и марксизм — уходят корнями в особое время и место, откуда они впоследствии распространяются за пределы своей изначальной территории. Я не вижу причин считать данный процесс предосудительным.
Едва ли кто-то когда-то утверждал, что поскольку марксизм зародился на Западе, это дает повод не относящимся к западной цивилизации народам не принимать данной идеологии. Принятие марксистской идеологии, возможно, было ошибкой, но вовсе не потому, что она возникла из-под пера немецкого еврея в Британской библиотеке. Для обоснования этой точки зрения требуются другие аргументы. Подобного рода доводы применительно к концепции прав человека звучат не более убедительно. Если мы не можем предоставить никаких дополнительных доводов в защиту тезиса о том, что другим культурам не следует принимать принципы, лежащие в основе движения в защиту прав человека, то значит, нам просто нечего сказать по этому вопросу.
Более того, если внимательно изучить историю колониализма, то мы не обнаружим у колонизированных народов никаких норм прав человека, которые бы возникли в результате требования со стороны колонизаторов. Вместо этого мы увидим, что данные нормы являются скорее плодами сопротивления деспотической власти колонизаторов. Возьмем Индию, чья конституция всесторонне оберегает права человека. Британская Индия не принесла в Индию норм свободы слова, собраний и политических свобод. Возможно, в самой Великобритании эти нормы для колоний и отстаивались некоторыми людьми в некоторых кругах, однако реальное правление отличалось полным презрением к идее защиты прав человека. Индийцы едва ли могли ассоциировать Британскую империю с правами человека, когда им каждодневно приходилось терпеть принудительную сегрегацию и отказ в свободе собраний, а также нападения на людей, пытавшихся свободно говорить и протестовать. Рабиндранат Тагор, поэт, лауреат Нобелевской премии 1913 года, отказавшийся от рыцарского титула в 1919 году в знак протеста против зверств британцев, сказал, что западная культура основана на деспотической власти и лишена уважения к человечеству. Тагор, который восхищался многими западными мыслителями, который прекрасно знал о том, что в западной культуре идеи уважения человека и предоставления ему прав пользуются большим спросом, хотел подчеркнуть, что на тот момент презрение к правам человека было доминирующей характеристикой в отношении Европы к остальному миру.
Когда много позже Ганди и Неру рассуждали о строительстве новой индийской нации на прочном фундаменте прав человека, они делали это натерпевшись от постоянных нарушений таковых прав со стороны британцев в ходе своей борьбы за освобождение. Оба они, а в особенности Неру, провели много лет в британских тюрьмах за «преступные» мирные протесты. Ганди не любил западную культуру. Как и Тагор, он находил ее слишком материалистичной, основанной на грубой силе. Но Ганди принял идеи прав человека, осознав их фундаментальную важность. При этом он утверждал, что истоки этих идей могут быть обнаружены и в самой индийской традиции.
\ 24.11.11 11:52
Тетрасоциология и социокибернетика: к сравнению ключевых понятий
Бернд Хорнунг и Бернард Скотт
Использовано - http://www. peacefromharmony. org/?cat=ru_c&key=145
Социокибернетика и тетрасоциология — междисциплинарные и многомерные социальные теории, опирающиеся на ряд гуманитарных дисциплин: философию, социологию, психологию, политологию и другие. Общую теоретическую платформу тетрасоциологии и социокибернетики составляют системный подход и социологическая теория. На их основе мы поставим проблему междисциплинарного сравнения социокибернетики и тетрасоциологии с целью развития и взаимодополнения этих дисциплин в рамках теоретической социологии. Междисциплинарные сравнения и исследования являются одним из важнейших направлений развития общей социологической теории, вклад в которую может внести любая ее ветвь. В нашем кратком обзоре мы ограничиваемся двумя названными, которые различаются и теоретически и по времени своего существования. Но обе они рождены информационной революцией и эпохой глобализации для ответа на современные вызовы. Кратко определим эти дисциплины.
Тетрасоциология или социология, рассматривающая общество и человека как четырехмерные системы, разрабатывается с использованием ряда идей западной социологии в России в течение более 25 лет. Однако, она стала известна западным ученым только в 2002 году, когда впервые была опубликована на английском языке книга[1] по тетрасоциологии, представленная XV Всемирному Социологическому Конгрессу, который проходил в Австралии в июле 2002.
Социокибернетика, в отличие от тетрасоциологии, развивается в западной науке более 50 лет, пользуется широкой известностью, представлена сотнями научных работ. Для сравнения тетрасоциологии с социокибернетикой кратко изложим системы их понятий и наметим пути их сопоставления.
Социокибернетика тесно связана с системным подходом. Но исторически теория систем и кибернетика развивались в разных контекстах. Винер (1948) первым выделил кибернетику как новую дисциплину, науку о контроле и коммуникации животных и машин. Он создал ее на основе успехов математиков, инженеров и биологов, которые благодаря междисциплинарному обмену пролили свет на природу целенаправленного поведения в естественных и искусственных сложных системах. Феномен обратной связи, влекущий за собой цикл причинности, был признан универсальной чертой таких систем, найден и в действии простого термостата, и в сложных процессах гомеостаза, которые поддерживают материю и стабильность живых систем.
Общую теорию систем самостоятельно предложил Берталанфи (1950). Как биолог, Берталанфи и другие (стоит отметить Вейса) подчеркивали «холистическую» природу организации живых систем, выраженную афоризмом Аристотеля «целое больше, чем сумма его частей». Берталанфи ввел различие «открытых» и «закрытых» систем. В его определении различие между системой и окружением проводится в терминах обмена материей и энергией. Открытая система как организация активна при вступлении в такие обмены. Закрытая система непереходимо «запечатана» от окружения. В своей изоляции она является предметом второго закона термодинамики: со временем ее порядок (организация) уменьшается и ее беспорядок (энтропия) возрастает. По этому определению горящая свеча и живой организм — открытые системы.
Кибернетика должна была провести четкое различие между материей и энергией, с одной стороны, и информацией и контролем с другой. И пламя свечи, и живой организм — действительно энергетически открытые системы, но последний обладает дополнительным свойством определения своих собственных границ. Он самоорганизующийся. С самого начала ведущие мыслители признавали, что при относительных различиях в выделении главного, налицо все же фундаментальное единство интересов кибернетики и теории систем. Как сказал Эшби (1956)[2], обе в первую очередь связаны с системами, которые «открыты для энергии и закрыты для информации и контроля». «Информационно закрытая» система адаптируется к нарушениям окружения. Можно сказать, что в этом процессе она становится более информированной о своем окружении. С точки зрения внешнего наблюдателя ее определенный обмен материей-энергией может рассматриваться как транспортировка информации. Система может быть связана информационным обменом с другими системами. В этом ограниченном смысле система как часть большей системы информационно открыта. Что остается ей присуще, несмотря на изменения в связи с адаптацией, обучением, созреванием и развитием, — это основной цикл ее организации: его составляют процессы, которые производят структуры, воплощающие эти процессы.
В таких системах целое действительно больше, чем сумма его частей. Нарушение в одной части системы обязательно повлияет на все остальные части системы. Из этого краткого изложения должно стать ясно, что теория систем и кибернетика могут быть взаимозаменяемо использованы как имена для возникающей науки, которая изучает организацию сложных систем. Мы предпочитаем термин кибернетика из-за его исторической связи с понятиями “познание” и “цель”. Эшби, например, всегда старается прояснить роль собственных целей и интересов наблюдателя в решении того, как должна определяться, описываться и объясняться система[3].
Определение социокибернетики. Мы определяем социокибернетику как «системную науку в социологии». Системная наука — потому что социокибернетика не ограничена теорией и включает в себя также применение, эмпирические исследования, методологию и аксиологию (т. е. исследование этики и ценностей)[4]. Из социологии, поскольку мы имеем дело действительно с социологической теорией, исключаются такие социальные науки, как психология, антропология, политическая наука и др. Тем не менее, представленный подход должен иметь возможность расширения в другие социальные науки. Далее, попытка рассмотреть базовые понятия социологии с позиций обсуждаемой здесь кибернетики первого порядка, остается открытой для введения усложнений кибернетики второго порядка на последующем этапе.
Системная наука, или более точно кибернетика первого порядка, будет пониматься в соответствии с определением Винера как наука «управления и контроля у животных и машин», включая человеческие существа и естественные «машины». Построение социологии из кибернетики будет основываться на фундаментальной идее о том[5], что мир состоит на элементарном уровне из событий или процессов двух видов: энергетических/материальных и информационных, идея, найденная (без теоретического объяснения) уже в моделях Форрестера.
Основные понятия кибернетики первого порядка. Этой основе соответствует серия базовых кибернетических или системных теоретических понятий, начиная с обратной связи или цикличной причинности как базового кибернетического процесса[6]. Замыкание причинной цепи обеспечивает базовый механизм позитивными (увеличение отклонения) и негативными (уменьшение отклонения) петлями обратной связи. Обе существуют на уровне материи/энергии, и на уровне информационных потоков или комбинации того и другого. Если какой-то механизм измерения, так называемый компаратор (который может быть механическим приспособлением, как маховик в старом паровом двигателе), добавляется к негативной обратной связи, контролирующая обратная связь способна поддерживать процесс близко к среднему или идеальному состоянию. Этот контроль (или обратная связь), если отклонение уменьшается, измеряется после события и становится управлением (или прямой связью), если отклонение предвидится, и корректирующее действие происходит до события (как при управлении автомобилем на повороте). Более сложные структуры цикличной причинности — это возвратность, самореференция, самоорганизация и аутопойэзис (самовоспроизводство).
Повторяющиеся образцы таких (и других) базовых процессов могут быть интерпретированы как структуры, т. к. они стабильны во времени. В частности, так называемые микропроцессы в естественных науках, как и в социальных системах по Симону[7], часто составляют структуры на высшем уровне. Динамические системы, следовательно, могут быть представлены как состоящие из комбинации процессов и структур. Если они — функционально независимые, функционально кооперирующие и, наконец, в какой-то степени отделены от окружения границей, то такие конгломераты компонентов, т. е. структуры и процессы, могут рассматриваться как система. «Система есть целое, состоящее из взаимозависимых частей»[8].
Система, по Ласло[9], характеризуется четырьмя ключевыми свойствами: 1) целостность, предполагающая системные границы, 2) позитивные обратные связи, 3) негативные обратные связи, и 4) системная иерархия: обычно система может рассматриваться как подсистема высшего уровня систем (супрасистемы) и, в свою очередь, как состоящая из подсистем и подподсистем и т. д. до тех пор, пока того требуют цели исследования. Эти базовые характеристики системы по Ласло включают два процесса и два структурных свойства. Самая простая и общая функциональная модель такой открытой системы — это модель входа-выхода, состоящая из механизма ввода, преобразователя, трансформирующего ввод в вывод, и механизма вывода. На информационном уровне базовая схема та же, но преобразователь обычно называется процессором, и добавляется память. Механизм ввода называется перцептором, а механизм вывода — эффектором. При взгляде на базовые моделирующие компоненты ранних имитационных моделей Форрестера[10] мы могли бы также добавить «память» или даже единицу хранения для «запасов» в базовую модель ввода-вывода материального уровня.
С теми же базовыми строительными блоками возможно концептуализировать и системы материи-энергии (материальные системы), и информационные системы[11], причем последние фактически всегда являются комбинацией материальных процессов и структур с информационными процессами и структурами. Последние невозможны без материального субстрата, «среды», хотя абстрагироваться от материальной базы часто возможно. Так, представляется возможным теоретически сконструировать связный кибернетический мир систем и систем, обрабатывающих информацию, который может быть использован для моделирования и анализа даже информационного общества. Со стороны социологии ситуация более менее ясна, поскольку социология характеризуется плюрализмом более или менее частных и неполных теорий с определенным количеством более или менее успешных исторических попыток «большой теории», покрывающей все. Самая недавняя из последних — это, без сомнения, работа Лумана[12]. Однако в области социологии в основном наблюдается немного усилий по поводу того, что могло бы быть названо «системная социология»[13].
Некоторую эмпирическую попытку в этом направлении представил Корте и его сотрудники, которые опубликовали в Германии серию из четырех книг с намерением охватить область социологии как тексты начального уровня. Первый том представляет серию базовых понятий социологии, которые «эмпиричны» в том смысле, что авторы пользуются социологической литературой, и в частности «классикой», чтобы определить базовые понятия социологии.
В соответствии с работой Корте и сотрудников выделяется 28 главных понятий социологии[14]. Дадим списки понятий социологии, социокибернетики и тетрасоциологии в таблице. Это первый шаг к их сравнению.
Таблица 1. Сравнение главных понятий социологии, социокибернетики и тетрасоциологии
|
Главные понятия социологии соответственно Корте и др. |
Понятия социокибернетики (в сравнении с 1-м столбцом) |
Понятия тетрасоциологии (в сравнении с 1-м столбцом) |
|
1) Социология |
1) Социокибернетика |
1)Тетрасоциология |
|
2) Социальное действие |
2) Социальное действие, взаимодействие, коммуникация |
2) Воспроизводственная занятость людей |
|
3) Нормы |
3) Ориентиры, Нормативные и основные ориентиры, ценности |
3) Информация, культура |
|
4) Ценности |
--- |
3) Информация, культура |
|
5) Значение |
4) Значение, Знание |
3) Информация, культура |
|
6) Социализация |
5) Социализация, Образование, Обучение |
4) Социальная сфера, воспроизводство человека |
|
7) Личность |
6) Психологическая система, Личность |
5) Люди, индивид, личность |
|
8) Индивид |
7) Индивид, Деятельная система |
5) Люди, индивид, личность |
|
9) Идентичность |
8) (Я-) идентичность |
6) Сферная идентичность |
|
10) Габитус |
--- |
--- |
|
11) Пол/Гендер |
--- |
5) Люди, индивид, личность |
|
12) Отклоняющееся поведение |
--- |
--- |
|
13) Социальная группа |
9) Социальная группа |
7)Сферные классы и группы |
|
14) Институт |
10) Институт |
8) Организация, оргсфера, порядок |
|
15) Организация |
11) Организация |
8) Организация, оргсфера, порядок |
|
16) Власть |
12) Власть, сила/насилие, атрактор |
8) Организация, оргсфера, порядок |
|
17) Сила/насилие |
-- (субкатегория “власти”) |
8) Организация, оргсфера, порядок |
|
18) (Легитимация) Руководство |
13) (Легитимация) Руководство |
8) Организация, оргсфера, порядок |
|
19) Социальное принуждение |
14) Социальное принуждение |
8) Организация, оргсфера, порядок |
|
20) Социальное неравенство |
-- Социальное неравенство |
9) Социальное неравенство |
|
21) Каста |
--- |
--- |
|
22) Сословие |
--- |
--- |
|
23) Класс |
-- Класс, каста, сословие |
7)Сферные классы и группы |
|
24) Социальная стратификация и статус |
15) Социальная стратификация /статус, класс, каста, сословие |
10) Социальная стратификация |
|
25) Мобильность |
16) Мобильность |
11) Мобильность |
|
26) Культура |
17) Культура |
3) Информация, культура |
|
27) Развитие |
18) Развитие, эволюция, социальное изменение |
12) Развитие, социальная генетика |
|
28) Социальная структура и процесс |
19) Социальная структура и социальный процесс |
13) Сферная структура, социальные процессы, динамика |
|
28 понятий |
19 понятий (другие см. ниже) |
13 понятий (другие см. ниже) |
Не все “главные понятия” социологии находят соответствие среди главных понятий социокибернетики и тетрасоциологии. С другой стороны, социокибернетика и тетрасоциология включают ряд главных понятий, которых нет среди понятий социологии. Поэтому полные списки главных понятий социокибернетики и тетрасоциологии представлены ниже, которые увеличивают число аспектов сравнения.
Таблица 2. Главные понятия социокибернетики, по группам
Первое понятие в каждой группе является “главным понятием”, а следующие за ним являются его вариантами или тесно с ним связаны. Нумерация последовательна, в скобках сохраняются номера понятий из предшествующей таблицы.
Наука:
I Гносеология, Философия науки (Мета-уровень)
II Теория
III Аксиология
IV Методология
V Эмпирические исследования
VI Применение
I Метапонятия
1) Социокибернетика (1)
2) События
3) Процесс, Течения (18)
4) Структура (19)
5) Отношения
6) Причинность (круговая)
7) Функция, Результат
8) Материя/энергия
9) Информация (включая данные)
10) Индетерминизм
11) Холизм
II Теория и аксиология
Культурные и Психологические Понятия – Информационная Структура
12) Культура (17)
13) Знаки, Знаковые системы
14) Ориентиры, Нормативные и Основные ориентиры, Ценности (3)
15) Значение, Знание (4)
16) Институт (10)
17) Социализация, образование (5)
18) Легитимация
19) (Я-)идентичность (8)
20) Психологическая система, Личность, Индивид, Субъект (6)
21)Жизненный стиль, габитус
Понятия информационного процесса — Информационный Процесс
22) Эмоциональная система, Чувства
23) Познание, Восприятие, Познающие системы
24) Обучение
25) Принятие решения, включая Оценку
Понятия Действие — Процесс
26) Действие, Взаимодействие, Поведение (2)
27)Коммуникация, Сообщение
28) Мобильность (16)
29) Кооперация, Консенсус, Согласие
30) Конфликт
Социальные единицы — Структурные Компоненты
31) Социальная Система, управляемая система, неуправляемая система (типа эко-системы)
32) Система Актора
33) Роли
34) Индивид (7)
35) Система взаимодействия
36) Группа (9)
37) Организация (11)
38) Коллектив
39) Социетальная система, Общество
Силы и Власть — Процесс
40) Управление и Контроль
41) Власть, Сила/Насилие, Аттрактор (12)
42) (Легитимация) Руководство (13)
43) Ресурсы
Социальная (Макро-) Структура и Динамика — Структура и Процесс (в единстве)
44) Социальная Структура и Социальный Процесс (в единстве) (19)
45) Принуждение (напряжение) (14)
46) Стратификация, Статус, Класс, Сословие, Каста (15)
47) Иерархизация, Иерархия Системы, Иерархия Контроля, Микро-, Мезо-, Макро- уровень
48) Сегментация
49) Функциональная Дифференциация и Подсистемы, Социальные Сферы
50) Развитие, Эволюция, Социальное изменение (18)
Специальные Социокибернетические Понятия — Структура и Процесс (в единстве)
51) Граница/ограничение
52) Окружающая среда
53) Вход/Преобразование/Выход
54) Обратная/Прямая связь (позитивная/негативная)
55) Открытость/закрытость
56) Разнообразие признаков
57) Само-Организация, Самовоспроизводство, Само-Оценка
58) Наблюдение, Наблюдатель
59) Рефлексия
60) Сложность
61) Эмерджентность, Синергия
62) Стабилизация, Гомеостазис/Морфостазис/Морфогенез
63) Адаптация
64) Устойчивость
Таблица 3. Главные понятия тетрасоциологии [15], по группам
Метапонятия:
1) Тетрасоциология (1)
2) Постплюрализм
3) Плюрализм
4) Монизм
Родовые понятия:
5) Воспроизводственная занятость (2), сферные классы населения (7), социальная энергия
6) Социальные ресурсы (ресурсы воспроизводства)
7) Социальные процессы (процессы воспроизводства)
8) Социальные структуры (структуры воспроизводства, сферы воспроизводства и занятости) (13)
9) Социальные состояния, развитие, эволюция (состояния воспроизводства) (12)
10) Социальное пространство-время, социальный мир, общество, социальное
Видовые понятия: Ресурсы:
11) Люди, индивид, личность (5)
12) Информация, культура (3)
13) Организация, оргсфера, порядок (8)
14) Вещи (социальная материя)
Процессы:
15) Производство
16) Распределение
17) Обмен
18) Потребление
Структуры:
19) Социальная (гуманитарная) сфера общественного воспроизводства (Социосфера)
20) Информационная (культурная, духовная) сфера общественного воспроизводства (Инфосфера)
21) Организационная (политическая, управленческая) сфера воспроизводства (Оргсфера)
22) Техническая (материальная, экономическая) сфера воспроизводства (Техносфера)
Состояния:
23) Процветание (12)
24) Замедление (12)
25) Упадок (12)
26) Гибель (12)
Сферные классы:
27) Социальный (гуманитарный) класс населения
28) Информационный класс населения
29) Организационный класс населения
30) Технический класс населения
Примечание. Воспроизводственная занятость людей совпадает по содержанию со сферными классами. Поэтому данные понятия являются идентичными и рассматриваются как одно понятие, хотя они различаются как предмет (сферные классы) и его сущностное качество (воспроизводственная занятость), неотрывное от него. Всего в таблице 26 главных понятий кроме метапонятий. Все другие тетрасоциологические понятия производны от них.
Таблица 4. Главные понятия социологии (по Корте), сгруппированные
Метапонятие: 1) Социология
|
Действие |
Культура |
Человек |
Социальные единицы |
Силы и Власть |
Коллективы |
Структуры и процессы |
|
2)Социальное действие |
3) нормы |
7) Личность |
13) Социальная группа |
16) Власть |
11) Пол/Гендер |
19) Социальные напряжения |
|
10) Габитус (или культура) |
4) Ценности |
8)Индивид |
14) Институт |
17) Сила/Насилие |
21) Каста |
20) Социальное неравенство |
|
12)Девиантное поведение |
5) Значение |
9) Идентичность |
15)Организация |
18) Легитима ция/Руководство |
22) Сословие |
25)Мобильность |
|
6)Социализация |
23) Класс |
27)Развитие | ||||
|
26) Культура |
24) Социальная стратификация |
28) Социальная структура |
В кратком обзоре не ставится задача детального сравнения систем главных понятий социологии, социокибернетики и тетрасоциологии. Его задача заключается только в постановке чрезвычайно сложной, междисциплинарной проблемы их сравнения. Перечни главных понятий этих наук, а также их группировка создает необходимые предпосылки для сравнения. Отметим некоторые моменты междисциплинарного анализа проблемы сравнения понятий.
Во-первых, некоторые понятия являются общими и почти полностью совпадают по значению: индивид/личность, культура/информация, организация/институт, социальная структура, группы/классы, действие/процесс, развитие. В каждой дисциплине признаются эти понятия в качестве основных. По-видимому, они выражают общее ядро трех дисциплин. Все другие, различающиеся или пересекающиеся понятия, образуют специфику каждой дисциплины. Поэтому первая проблема их сравнения заключается в определении их общего набора понятий, который придает смысл процедуре междисциплинарного сравнения. Если общих понятий нет, то сравнение лишается смысла.
Во-вторых, социология и социокибернетика, как устоявшиеся дисциплины, рассматриваются с позиций тех авторов, которые цитируются. Это значит, что эти дисциплины у других авторов могут иметь другую интерпретацию. Что касается тетрасоциологии, то ввиду ее новизны, она дается в авторской интерпретации, что однако, тоже не исключает относительность авторских определений этой дисциплины, которые обнаружатся позже.
В-третьих, социология, как наиболее фундаментальная и дольше других живущая дисциплина, выступает общей основой для сравнения социокибернетики и тетрасоциологии, которые развиваются как ее новые направления или отрасли, но с интегральными и системными амбициями.
В-четвертых, очень спорным и неопределенным является термин «главное» понятие. Какие понятия считать главными для научной дисциплины, по какому критерию? Критериев может быть много. С позиций каждой науки выделяется свой набор «главных» понятий, которые будут различны в психологии, экономике, философии и т. п. Каждая из наук будет по-своему смотреть на социологию, социокибернетику, тетрасоциологию как и на любую другую науку и выделять «главные» понятия для себя. Также возможно выделение «главных» понятий дисциплин с точки зрения различных уровней и абстракции (например, системы и люди), и агрегации (например, индивид и общество). Множество критериев выделения «главных» понятий делает эту процедуру и трудной и трудоемкой. В нашем контексте «главные» понятия дисциплин выделяются с точки зрения самих этих дисциплин, как следствие их самооценки и само рефлексии.
В-пятых, также различно, по разным основаниям происходит и группировка понятий. Сравнение тетрасоциологии и социокибернетики по группам понятий требует большого специального анализа. Для него здесь можно предложить определенную шкалу близости/удаленности двух систем понятий друг от друга или по отношению к базовой системе понятий социологии. В первом приближении основное различие социокибернетики и тетрасоциологии проходит по следующим понятиям. Если в социокибернетике центральными являются понятия структуры, процесса, информации, организации, прямой и обратной связи, то в тетрасоциологии ими являются: ресурсы, процессы и сферы воспроизводства, воспроизводственная занятость, сферные классы занятости. Насколько они совместимы и несовместимы является одной из главных проблем данного междисциплинарного анализа.
В-шестых, очевидно, что каждая система понятий ограничена, поэтому они взаимно дополняют друг друга. Но как, в какой мере и в каких отношениях — это тоже очень сложный вопрос требующий самостоятельного исследования.
В заключение можно сказать, что социокибернетика и тетрасоциология имеют много общих теоретических оснований в рамках социологии: системный подход, многомерность, междисциплинарность и т. п. В то же время они имеют существенные различия, которые в одних случаях дополняют друг друга, а в других случаях противоречат. Противоречия являются нормальным состоянием эволюции всех наук, социальных в том числе. Эти противоречия являются мощным источником развития социокибернетики и тетрасоциологии, включая возможный синтез их в некоторой новой парадигме в будущем. Междисциплинарное сравнение является очень сложной проблемой, но ее постановка и решения ведут к возникновению новых продуктивных идей, хотя составляют всего лишь шаг на пути развития социальных наук.
1 . Тетрасоциология: ответы на вызовы. СПбГТУ, 2002
2 Ashby, W. troduction to Cybernetics, New York: Wiley, 1956
3 Scott, Bernard. (2000). “Cybernetic explanation and development”, Kybernetes, 29, 7/8, pp. 966-994.
4Cf. GEYER, Felix; VAN DIJKUM, Cor (eds.): Newsletter 7, ISA - International Sociological Association, Research Committee 51 on Sociocybernetics (RC 51), in: http://www. unizar. es/sociocybernetics, vol. 4, no. 1 January 1999, contributions pp. 11-28.
5 WIENER, Norbert: Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press, Cambridge Mass. 1994.
6 Cf. HORNUNG, Bernd R.: Sociocultural Evolution, Towards the Merging of Material and Informational Evolution, in: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CYBERNETIQUE (AIC) (ed.): 14th International Congress on Cybernetics, Namur (Belgium), August 21st-25th 1995, Proceedings, pp. 867-872, Association Internationale de Cybernйtique, Namur 1995; HORNUNG, Bernd R.: Towards a Sociology of Process and Information, Information, Communication, Knowledge, and Action in a Constructivist Approach, Paper presented at the 3rd International Conference on Sociocybernetics, Leon, Mexico, June 24th - July 1st, 2001, Unpublished Typescript, 2001; HORNUNG, Bernd R.: EMERGENCE - A Key Concept for Sociocybernetic Theory of Information Society, Paper presented at the 15th World Congress of Sociology, Brisbane, July 8-13, 2002, RC51 on Sociocybernetics, Session 13, Unpublished Typescript, 2002.
7 SIMON, Herbert A.: La science des systиmes, Science de l'artificiel, orig. The Sciences of the Artificial, Epi s. a. йditeurs, Paris 1974.
8 A description of the entire systems paradigm is given in HORNUNG, Bernd R.: Grundlagen einer problem funktionalistischen Systemtheorie gesellschaftlicher Entwicklung, (Foundations of a Problem-functionalist Systems Theory of Development), Verlag Peter Lang, Bern, Frankfurt/M., New York, Paris, Wien 1988, pp. 33-39; HORNUNG, Bernd R.: Sociocultural Evolution, op. cit.
9 LASZLO, Ervin: Introduction to Systems Philosophy, Toward a New Paradigm of Contemporary Thought, Harper & Row, New York, London 1973, pp 36-47
10 FORRESTER, Jay W.: Grundsдtze einer Systemtheorie, Orig.: Principles of Systems, Th. Gabler, (Wright Allen Press), Wiesbaden, (Cambridge Mass.) 1
11 Cf. MILLER, James G.: Living Systems, McGraw Hill, New York 1978.
12 E. g. LUHMANN, Niklas: Social Systems, Translated by John Bednarz, Jr. with Dirk Baecker, Foreword by Eva M. Knodt, Stanford University Press, Stanford 1995.
13 E. g. SIEBEL, Wiegand: Einfьhrung in die systematische Soziologie, (Introduction to Systematic Sociology), Verlag C. H. Beck, Mьnchen 1984.
14 KORTE, Hermann; SCHДFERS, Bernhard (eds.): Einfьhrung in Hauptbegriffe der Soziologie, (Introduction to Main Concepts of Sociology), Einfьhrungskurs Soziologie, Bd. I, 5. erweiterte und aktualisierte Aufl., UTB, Bd., 8063, Leske + Budrich, Leverkusen, Opladen 2000, p. 7, 9
15 Подобная система 26 социологических понятий в форме сети создана профессором Бернардом Филипсом в рамках его Сетевого Подхода: Phillips, Bernard. Beyond Sociology's Tower of Babel: Reconstructing the Scientific Method. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 2001, p. 27, figure 1-3 p.24. Сравнение четырех систем социологических понятий является очень интересным и продуктивным для их развития, но требует специального большого анализа.
Д-р Хорнунг, Университет Филипс, Марбург, Германия
Президент Исследовательского Комитета 51, Социокибернетика, Международной Социологической Ассоциации
Д-р Бернард Скотт, Университет Кронфилд, Королевский Военный Колледж Науки, Великобритания.
Член Правления Исследовательского Комитета 51, Социокибернетика, Международной Социологической Ассоциации
SOCIOCYBERNETICS
Felix Geyer and Johannes van der Zouwen
Published in Handbook of Cybernetics (C. V. Negoita, ed.). New York: Marcel Dekker, 1992 , pp. 95-124
Использовано - http://www. unizar. es/sociocybernetics/chen/felix/pfge8.html
troduction
Sociocybernetics can be defined as the application of concepts, methods, and ideas of the so-called new cybernetics or second-order cybernetics to the study of social and sociocultural systems, but also vice versa: second-order cybernetics is certainly enriched by the often unexpected results of social science studies in which the concepts of second-order cybernetics are applied.
This chapter cannot give more than a rough impression of the wide variety of innovative theoretical and empirical research that is executed within the sociocybernetics paradigm, and an overview of the main trends and developments since the late seventies. It will be based on the work of what is conceivably the most important international forum devoted explicitly to sociocybernetics, and to a relatively sustained critical assessment of issues, priorities and directions for further work in the field: the Sociocybernetics Sections at the triannual International Congresses of Cybernetics and Systems of the WOGSC (World Organization of General Systems and Cybernetics), co-organized by the authors.
After each of these congresses, the organizers co-edited a volume with a selection of papers; for reasons of space, only some of these papers can be discussed in more detail. They are selected both to give the reader an impression of the widely divergent subject matter covered by sociocybernetics, and also to show the direction in which sociocybernetics is developing. The present contribution is an adapted version of a recent overview of the field (Geyer and Van der Zouwen, 1990b).
2. Sociocybernetics: an overview of developments during the last decade
Quite a lot has happened in the field of sociocybernetics since the first two volumes with that title appeared (Geyer and Van der Zouwen, 1978). An effort will be made to sketch these developments, and show where we started, and where the frontiers of the field are now.
Buckley, as one of the first pioneers to correctly apply systems concepts to the social sciences, reckoning with the specific nature of social systems, stressed already in the mid-sixties (Buckley, 1967) the as such hardly surprising fact that social systems are essentially different from biological and technical ones, the most frequently studied systems up till then - and studied largely with the aid of classical first-order cybernetics. It took almost a decade since then for systems concepts to be applied to the social sciences.
In the introduction to the above volumes, the term sociocybernetics was chosen to refer to the interpenetration of general systems theory and the social sciences - and not merely to the one-way traffic of applying concepts from general systems theory without further reflection to the social sciences. The authors then were, and still are, convinced that the emergence of the so-called second-order cybernetics was largely due to this increasing focus, within general systems theory, on the social sciences - a field where the inapplicability of first-order cybernetics soon became evident. These were intellectually exciting days, although the systems movement within the social sciences still had to gather steam, and pronouncements still had a defensive ring - towards the social science community rather than towards the colleagues in systems theory.
Indeed, the themes in these 1978 volumes could still be described as refutations of the frequently voiced objections against the application of systems theory to the social sciences: for example, the reproach of implicit conservatism that was largely caused by the fact that the Parsonian systems approach, with its stress on homeostasis rather than morphogenesis, was virtually the only one known in social science (cf. Buckley, 1967). Other objections voiced against the systems approach were technocratic bias and unwarranted reductionism; in view of the prevalence of the rather mechanistic type of first-order cybernetics then in fashion, these perhaps somewhat stereotypical objections among social scientists only superficially acquainted with the systems approach were certainly understandable (Lilienfeld, 1978).
Less defensively and more positively, we tried to define the main themes of sociocybernetics as aspects of the emerging "new cybernetics", known in the meantime as second-order cybernetics:
1) Sociocybernetics stresses and gives an epistemological foundation for science as an observer-observed system. Feedback and feedforward loops are not only constructed between the objects that are observed, but also between them and the observer. The subjective and time-dependent character of knowledge is emphasized by this approach: information, in the broadest sense of the word, is neither seen as inherently "out there", waiting to be discovered by sharp analytical minds, nor is it entirely viewed as a figment of the observer's own imagination, or as an environment-independent automatic end-result of his own inner cognitive processes. Knowledge is constructed - and continually reconstructed - by the individual in open interaction with his environment.
2) The transition from classical, rather mechanistic, first-order cybernetics to modern, second-order cybernetics is characterized by a number of interrelated problem shifts:
a) One shift is from the system that is being controlled to the actively steering system, and consequently:
- to the nature and genesis of the norms on which steering decisions are based;
- to the information transformations, based on both observations and norms, that are necessary to arrive at steering decisions;
- to the learning processes behind repeated decision-making.
b) Especially when several systems try to steer each other, or an outside system, attention is focussed on the nature of, and the possibilities for, communication or dialogue between these systems.
c) When the behavior of a system has been explained in the classical way, through environmental influences and systemic structure, the problem is raised of the "why" of this structure itself, qua origin and development, and the "why" of its autonomy with regard to the systems terminology: the questions of morphogenesis and autopoiesis.
3) These problem shifts in cybernetics involve an extremely thorough reconceptualization of many all too easily accepted and taken for granted concepts - which yields new notions of stability, temporality, independence, structure vs. behavior, and many other concepts.
4) The actor-oriented systems approach, promulgated in 1978 as part of sociocybernetics, makes it possible to bridge the "micro-macro" gap - the gap in social science thinking between the individual and society, between freedom and determinism, between "anascopic" explanations of society that depart from the activities of individuals conceived as goal-seeking, self-regulating systems, and "katascopic" explanations that view society "from the top down" and see individuals as subservient to system-level criteria for system stability.
In 1982, a volume was published containing largely empirical work applying systems concepts to an integrated, cross-disciplinary study of the problems of underdeveloped countries (Geyer and Van der Zouwen, 1982). A general theme here was: how can general systems theory and general systems methodology contribute towards an improved understanding of the problems of social systems in transition, particularly those of developing countries? Does the application of the systems approach in this area indeed lead to new insights, and especially to new solution alternatives, over and above those of the traditional disciplines?
However, what concerns us here is the conceptual-theoretical advances that were made. For example, the actor-oriented approach to dependency theory employed in this volume not only elucidated the individual vs. society problem by concretely demonstrating the existing links between motivations and actions of individual actors and large-scale societal processes, thus explaining how a certain historical process has led to a certain result: present-day dependency of Third World Nations. This approach also differentiates hierarchically between the game itself and the "meta-game": i. e. the capability of certain actors to determine the rules of the game, and therewith largely its contents (unequal exchange) and its outcome (perpetuation of inequality).
Another interesting theoretical development, demonstrated "empirically" by computer simulation (Gierer, 1982), lies in the explanation of inequality as resulting from the cumulative interaction over time of the auto-catalytic, self-enhancing effects of certain initial advantages (e. g. generalized wealth, including education) with depletion of scarce resources. It then turns out that striking inequalities can be generated from nearly equal initial distributions, where slight initial advantages tend to be self-perpetuating within the boundary conditions of depleting resources; it is here that the concept of autopoiesis, developed in the mid-seventies in cellular biology by Maturana and Varela (1980), finds one of its first applications in social science.
It became increasingly clear around this time, the early 1980's, that it is precisely general systems theory, paradoxically, that does not recognize the existence of systems, at least not as immutable and objectively existing entities with fixed boundaries. Unlike many of the traditional disciplines, modern systems theory is in this sense explicitly opposed to reification: the tendency to ascribe a static "thing" character to what really are dynamic processes. Especially when trying to apply second-order cybernetics to the investigation of social systems - in this case developing countries - the way in which one can analytically distinguish systems turns out to be problem-dependent (and hence implies relativism), observer-dependent (and hence ultimately subjective or intersubjective) and time-dependent (and hence implying a dynamic rather than static character).
Already implicit in the themes of this 1982 volume were the main concerns of our third volume (Geyer and Van der Zouwen, 1986): the sociocybernetic paradoxes inherent in the observation, control and evolution of self-steering systems - especially the paradox important to policy-makers worldwide: how can one steer systems that are basically autopoietic and hence self-referential as well as self-steering? The authors of a number of empirical studies in this volume were rather pessimistic about the possibilities of planning and steering a number of specific social systems, while a theoretical study by Masuch drew attention to the planning paradox:
Perfect planning would imply perfect knowledge of the future, which in turn would imply a totally deterministic universe in which planning would not make any difference. While recognizing the usefulness of efforts to steer societies, a cost-benefit analysis, especially in the case of intensive steering efforts, will often turn out to be negative: intensive steering implies intensive social change, i. e. a long and uncertainty-increasing time period over which such change takes place, and also an increased chance for changing planning preferences and for conflicts between different emerging planning paradigms during such a period. Nevertheless, given a few human cognitive predispositions, there unfortunately seems to exist a bias for oversteering rather than understeering.
A historical overview of planning efforts concludes that - in spite of intensified theorizing and energetic attempts to create a thoroughly planned society during the last two centuries - the different answers given so far regarding the possibility of planning cancel each other out. There is even no consensus about a formal definition, though usually planning is seen as more comprehensive, detailed, direct, imperative or expedient when compared with other steering activities that are not defined as our most recent volume (Geyer and Van der Zouwen, 1990) we have gone further into the reasons why increased knowledge about human (i. e. self-referential) systems often does not help us to improve our planning of such systems.
In our 1986 volume, apart from discussing the possibilities of planning, we tried to answer two other important questions:
- Should one opt for the "katascopic" or the "anascopic" view of society; in other words, should the behavior of individuals and groups be planned from the top down, in order for a society to survive in the long run, or should the insight of actors at every level, including the bottom one, be increased and therewith their competence to handle their environment more effectively and engage more succesfully in goal-seeking behavior?
- What should be the role of science, especially the social sciences, in view of the above choice: should it try mainly to deliver useful knowledge for an improved steering of the behavior of social systems and individuals, or should it strive to improve the competence of actors at grass roots level, so that these actors can steer themselves and their own environment with better results?
To answer these questions, Aulin followed a cybernetic line of reasoning that argues for non-hierarchical forms of steering. Ashby's Law of Requisite Variety indeed implies a Law of Requisite Hierarchy in the case where only the survival of the system is considered, i. e. if the regulatory ability of the regulators is assumed to remain constant. However, the need for hierarchy decreases if this regulatory ability itself improves - which is indeed the case in advanced industrial societies, with their well-developed productive forces and correspondingly advanced distribution apparatus (the market mechanism). Since human societies are not simply self-regulating systems, but self-steering systems aiming at an enlargement
of their domain of self-steering, there is a possibility nowadays, at least in sufficiently advanced industrial societies, for a coexistence of societal governability with ever less control, centralized plannning and concentration of power.
As the recent history of the Soviet Union demonstrates, this is not only a possibility, but even a necessity: when moving from a work-dominated society to an information-dominated one, less centralized planning is a prerequisite for the very simple reason that the intellectual processes dealing with information are self-steering - and not only self-regulating - and consequently cannot be steered from the outside by definition. Our answer to the above questions, in other words, was quite straightforward: there should be no excessive top-down planning, and science should help individuals in their self-steering efforts, and certainly should not get involved in the maintenance of hierarchical power systems.
Of course, this is not to deny that there is a type of system within a society that can indeed be planned, governed and steered, but this is mainly because such systems have been designed to be of this type in the first place, i. e. to exemplify the concept of the control paradigm. Modern, complex multi-group society in its entirety, conceptualized as a matrix in which such systems grow and thrive, can never be of this type.
If one investigates a certain system with a research methodology based on the control paradigm, the results are necessarily of a conservative nature; changes of the system as such are almost prevented by definition. According to De Zeeuw (1986), a different methodological paradigm is needed if one wants to support social change of a fundamental nature and wants to prevent "post-solution" problems; such a paradigm is based on a multiple-actor design, does not strive towards isolation of the phenomena to be studied, and likewise does not demand a separation between a value-dependent and a value-independent part of the research outcomes.
Our 1986 volume also analysed the emerging broader context of the steering problematique, and thus contributed to the development of a systems epistemology for the social sciences, the necessity of which we argued already in 1978. Two interesting "theory transfers" from other disciplines should be mentioned in this respect:
In a fascinating contribution by Laszlo, comparing the evolution of social systems with the wider context of the basic cybernetics of evolution per se, use was made of Prigogine's (1984) theoretical framework. The thesis was defended here that, while evolution admittedly may follow widely divergent paths in different fields of enquiry, there are unitary principles underlying the concrete course of evolution in different domains - i. e. basic invariances in dynamics rather than accidental similarities in morphology - and that discovering them has a survival value in highly complex modern societies with their uncertain ntradictory theories of evolution (e. g. classical thermodynamics based on particles in or near equilibrium vs. Darwin's theory of the origin of species) have uneasily co-existed for more than a century.
With the development of non-equilibrium thermodynamics - which also considers particles far from equilibrium, and can therefore deal with cross-catalytical chemical oscillators - by Prigogine and others, these contradictions turn out to be only apparent. Evolution occurs when open systems are exposed to massive and enduring energy flows. It now turns out that evolution - in physics, biology and the social sciences - goes together with increasing size and complexity and decreasing bonding energy. Strongly bonded, but relatively simple particles - whether atomic nuclei, cells, or human individuals - act as building blocks for more weakly bonded, but larger and more complex entities.
Another interesting "theory transfer" was the reconceptualization of the autopoiesis concept developed by Maturana and Varela (1980) to make it applicable to the field of the social sciences. Luhmann (1986) defended the quite novel thesis here that, while social systems are self-organizing and self-reproducing systems, they do not consist of individuals or roles or even acts, as commonly conceptualized, but of communications. It should not be forgotten that the concept of autopoiesis was developed while studying living systems. When one tries to generalize the usages of this concept to make it also truly applicable to social systems, the biology-based theory of autopoiesis should therefore be expanded into a more general theory of self-referential autopoietic systems. It should be realized that social and psychic systems are based upon another type of autopoietic organization than living systems: namely on communication and consciousness, respectively, as modes of meaning-based reproduction.
While communications rather than actions are thus viewed as the elementary unit of social systems, the concept of action is admittedly necessary to ascribe certain communications to certain actors. The chain of communications can thus be viewed as a chain of actions - which enables social systems to communicate about their own communications and to choose their new communications, i. e. to be active in an autopoietic way. Such a general theory of autopoiesis has important consequences for the epistemology of the social sciences: it draws a clear distinction between autopoiesis and observation, but also acknowledges that observing systems are themselves autopoietic systems, subject to the same conditions of autopoietic self-reproduction as the systems they are studying.
The theory of autopoiesis thus belongs to the class of global theories, i. e. theories that point to a collection of objects to which they themselves belong. Classical logic cannot really deal with this problem, and it will therefore be the task of a new systems-oriented epistemology to develop and combine two fundamental distinctions: between autopoiesis and observation, and between external and internal (self-)observation. Classical epistemology searches for the conditions under which external observers arrive at the same results, and does not deal with nsequently, societies cannot be viewed, in this perspective, as either observing or observable. Within a society, all observations are by definition self-observations.
3. Self-referencing
It is in our most recent volume (Geyer and Van der Zouwen, 1990) that we have concentrated on this emerging problem area: the often unexpected consequences of the fact that all observations within a society are self-observations. One of the main characteristics of social systems, distinguishing it from many other systems, is their potential for self-referentiality. This means that the knowledge accumulated by the system itself about itself, in turn affects the structure and operation of that system. This is the case because, in self-referential systems like social systems, feedback loops exist between parts of reality on the one hand, and models and theories about these parts of reality on the other hand.
Concretely, whenever social scientists systematically accumulate new knowledge about the structure and functions of their society, or about subgroups within that society, and when they subsequently make that knowledge known, through their publications or sometimes even through the mass media - in principle also to those to whom that knowledge pertains - the consequence often is that such knowledge will be invalidated, because the research subjects may react to this knowledge in such a way that the analyses or forecasts made by the social scientists are falsified.
In this respect, social systems are different from many other systems, including biological ones. There is a clearly two-sided relationship between knowledge about the system on the one hand, and the behavior and structure of that system on the other hand. Biological systems, like social systems, admittedly do show goal-oriented behavior of actors, self-organization, self-reproduction, adaptation and learning. But it is only social systems that arrive systematically, by means of experiment and reflection, at knowledge about their own structure and operating procedures, with the obvious aim to improve these.
In our 1986 volume, we already dealt in detail with several aspects of the specific character of social systems. The accent then, however, was rather on the degree of governability of those systems: our core area of interest there was the paradox of steering self-steering systems. Our 1990 volume, on the other hand, reflects a shift to the present preoccupations of sociocyberneticians. The accent in this case lies on the consequences of self-referentiality, in the sense of self-observation, both for the functioning of social systems and for the methodology and epistemology used to study them. We do have a paradox here too: the accumulation of knowledge often leads to a utilization of that knowledge - both by the social scientists and the objects of their research - which may change the validity of that knowledge.
3.1 Self-referencing and prediction
This trend is illustrated for example by Henshel, who analyzes what he terms credibility and confidence loops in social prediction. Self-fulfilling prophecies have of course been studied rton (1948) defined the self-fulfilling prophecy as "an unconditional prediction or expectation about a future situation such that, first, had it not been made, the future situation envisaged would not have occurred, but because it is made, alterations in behavior are produced which bring about that envisaged situation, or bring that envisaged situation to pass." The notion of a self-fulfilling prophecy was later supplemented by its mirror opposite: the self-defeating prophecy.
The novelty of Henshel's approach lies in the fact that he extends the notion of self-fulfilling prophecies to serial self-fulfilling prophecies, where the accuracy of the earlier predictions, themselves influenced by the self-fulfilling mechanism, impacts upon the accuracy of the subsequent predictions. He distinguishes credibility loops and confidence loops.
In credibility loops, source credibility, i. e. the credibility of the forecaster, becomes significant, because it is the same forecaster who is issuing repeated predictions. There is a deviation-amplifying positive feedback loop here between: 1) a self-fulfilling mechanism, 2) the accuracy of the prediction, and 3) the credibility of the forecaster. Several examples are given, in widely varying fields like pre-election polling, stock market predictions, intelligence testing, etc.
Confidence loops have certain features in common with credibility loops; the critical difference between the two lies precisely in what is held constant, or uniform, across the repeated prediction the case of the credibility loop it is the person of the predictor which must remain the same, in order for the associated credibility to rise or the confidence loop, continuity across predictive iterations in the prediction itself is at issue. The prediction in the confidence loop must exhibit constancy in either rank-order or direction on successive pronouncements. Such uniformity in the direction of the prediction, together with the postulated self-fulfilling mechanism, produces increased accuracy, which in turn produces increased confidence in the prediction as iterations of the loop unfold. Examples are given here in fields like inflationary spirals, validation of criminality theories, attribution theory, etc.
Of course, feedback loops involving a self-defeating mechanism lower rather than increase predictive accuracy over several iterations. When inserting a self-defeating dynamic in the system, an oscillating system is created in which the time paths of the key variables now oscillate instead of assuming a monotonic form. The so-called cobweb cycle is a good example here.
Henshel's analysis has fascinating implications in two different areas:
1) He demonstrates two "nested" differences between the natural world and the social world: self-fulfilling or self-defeating prophecies exist only within the social world, while moreover these self-fulfilling or - defeating tendencies are magnified by the feedback loops in which they are embedded, and impact directly upon the accuracy of the predictions made.
2) He also demonstrates differences between prediction in the natural vs. the social sciences: The existence of credibility loops and confidence loops suggests that, on certain occasions at least, the social sciences can pull themselves up by their own bootstraps, in terms of improving their predictive accuracy. Such a "bootstrap" enhancement of accuracy is not possible for prediction in the natural sciences. The social sciences appear to be aided especially with respect to the accuracy of directional and ordinal predictions, in ways which are impossible for natural phenomena. If a social scientist issues a directional or ordinal prediction, he may be aided by self-fulfilling dynamics. On the other hand, if the same social scientist issues a quantified prediction, he may be damaged in ways which do not apply to the natural science world. That is, for quantified prediction his accuracy may be damaged by the same self-fulfilling dynamics.
Self-defeating tendencies necessarily reduce rather than increase the accuracy of directional and ordinal predictions, and again have equivocal but usually damaging effects on quantified nsidering both tendencies, self-fulfilling and self-defeating, we find that the weaker forms of prediction (directional and ordinal) are sometimes aided, sometimes damaged. Quantified predictions, long taken as the hallmark of mature science, are ordinarily terms of obtaining precision and high accuracy in quantified forecasts, the social sciences are therefore uniquely disadvantaged as a result of the existence of self-fulfilling and self-defeating tendencies in the social world as opposed to the natural world.
3.2 Self-referencing and methodological research
Van der Zouwen (1990) addresses a similar problematique, looking at the consequences of self-referentiality for research methodology in the social thodological research is defined here as research aimed specifically at the evaluation and improvement of the performance of research methods. This contribution deals with the following questions, especially within the area of survey research:
1) Can a feedback loop be observed between the available, and presumably valid, knowledge about the quality of particular methods of data collection on the one hand, and the way in which these methods are used on the other hand?
2) To what degree do public opinion researchers anticipate on the outcomes of their research when choosing and implementing their research methods?
3) What are the consequences of this anticipation for the possibilities to conduct methodological research? What are the consequences of the self-referentiality of the social system called "the survey industry" for methodological research aimed at improving the operation of that system?
In order to answer these questions, Van der Zouwen deals with a subset of methodological research: methods research, i. e. the development of particular types of justification for research methods, conceived as prescriptions and recommendations for the activities of researchers.
In experimental methods research, research efforts are focussed on problems like: the effect of a personal vs. a formal interviewing style on the accuracy and amount of information obtained from the interviewees; the effects of question wording on responses obtained: e. g. open vs. closed questions; adding "don't know" as a separate category; the order in which response categories are presented, ually, there is a "split ballot" design here, with respondents randomly assigned to the experimental conditions relating to either the questionnaire or the interviewers. This experimental design has optimal internal validity: differences on the dependent variables, i. e. the response distributions, can unequivocally be attributed to differences in the experimental conditions. However, the drawback of this type of research is that it excludes feedback from the dependent variables to the independent ones; in other words, self-referentiality cannot be observed with this type of research design. Moreover, the results are difficult to generalize: experiments with the wording of a specific question cannot be generalized to the wording of questions in general.
Non-experimental methods research deals, ex post facto, with the statistical relationships in current opinion research between the ways in which questions are formulated and the characteristics of the response distributions obtained; or with the correlations between characteristics of the interview situation and the behavior of interviewers and respondents. This type of research demonstrated, for example, that variance increases with the number of response categories, while the proportion "don't know" responses increases when this response category is explicitly offered by the interviewer.
While such results sound rather obvious, there is a tricky problem here: this type of methods research has to assume that the designers of the questionnaires, i. e. the public opinion pollers, were not aware of these wording effects while formulating the questions, or at least did not reckon with other words: that they did not formulate their questions in such a way that the response distribution obtained would meet certain criteria, like being not too skewed. If this assumption is invalid, then the causal interpretation of the correlations found becomes dubious: is it the question wording that has produced this particular response distribution, or are feedback loops resulting from (previous) research results on the researcher involved, i. e. is it rather the researcher's need for a particular kind of response distribution that has led to a specific formulation of the question?
Van der Zouwen tried to find an answer to this question in a research project where verbatim transcripts of six quite different survey projects were analyzed, making use of a cybernetic model of interviewer-respondent interaction. The hypotheses themselves are not at issue here. The interesting point is that, when testing these hypotheses, a number of unexpected statistical relations between variables turned up, which can best be typified as consequences of anticipation: those researchers who expect problems regarding the task-related behavior of their interviewers, or regarding the quality of the information to be gained from the respondents, will understandably take countermeasures. They design the questionnaire more carefully and in more detail than usual, spend much time selecting and instructing their interviewers, decrease the "distance" between them and the interviewers by intensive monitoring of the fieldwork, etc.
While such counter-control measures look plausible and quite rational at first sight, their effect is that the correlations between the independent variables (the above points: complexity, distance, experience and difficulty) and the dependent ones (i. terviewer behavior and response quality) cannot be interpreted anymore in terms of one-way causality. The sophisticated, anticipating researcher actually reduces the interpretability and thus the utility of non-experimental methods research.
Similar results were obtained in an ex post facto meta-analysis of some 20 research projects regarding the effects of the mode of data collection (mail survey, telephone interview, face to face interview) on the information obtained.
Van der Zouwen's conclusion from all these different research projects is not only relevant for all social science research - as opposed to research in the exact sciences - but deals also with the core problematique of the 1990 volume: to what extent is the accumulation of valid knowledge about social systems possible, given the fact that they are self-referential, for researchers who, either as individuals or as a group, are themselves self-referential systems?
Van der Zouwen stresses the paradox that it is precisely methods research which hampers its own further development, in two different ways: by an increasing standardization of research practice, and by anticipatory behavior of survey researchers. Standardization reduces the variance in the data collection procedures used which results in unreliable estimates of the effects of the methods on the research outcomes. And when there are differences with respect to the methods used, these are largely caused by the anticipation of the researchers on the effects of their methodological decisions. As these anticipations become more frequent and more adequate, the relations between the characteristics of the methods used and the data obtained, increasingly become artefacts of these anticipations.
3.3 Self-referencing and political systems
Anderson (1990) concentrates on political systems, and he stresses their intelligence rather than their self-referentiality. This enables him to draw parallels with developments in artificial intelligence (AI). He considers present theory about complex organizations and political structures rather weak, and feels this to be the case because it focusses on stasis rather than on change and dynamics. New intellectual tools need to be developed for theories of social processes, but they should be formal and should fit the substantive domains of application. Artificial intelligence, unlike other formal tools borrowed by sociology from other disciplines, has developed techniques specifically geared to the study of human action and human capacities.
Political systems or "polities", i. e. subsystems of societies that specialize in solving certain kinds of problems, conceptualized as sets of roles rather than individuals, have goals, beliefs and knowledge about themselves and their environment, and inference rules. Roles are conceptualized, in AI-terminology, as frames, i. e. hierarchical structures in which objects at each lower level are related to objects at the next higher level by the transitive "is a (class inclusion)" frames, the objects are described through declarative rules, expressing their properties and rules for action. Roles have memories; the role-specific memories are abstracted events connected to present action options, including defaults, through so-called Minsky C-lines (Chomsky and Miller, 1963). Although each role implies a unique perspective on the system itself and its environments, roles are organized into role sets, within which one may expect to find shared subclasses of beliefs.
Political systems obviously need the relevant and correct facts to solve their specific problems. However, they perceive selectively and anyhow filter information - even apart from the possibility of distorting it. Their problem, also one of the central problems in AI, is how to select among large sets of possibly relevant facts that subset which can be used to reason about or solve the problem concerned, and do this in the limited amount of time available.
Three processes determine how a problem-relevant subset of facts gets determined:
- insulation: the environments of political systems are stratified systems, where especially power and social distance are relevant variables;
- learning: generally not too fast, since politicians have a tendency to scan their environments for facts that fit with the repertoire of familiar issues and problems;
- self-reflection: political systems are self-referential and through self-reflection try to develop new insights.
While it is relatively arbitrary where one draws the boundaries of political systems, it seems useful to anyhow distinguish the decision-making inner political apparatus, those engaged in implementing the decisions, and the clientele to whom the decisions pertain. Politics is obviously always competitive, and even within authoritarian political systems there is always internal competition for influence and power, which forces the actors to engage in self-referencing, by taking note of the different points of view of allies and adversaries alike. This capacity for self-referencing is what constitutes the intelligence of a polity; the necessity to learn to shift between multiple perspectives (Bråten, 1986) helps to explore the hidden potential of the system's goals, rules, beliefs and capacities.
Anderson then analyzes the role concept and political goal structures, conceptualizing roles and goals in political systems as hierarchical structures of production rules. At the top of the hierarchy are those rules that express the system's ideology or belief regime, and the elite's strategic rules for the reproduction and extension of its arena of power. The next level contains the rules of policy formation and communication, and the strategic rules followed by the incumbents of the different roles in the structure. At the bottom of the hierarchy we find rules for the selection of actions on the system's environments.
A frame can now be more clearly defined as a hierarchical structure that consists of rules, relations, and abstract objects. A national political system can be viewed as a frame, with a hierarchy going down from the nation state via sectors and sector-objects to agents and perties defined by rules at the higher levels are inherited by the lower levels, and thus the "top rules" provide default assignments to the actions at the bottom level, although they can obviously be overridden by other instructions.
One of the problems with this type of modelling, as with all modelling, is that models of political systems require a high degree of resolution to be realistic - which makes them hard to comprehend and analyze. Moreover, frames were originally developed to model knowledge systems, where the rules at the different hierarchical levels are made to be consistent. However, it is typical for political systems that inconsistencies occur in the rule systems at all levels, while moreover these inconsistencies are strategically exploited by political actors. Also, rules in social science theory are context-dependent and undergo interpretation; they are not like the "if-then" statements in frame methodology, which carry precise and unambiguous instructions. An as yet unsolved problem is therefore how the frame model should be modified to fit the contextuality of human social rule use.
One should not forget that it is only events that occur in the environment; these events then give rise to a political problem through conceptualization. However, as Luhmann (1986) has also stressed, a political system can only recognize those problems that it is "programmed" to blems sometimes become important because the means for their solution exist. The way of defining the problem, the choice of alternative solutions, and the means to implement these, may be different in different political systems, with the result that national styles of problem-solving may develop.
The self-referentiality of the political system comes out clearly in the fact that a successful solution of a high-priority problem or the failure to solve such a problem will strengthen or weaken the relevant part of the political system. When a new problem makes itself felt, previous successes or failures will have caused a change in the system's state. Detailed case studies are necessary to demonstrate how precisely such succcesses and failures in problem-solving affect the internal structure of polities. We see a variant here of the problem analyzed by Van der Zouwen; the successes as well as the failures of previous efforts at solving specific political problems feed back on present-day efforts and tend to produce a standardization of the solutions deemed possible in certain cases, while political decision-making obviously thrives on anticipatory behavior. If a politician has learned his lessons well, he knows what manipulative stimuli to give in order to elicit specific reactions from the public, not unlike the methodologist who more or less determines the answer distribution of his respondents by using certain methods.
3.4 Self-referencing and participatory democracy
Robinson (1990) reports an interesting experiment designed to improve the effective organization of participatory democracy in a cooperative organization. Especially during the last decade, participation problems have appeared - and been documented - in socialist as well as capitalist general, these problems fall into two broad categories:
- how can ordinary members exercise control over management?
- how can ordinary members exercise control with management?
It turns out that concern with control over management leads to a concentration on cooperative structure, while concern with control with management leads to a concentration on means. While some structures and means (techniques) certainly have been successful in some instances, co-ops that fulfil democratic criteria, and are felt by their members to do so, are generally small, with less than 20 members. Larger cooperatives usually find techniques like frequent general meetings, job rotation, etc. impracticable. Their formal structures may be sophisticated, but fail to in-still feelings of involvement on the part of their members.
Member participation in decision-making at all levels of an enterprise - requiring both control over, and control with management - is problematic. The effective managerial monopoly on information excludes the majority of cooperators from anything but token supervision of ntrol with management is likewise almost impossible; the co-op members are not immersed in the information and value flows, but have other jobs to do. This managerial information monopoly is a self-reproducing process; the more information and power is centralized already, the greater becomes the ability of management to monopolize information and power even more. The result is the re-appearance of alienation, strikes, and management-labor conflict - even where ownership-labor conflict has been eliminated.
Robinson does see a way out of this dilemma. It is to recognize that agents, and especially collective agents, are only constituted and reproduced in relation to objects which they influence and control. If "the membership" is to become an agent, it must do so in relation to specific issues or projects. The problem now, under a primary management-worker role division, is that workers are not in a control nsequently, they do not produce and reproduce themselves collectively as "an agent". "Agents" have to engage in learning if they want to be effective. Now, the advantage of Robinson's approach is that this is fully recognized; member participation and worker control can be exploratory, experimental and partial. No one has the impossible task of knowing about everything; the objects of control can be changed. Yet, control is quite clearly there, and immediately so; this is not a partial or gradual process.
Basing himself on Bernstein's theory of economic return, and modifying its shortcomings - especially its demand that economic return should be directly related to what the workers themselves have produced - on the basis of Ashby's Law of Requisite Variety, Robinson then first discusses a production problem in one of the departments of a coooperative. He comes to the conclusion that control is only interesting when it is partial. Strategies of the department concerned have to reckon with the strategies of (inputs from) the other departments. Thus, a nested set of choices and outcomes emerges that can give rise to "meta-strategies": "if they do this, we'll do that" - and in this way an immersion in dialogue occurs that is characteristic for management. Clearly, this dialogue needs an object, or there would be nothing to discuss, and there would also be no basis on which an otherwise unstructured group, such as the membership at large of a cooperative, could form itself as an agent.
Robinson, recognizing the inherent limitations of general meetings in larger cooperatives, now developed a computer model that can serve as the forum of discussion in cases where such meetings are not practical. He implemented Ashby's definition of control on a number of computers, removing some restrictive assumptions from Ashby's account of control: the actions that determine the outcome are now themselves determined in the course of dialogue. This derestricted account of control is consistent with Howard's (1971) metagame theory and Pask's (1976, 1978) conversation theory, and is termed Ashby mapping.
Robinson illustrates his concepts with an experiment about wage negotiations between two different departments of a Ashby's original formulation (Ashby, 1956), two players made choices in a given order of play, whereby the intersection of their choices determined the Asby mapping, the players select strategies rather than choosing options, while moreover the rules governing the order of play are relaxed. The nature of the original game is changed by making the outcome conditional on acceptance by the players. Thus, the situation moves from the original context of regulation and disturbance to a realistic imitation of a bargaining process. Reacting to each other's strategies, the players may now develop symmetrical meta-strategies, even though their basic strategies are not symmetrical. Both strategies and meta-strategies are stated by making moves that lead to conditional outcomes, and thus are public events; both the moves and the responses to these moves are known to both players. An Ashby map can thus be seen as a form of representation in which restrictions on moves are relaxed to allow strategies, and restrictions on order of play relaxed so that outcome is conditional on symmetrical strategy or ing Ashby mapping, one can therefore move from an objective to a subjective control formalism; the outcome is no longer determined by the facts of the moves and the table of outcomes, but by the ability of the players to reach agreement.
Ashby mapping is thus a very useful technique to analyze self-referentiality, both of others and of oneself, in the dynamic context of an ongoing process of negotiation where implicit goals and values continually emerge; it is not primarily a way of representing an "objective reality", but rather an interpretation of the world by those who create it.
3.5 Self-referencing and health care planning
Hornung (1990) describes the construction of knowledge based systems for the analysis of development problems in health care planning, both at national and at regional and even local levels. We encounter here the same problem mentioned before: decision-making and planning in health care systems take place in between the extremes of spontaneous, intuitive decisions on the one hand, and decisions based on costly, time-consuming quantitative computer-assisted studies and operations research on the other gnitive systems analysis as understood here mediates between these two extremes; it integrates general theoretical knowledge about the structure of health care systems with the available empirical knowledge of experts and decision-makers about specific problems in specific countries or areas.
Health care systems are viewed as autopoietic (i. e. self-organizing and self-referential) sociotechnical systems, located at the intersection of social interaction systems, economic systems and natural (biological) systems. The fact that they are autopoietic implies, in a planning context, the need for an active and effective participation of all members of the system for which planning is done.
Self-reference enters at several levels:
1) The level of individual learning, exemplified by the interaction of the modeller with his cognitive model;
2) The level of generating group expertise about a problem, by an interaction between the modeller, the model, and other participants in a modelling or planning group;
3) The level of self-organization in the scientific subsystem, i. e. the interaction between the modeller or modelling group and the scientific community;
4) The level of management and policy-making in the health subsystem, a national system or even the international system, consisting of the interaction between modellers and decision makers at the corresponding levels.
In the context of self-reference and self-organization, computer-assisted tools of policy-making and development planning obviously have to meet two basic challenges, as has already become clear from Robinson, quoted above:
- they should allow for a participative planning process that takes into account the views and opinions (i. gnitive domains) of all the groups concerned;
- they certainly should not remain the exclusive domains of technical specialists who merely present the results to the decision makers, but should rather promote, and even require, interaction and feedback between the computer, the planner and the decision maker.
This is all the more important, as Hornung stresses, if one agrees with the thesis of Maturana and Varela (1980) that in any strict sense there is no flux of thought from one person to another, and that denotative functions of messages lie only in the cognitive domains of the this view, understanding results from cooperative behavior of two persons, and the participative interactive planning process envisaged here indeed implies such cooperation.
Hornung's qualitative systems analysis tries to utilize the advantages of both expert systems and simulation models, without the disadvantages of either. Expert systems can store a large quantity of knowledge about well defined problems. They can provide propositions for decision making, and explain how they arrive at them. The universe of possible answers is known beforehand; what is not known, however, is the answer in a particular case. Therefore, expert systems are very suitable tools for routine decision making, but not for policy planning and development planning which are concerned with non-routine decision making.
In simulation models, only the system itself and the principles of its dynamics are known, not the universe of possible events, i. e. the entire state space of the system. This becomes gradually known only when running the model and experimenting with it. Simulation models are excellent tools for communication, since models permit information transfer by making the other person do and experience things, instead of interacting by questions and answers. However, conventional simulation models do not provide a knowledge base in the detailed way that expert systems do, while on the other hand expert systems are usually not suitable for experimentation. Within the framework of his cognitive systems analysis, Hornung developed the so-called DEDUC-methodology for qualitative modelling, which distinguishes classificatory concepts (object structures), "if-then" statements (implications) and premises, and differentiating between an "orientor module" containing normative knowledge like the objectives, goals and values of the planner, and a "knowledge module" containing factual knowledge about the problem area, i. e. the internal model of the planner and, respectively, the experts.
Usually, cognitive domains imply both knowledge about reality and a normative assessment of facts. DEDUC models such cognitive systems and externalizes them in the form of computer models, such that the user is able to investigate his own externalized and objectified cognitive domain carefully and systematically. He can experiment self-referentially with a subset of his own cognitive domain turned into a computer model in order to resolve planning and policy problems. One of the advantages of Hornung's method is that models can be iteratively refined, so that construction can be started with a very simple model (rapid prototyping) which moreover can be constructed very quickly, since there is a hierarchical set of models such that the basic outline of systems models at lower hierarchical levels roughly follows from the models at the higher levels.
Contrary to classical cybernetics, which has stressed the importance of selecting the essential variables when engaging in model building, the autopoietic concept with its emphasis on dynamics insists on the importance of what Maturana and Varela have termed the essential relations.
Hornung then illustrates his modelling technique with a detailed example of the national system of Mexico and its different subsystems.
Like Van der Zouwen, he concludes that self-reference is at work on different levels. The science subsystem of a society brought forth cognitive systems modelling by means of which scientific knowledge is changing itself.
3.6 Self-referencing and psychological research
Hirsig (1990) and his colleagues set off for a journey into space. They developed the hardware and software for an extremely interesting experiment to collect reliable empirical data about emotionally-motivationally determined behavior, in which subjects had to operate a space craft simulator. Self-reports about emotions and motives are notoriously unreliable, affected as they are by factors like social desirability and moral-ethical value jective tests admittedly do yield empirical material, but it is hard to code and evaluate. The reliability and validity of the data remains doubtful. Research by means of interviews, questionnaires, ually tap imaginary emotional or motivational situations, and give ample opportunity for cognitive distortions. The simplest methods attempt to tap emotional states on the basis of physiological measures; but here too, interpretation of the data remains too unspecific for subtly differentiated research questions. Summarizing: the classical test-methodological conditions yield emotions only in cognitively processed form, while the direct manifestation of emotional and motivational behavior determinants presents problems in coding and evaluation.
Recent developments within the field of interactive TV and computer games suggest a way out of this dilemma; the high degree of ego-involvement observed in children and adults alike when playing these games suggests that interactive, computer-run experimental apparatus can be used in the empirical imvestigation of the emotional and motivational aspects of behavior.
Hirsig c. s. then set out to develop a systemic conceptual model for computer-aided, interactive experimental designs. This model contains the following elements and the interrelations between them: objective and subjectively perceived stimulus situation; the intended and actual actions of the subject and the subjectively experienced success in performing these actions; the reference values for the variables of experience and the difference with actual experience, and the possibility to modify these reference values; the behavioral goals and the possibility to modify one's behavioral strategies as well as one's perceptual filters.
This model is an operationalization of the basic hypothesis, derived from stability theory, that subjects dynamically regulate their actual experience by means of their actions, in such a way that it conforms to their reference values regarding this experience. As in Robinson's Ashby mapping, a basic premise is that subjects have a sufficient amount of internal variety - in this case variety in their behavioral repertoire and behavioral strategies - to influence the stimulus situation through their actions, thus stabilizing their experience by bringing the actual experience closer to the reference values for this experience.
The construct variable "subjectively experienced success" monitors the individual's longer term stabilization behavior; if it remains subjectively too low, the individual has three options to still stabilize his experience at a point near his reference values:
- modification of behavioral strategies, i. e. learning;
- modification of reference values assigned to the perceived situation, i. e. adaptation of expectations;
- modification of the subject's perception, i. e. modification of the input filter in such a way that no component of the subjectively perceived situation will continue to be significant for the critical experience dimension.
In setting up their experiment, Hirsig c. s. departed from the classic investigative paradigm in the field of attachment research: the opposed needs for security and exploration of small children within the context of conflict between their familiar, security-providing mothers on the one hand, and frightening but fascinating strangers on the other. The distances the children maintain to these two actors serve as indicators for the construct variables "security" and "arousal". For the present experiment, mother and stranger were of course substituted by more age-appropriate interaction partners. Subjects were trained to operate a space craft simulator, and were told the experiment was intended to test its efficiency. A home base with which radio contact was maintained served as a friendly, helpful partner, while a menacing, but stationary UFO took the role of a fascinating, but dangerous object. The cockpit was realistically designed with numerous instruments and control lights and gave a view into space by real-time computer-generated graphics.
Acoustically too, the situation was made as realistic as possible: home base became barely audible on the radio with increasing distance, while the roar of the UFO became deafening as it was approached. Warning signals from the on-board computer became louder whenever a meteorite approached the spacecraft. With meteorites, the subject could take several courses of action:
- home base offered unconditional help in any crisis situation, but in that case took over control of the space craft (supervision); with greater distance to home base, help took longer to arrive, but the subject's autonomy was greater;
- by changing course meteorites could be avoided;
- also, they could be blasted with the cannon.
When the subject had developed his own behavioral strategy in this respect (e. g. with individually different average distances kept to home base), he was confronted with an UFO of whose existence he had not previously been informed. And here again, individually characteristic behavior patterns developed, ranging from careful approach to outright flight. To check the core premise - that the stimulus situation, as measured by distance from home base and from unknown object, stands in a close and unambiguous relation to experienced security and experienced arousal - two physiological variables were measured during the flight: heart rate and galvanic skin response, while a hidden video camera recorded the subjects' facial dividual reference values for security and arousal were indicated by the mean distance towards home base, resp. the unknown object. A projective test administered after the experiment tapped the subjects' need for security and arousal; the results for the motivational scores on this projective test correlated highly with the results of the adventure experiment, and thus indicate the high external validity of this experimental approach.
3.7 Self-referencing and economic theory
DeVillé (1990) lands us firmly with our feet on the earth again. His contribution, entitled "Equilibrium versus reproduction", criticizes general equilibrium theory, considered by most economists to be an adequate theoretical description of a market-decentralized economy. Three important lessons can be learned from this critical analysis:
1) The effort to develop a theory of society which relies exclusively on methodological individualism presents unsolvable difficulties;
2) Once such methodological exclusiveness is abandoned, the sharp demarcation between economics and the other social sciences becomes untenable;
3) The construction of any adequate theory of society requires the elaboration of a dynamic theory of reproduction and transformation, combining human freedom and agency with structural constraints.
Economists often feel that neoclassical economics, since it is based on a well-developed and formalized rational choice theory, is the appropriate theoretical framework to deal with issues traditionally studied by sociologists; and some sociologists, especially those propounding rational choice theory, support this expansionist view. Reactions have come from economists and sociologists alike. Some economists, most notably the French "Regulation School", question the possibility to elaborate, on the basis of the neoclassical framework, a convincing macro-economic theory adequately representing the global functioning of a decentralized market economy. Sociologists have criticized the weaknesses of traditional economic models, where many sociological variables are either left out or kept exogenous.
DeVillé has developed, with amongst others Burns and Baumgartner (1982, 1986), the "actor-oriented systems approach", which is based on two key ideas:
1) that individual (or collectively structured actor's) behavior is fundamentally strategic, and therefore does not take its environment as given, as parametric;
2) that society can be conceived as a multi-level, hierarchically structured system; it can be viewed this way because of the existence of a complex set of rules (i. stitutions as "rules of the games") that dominate each other according to, among other things, the power relations between social actors.
It then follows, paradoxically, that economic actors truly compete against each other precisely by trying to escape from the state of affairs defined by economists as "perfect competition". They do so also by engaging in socio-political competition, in ways that might even contradict the standard behavioral assumption of profit petitive struggles are therewith structured as multi-level games. Assuming that indeed a more dynamic approach to competition requires quite different behavioral assumptions, it becomes difficult to maintain the present sharp dichotomy between economics and sociology.
The key issue in economic theory is to provide an adequate theoretical description of the global functioning of a decentralized market economy. Since Adam Smith, economic theory has tried to answer the question: can the pursuit of self-interest by free and independent agents through voluntary and not a priori coordinated exchanges result in order rather than anarchy? Neoclassical general equilibrium theory (NCGET) claims to be able to provide an affirmative answer. However, as DeVillé stresses, this claim is based on a number of unrealistic assumptions, on an equilibrium method which fails to clarify how the behavior of individuals in a non-equilibrium state of the system will spontaneously bring the system into an equilibrium state, and in a resulting ideal state that is no more than a thought experiment with a normative potential implication: if and only if the world would be like the one implied by the unrealistic assumptions made, then such a world would be characterized by "order".
NCGET started by postulating a price adjustment rule determined by the market excess demand functions: if, at a certain price level, there is an excess demand, prices will rise until an equilibrium is reached. However, since perfect competition is assumed, prices are parametric (i. e. non-influencable) for the agents operating in the market. To therefore answer the question of who then determines the price if no single actor can, an "auctioneer" (some centralized device) had to be postulated. This auctioneer announces prices of several commodities, then calculates excess demands at these prices given the answers received, and then adjusts the prices. However, during this process, no effective trading, consumption or production can take place.
Later theoretical developments relaxed these rather absurd and unrealistic assumptions; however, when the auctioneer and his actions are removed from the theory, no convergence from a non-equilibrium state could be proved, while even the dynamic interactions among agents were difficult to conceptualize. If one keeps the auctioneer as part of the theory, his task becomes more complicated: apart from implementing the price adjustment rule, he additionally has to decide upon and enforce a rationing scheme, allocating among buyers commodities in excess demand, and among sellers commodities in excess supply. Thus, on a more general level, NCGET demonstrates the difficulties inherent in the construction of a truly dynamic theory of social systems.
In the actor-oriented systems approach, the price system is a meta-level structure of the highest possible order, acting as a constraint imposed upon all individual agents, and beyond their reach. The adjustment principle is the "system need", since it is the necessary structural requirement for its realistic systems models of dynamic social systems, one has to be careful not to attribute knowledge to agents within the model (e. g. about prices in equilibrium states) that can only be acquired by the model designer. The rationality of actors also has to be defined differently than in the NCGET models; Simon's concept of bounded rationality, based on the realization of limited availability of information and equally limited computational abilities of human agents, comes closer to the mark here.
DeVillé then sketches the outlines of an alternative research program, roughly defined as an actor-oriented evolutionary theory of a decentralized market economy. No a priori equilibrium assumptions are made here. Economic agents operate in a complex environment, characterized by "radical uncertainty", and their behavior could be described as "strategic decision-making based on bounded rationality". In other words, there is no optimal strategy; "satisfactory" strategies are determined according to multi-level hierarchized criteria: e. g. "at least survive, possibly expand, or even diversify". Transactions occur through the confrontation of these strategic behaviors with bargaining procedures or rules. Such again hierarchicallly structured rules, with varying degrees of generality (from micro to macro), can take the form of explicit rules or institutions when they are beyond the range of individual decision-making.
NCGET makes a clearcut distinction between a theory of the existence of equilibria and a theory of convergence towards those equilibria which is secondary both conceptually and in terms of the sequence of research tasks to be performed. However, there is no reason to limit oneself to the study of economic processes that converge towards NCGET equilibria. Stability of economic systems - and social systems in general - could also be conceptualized as states of the system where its core structure and processes reproduce themselves, although micro-units like economic agents might find themselves in non-optimal situations.
What is needed is an economic theory of institutions, explaining what is the minimal set of institutional mechanisms necessary for the theoretical description of the dynamic processes of a capitalist, decentralized market stitutions should not be dealt with as exogenous to the system; it should be recognized that they emerge from interactive processes among agents, while at the same time posing enduring constraints on individual behaviors, and thus shaping and structuring the interactive processes between these individuals.
The neo-classical equilibrium method should be abandoned; not because it is not valid in itself, but because it imposes an untenable dichotomy between static theories and dynamic theories, between the theory of equilibrium states and the theory of processes.
Institutions can be conceived as "equilibrium solutions" of coordination problems that cannot be solved through market processes. However, in the reproduction method advocated by DeVillé, an equivalent has to be found for the equilibrium conditions in the equilibrium method. Such an equivalent might be described as follows: a system is in a process of reproduction when the institutional framework and the selection processes it entails guarantee that possibly non-optimal but satisficing situations prevail for the "boundedly rational" individual (or collectively organized) agents - in such a way that they will not be induced to engage in strategic behavior in an attempt to change this institutional framework, but on the contrary will accept to bear the burden of its maintenance costs.
3.8 Self-referencing and economic models
Midttun (1990) also deals with the inadequacy of much of economic theory, but with more stress on the necessity for policy-makers to select sufficiently sophisticated, yet workable economic models to guide their policy decisions. The problem is that economic theory has developed ideal-typical constructs with a high degree of internal consistency and strong normative power, which however is bought to a large extent at the expense of realism. Often, existing economic models have a limited scope, while actor and structure assumptions make for considerable deviation from the "messy" real world. Advice sought from such idealized and limited models of the economy may be right within their limited scope, but nevertheless gives wrong guidance for the political economy as a whole.
Here, the paradox of self-referential systems, as analyzed specifically by Van der Zouwen for the case of methods research, comes to the fore again: one of the reasons for the above is that models may indeed be corroborated or falsified by the very policies based on policy advice derived from them. Applying Ashby's Law of Requisite Variety, one can argue that the political governance system must have models of the political economy that are sufficiently rich to map the relevant variety found in it, if at least it is to exercise successful control.
For pragmatic purposes, economic modelling is therefore faced with a difficult tradeoff between realism and analytical simplicity. The more extensive the policy ambitions, the stronger the need for comprehensive models of the political economy to guide policy decisions in a "collectively rational" way. But the more comprehensive the models become in terms of including the multidimensional complexity of interacting political and economic processes, the less founded is the policy advice that can be derived from them. Midttun then devotes his contribution to discussing this dilemma of the tradeoff between realism and analytical simplicity in three models of political economy:
- neoclassical marginalism with its paradigm of the self-regulating market (roughly DeVillé's NCGET);
- Keynesian macro-economics, with its paradigm of the planned mixed economy;
- negotiated political economy, which contains a number of post-Keynesian political science and political sociology critiques (approximately DeVillé's reproduction method).
The neoclassical paradigm of the self-regulating market is essentially a model of the parametric self-governance of the economic system, where a stable state is reached unintentionally through the interaction of economic actors within a given set of market rules. The Keynesian and later macro-economic models are generally a combination of the neoclassical model and a model of economic governance through rational state intervention. The negotiated political economy perspective, finally, displays models of competitive multiple-centered governance, where economic actors engage in economic transactions, but also deliberately organize to reshape market conditions and transaction rules.
These three models can be seen as successive steps in increasing systemic complexity, ranging from single-level transaction systems to multi-leveled and multiple-centered systems. The self-referential character of complex systems poses severe limitations on the possibility to comprehensively model the political economy; moving from simplistic to complex realistic modelling implies also a move from fully specified optimal solutions to conditionally specified sets of alternatives. Each of these three successive models implies a widening of systemic boundaries or field of reference; neoclassical economics tends to restrict itself to pure market processes, Keynesianism shifted from a micro - to a macro-orientation and included a rational state playing an important role as an external regulator of the socio-economic system, while the negotiated political economy perspective broadens economic analysis to encompass a number of both political and administrative elements, thus creating more fuzzy boundaries between economic and other social systems.
By making different extensions of their field of reference and varying the "tightness" of their a priori analytical assumptions, neoclasssical economics, Keynesian macro-economics and negotiated political economy delineate different aspects of the political economy and are faced with different sets of methodological problems. Neoclassical economics is based to a large extent, for example, on assumptions of closed systems with fixed causal structures; as in much of social science, the constancy of causal relations is taken for granted, and one searches for laws of social behavior. However, as theories of the political economy become more inclusive through the widening of the systemic boundaries or the field of reference, as well as through the loosening of analytical assumptions or the inclusion of a greater degree of system multi-dimensionality, the analyst is increasingly faced with the complex and morphogenetic character of social systems - which precludes predictions about social processes and events in any strong sense. Keynesianism assumed a multiplier effect of the state's role in stimulating consumer demand and supplementing private investment.
This assumption was based on another implicit assumption: i. e. that the state has sufficient internal control over its own implementation process, and sufficient protection against encroaching particularistic interests. The problems of economic governance in the last two decades - characterized by stagflation, stagnant economies and expectation crises - have served to underline the unrealistic nature of the above assumptions. As the public sector became large enough to influence the economy, welfare policy developed as well and turned out to be subject to particularistic claims; the close coupling of the partially contradictory goals of macro-economic stabilization and welfare policy thus served to tie up the freedom of the state to efficiently pursue a macroeconomically motivated policy.
The negotiated political economy perspective contests the Keynesian assumption of a collectively rational state, unbound by interest conflicts within the economy in its internal reality, such interest conflicts abound: the regulatory state apparatus is likely to act suboptimally from the viewpoint of collective rationality of society as a whole, as a result of biased political interest aggregation on the input side and implementation problems on the output side. Governance should be viewed therefore as a multiple-centered and only partially coordinated system, where the state has to govern the economy through negotiations with other order to become more realistic, the Keynesian model therefore has to be enlarged with a set of organizations representing market actors, and a negotiating arena of competing regulatory agents supplementing and/or contesting state governance.
A problem in this respect is that such a negotiated political economy tends to over-allocate support to well-organized groups representing particularistic interests. The reasons why should be clear:
- While the interest groups have large gains and relatively small costs of mobilization, the inverse situation holds for society as a whole. Targeted public support paid out of public funds results in a considerable increase in welfare for each member of the target group at a relatively modest total cost for the system as a whole. On the other hand, to mobilize efficient support for a collectively optimal allocation of resources, if possible at all, is relatively nsequently, both the distribution of payoffs and the costs of efficient mobilization thus favor particularistic interests.
- On the implementation side, organizational inertia, the autonomy of bureaucracy and the penetration of political interests invalidate the macroeconomic assumption of a neutral and rational state. Specialized bureaucracies and private sector representatives share common assumptions, priorities and procedures, such that the implementation of political decisions may serve to further underline the bias towards particularism created on the political input side.
For Midttun then, self-referentiality poses limits to modelling, as also for the authors described the negotiated political economy model, predictions may severely affect the very operations of the economic behavior that is being modelled. When politico-economic modelling becomes closely coupled to political decision-making, and particularly when the policy process itself is incorporated in the model, modellers face the problem that they have to make pronouncements about the actors' expected behavior in a situation where the actual behavior of the same actors may be heavily influenced by the cognition gained through the model and its forecasts.
This problem of self-reactivity refers to a chain of linkages between information, cognition, organization and action. If information resulting from the forecast is fed back into the cognitive models of actors who participate in the system that is being forecasted, and if moreover those actors are organized in such a way that they can act on the basis of this information, they will then potentially be able to alter their behavior as a result of the nsequently, the mapping of the system must now also include mapping of self-reactive properties - and the reactions to these reactions, etc. - and all of these must be handled within the model, which logically ends up in an infinite regress, and necessitates an increasingly complex model that is vulnerable to validity and reliability problems.
Compared to these problems inherent in efforts to model a negotiated political economy, neoclassical economics - with its strong actor and structure assumptions and its restrictive boundary specification - certainly has the virtue of simplicity, and maintains an objective and logical basis for predictive knowledge. However, it is bought at the expense of its realism and its ability to cope with multi-level complexity. Keynesian macroeconomics was already able to deal with a richer set of properties of the real world by giving up the strong thesis of self-regulatory optimization. The negotiated political economy paradigm even does not assume rational optimization at the regulatory level, and thus makes for more realistic insight, though less possibilities for prediction.
While admittedly the cost of this analytical richness has been the loss of the "shortcut to predictive knowledge", the strength of the more complex models of the negotiated political economy perspective lies in their heuristic function. Outcomes may not be specified in unambiguous optimality criteria, but will have the character of probabilistic, or even possibilistic or conditional statements, dependent on rationality criteria, structural assumptions, assumed goals and values of different actor segments.
4. Epilogue
In the preceding section, eight recent examples of innovative sociocybernetic research have been discussed. These examples clearly demonstrate the applicability of sociocybernetics to a wide variety of subjects within the social sciences. Moreover, they stress its specific characteristics as mentioned in section 2 - characteristics which set it apart from most social science research, more often than not in a positive way. Finally, they clarify the direction in which sociocybernetics has been developing: from originally rather mechanistic, first order cybernetics to an increasingly sophisticated second order cybernetics, with all its implications like autopoiesis and self-reference, which make it eminently suitable for the subject matter of the social sciences: human individuals and groups.
Nevertheless, much still remains to be desired: most research in the field is still done by cyberneticians and systems theorists rather than by social scientists, while it is generally of a theoretical nsequently, the authors consider it desirable to stimulate more empirical research, especially by social scientists. Up till now, the sociocybernetic approach unfortunately has gained few adherents in the mainstream social science community, which also barely makes use of its results. Perhaps this is the case because, on the one hand, it is still relatively unknown, while on the other hand it is rarely a part of social science curricula. Another reason may be the unwarranted reproach of implicit conservatism, made by generally liberal social scientists, discussed in the beginning of section 2.
Whatever the cause, however, there is a clear task for sociocyberneticians: to convince the social science community of the value of their approach.
References
1. Ashby, W. R., An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & Hall, 1956.
2. Baumgartner, Thomas, and Tom R. Burns, "Wealth and poverty among nations: a social systems perspective on inequality, uneven development and dependence in the world economy". Pp. 3-22 in: Dependence and Inequality, op. cit.
3. Baumgartner, Thomas, Tom R. Burns, Philippe DeVillé and Bernard Gauci, "Inflation, politics, and social change: actor-oriented systems analysis applied to explain the roots of inflation in modern society". Pp. 59-88 in: Dependence and Inequality, op. cit.
4. Baumgartner, Thomas, "Actors, models and limits to societal self-steering". Pp. 9-25 in: Sociocybernetic Paradoxes, op. cit.
5. Bråten, S., "The third position: beyond artificial and autopoietic reduction". Pp. 193-205 in: Sociocybernetic Paradoxes, op. cit.
6. Buckley, W., Sociology and Modern Systems Theory. Englewood Cliffs, NJ, 1967.
7. Chomsky, N., and Miller, G., "Introduction to the formal analysis of natural languages". In: R. D. Luce, R. R. Bush and E. Galanter (eds.), Handbook of Mathematical Psychology, Vol. II. New York: Wiley, 1963.
8. Geyer, R. F., and van der Zouwen, J. (eds.), Sociocybernetics: an actor-oriented systems approach. Two volumes. Leiden: Martinus Nijhoff, 1978.
9. Geyer, R. F., and van der Zouwen, J. (eds.), Dependence and Inequality: A Systems Approach to the Problems of Mexico and Other Developing Countries. Oxford: Pergamon, 1982.
10. Geyer, F., and van der Zouwen, J. (eds.), Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Self-steering Systems. London: SAGE, 1986.
11. Geyer, F., and van der Zouwen, J. (eds.), Self-referencing in Social Systems. Salinas, CA: Intersystems Publications, 1990 (a).
12. Geyer, F., and van der Zouwen, J., "Self-referencing in social systems", pp. 1-29 in: Self-referencing in Social Systems, op. cit. (1990b)
13. Gierer, A., "Systems aspects of socio-economic inequalities in relation to developmental strategies". Pp. 23-34 in: Dependence and Inequality, op. cit.
14. Howard, N., Paradoxes of Rationality: Theory of Metagames and Political Behavior. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971.
15. Lilienfeld, R., The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. New York: Wiley, 1978.
16. Luhmann, N. "The autopoiesis of social systems". Pp. 172-192 in: Sociocybernetic Paradoxes, op. cit.
17. Maturana, H. R., and Varela, F. J., Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dordrecht: Reidel, 1980.
rton, R. K., "The self-fulfilling prophecy". Antioch Review, 1948, Vol. 8, 193-210.
19. Pask, G., Conversation Theory. Amsterdam: Elsevier, 1976.
20. Pask, G., "A conversation theoretic approach to social systems". Pp. 15-26, vol. I in: Sociocybernetics, op. cit.
21. Prigogine, I., and Stengers, I, Order out of Chaos. New York: Bantam, 1984.
22. Zeeuw, Gerard de, "Social change and the design of enquiry", pp. 131-144 in: Sociocybernetic Paradoxes, op. cit.
RC51 main page \ Go FG page
Felix Geyer
Snailmail: Van Beeverlaan 8A, 1251 ES Laren, The Netherlands
Phone: Fax:
Email: *****@***nl
Your commentsChaime Marcuello. Webmaster
created: january 27, 1999
В Facebook никто не считает друзей, не любят «подмигивания» и ставят только 20 лайков к посту
Автор: Марина Пурим \ Опубликовано 17 февраля:14)
Использовано - http://www. *****/facebook/article/49624
Американские ученые выяснили, чем сейчас живут пользователи самой большой социальной сети в мире
Пользователи в социальных сетях больше берут, чем отдают. К таким выводам пришли американские ученые из Pewinternet, которые провели исследование на группе пользователей Facebook.

Только 40% пользователей самостоятельно ищут друзей и отправляют им запросы. Гораздо больше людей такие запросы получает — их 63%. Средний пользователь Facebook может рассчитывать на 20 лайков к своему сообщению, но сам поставит только 14 лайков за месяц. Он отправит 9 писем, а получит 12. В общем, какую сферу социальной жизни ни возьми, пользователи больше берут от своих друзей, чем отдают им.
20% юзеров получают комментарии к записям каждый день. 5% опрошенных оказались популярными пользователями соцсети и получали до 100 комментариев к постам за месяц. Пожалуй, самым непопулярным действием является так называемое подмигивание, которое можно сделать виртуально в Facebook. Этим пользовались только 6%, и 7% получили такие подмигивания за месяц.
12% пользователей отмечают кого-то на фото, оказывается, это тоже не такое уж популярное занятие. Но уже 35% были отмечены на фото других. При этом часть пользователей далека от средних показателей и «портит» статистику, потому что они сильно активнее, чем другие, признают ученые.
Средний пользователь Facebook находил 7 друзей в месяц, которые ответили ему дружбой. Причем мужчины охотнее отправляют заявки подружиться, а женщины их охотнее принимают. Нажимать кнопку Like — ожидаемо самая популярная активность в социальной сети. 33% опрошенных пользователей нажимали ее как минимум один раз за месяц, 37% — раз в неделю. Любопытно, что женщины пишут обновления статуса чаще, чем мужчины.
Пользователи недооценивают размер своей аудитории в Facebook, попросту говоря — не знают, сколько точно у них друзей. У среднего пользователя их 245. Интересно, что, чем больше друзей у человека, тем он больше вовлечен в социальную сеть и более активен там. Он пишет больше обновлений статуса, отправляет больше сообщений, чаще отмечает знакомых на фотографиях, принимает и отправляет запросы о дружбе и т. д.
Исследователи также выяснили, что социальные сети в целом позитивно влияют на настроение пользователей. 68% опрошенных, например, рассказали, что у них был опыт, когда общение с друзьями в рамках социальных ресурсов улучшило их настроение. 61% считают, что другие люди, благодаря соцсетям, становятся им ближе.
======================================================================
Что последует за вторым уровнем кибернетики
Ссылка - http://www. gwu. edu/~umpleby/recent_papers/2001_What_Comes_Russian. pdf
Тетрасоциолоигия и социокибернетика: к сравнению ключевых понятий
Ссылка -
Дизайн интеллектуальных направлений
Ссылка - http://www. gwu. edu/~umpleby/recent_papers/2006_Design_of_Intell_Movements_Russian. pdf
Сетевые войны: сражения эпохи постсовременности
Журнал "Политический класс": Тезисы о сетевых войнах. Введение в область новой теории войны
http://korovin. org/?page=332&act=showme&what=82
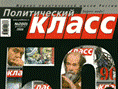
Сетевые, или как их ещё называют, сетецентричные войны представляют собой новейшую технологию захвата территорий, отторжения пространства в свою пользу, перевода его под свой контроль, частным случаем чего является, например, смена правящего режима в государствах. Особенностью же сетевой операции является то, что она осуществляется преимущественно без использования обычных вооружений.
В этом заключается главная цель сетевых войн, являющихся новейшей разработкой Пентагона – увеличить пространство контроля не вовлекаясь, по возможности, в открытую «горячую» фазу противостояния с противником, хотя она не исключена.
Детали этой разработки не разглашаются открыто, а информация о ней распространяется только в специализированных закрытых сообществах и экспертных комьюнити. Однако, эта технология является закрытой лишь в определённой степени, как всё в Америке. Американцы - очень откровенные люди, которые исходят из того, что за пределами американского экспертного сообщества, а уж тем более за пределами самой Америки живёт весьма тёмный люд. И если человек не относится к элитарному экспертному сообществу, то он не способен понять сути описываемой стратегии, а если и способен, то в этом случае, очевидно он представляет какой-либо маргинальный интеллектуальный кружок и не может повлиять ни на принятие судьбоносных решений, ни, тем более, на ход истории, а значит его доступ к «идеям» не опасен. Остальное же, «не интеллектуальное» население планеты тонет в потоках мусорной, ничего не значащей информации, и не в состоянии выделить из неё что-либо ценное. Именно по этой причине американские стратеги описывают свои разработки со всей американской откровенностью во множестве научных книг, статей, на специализированных сайтах, в других источниках, справедливо полагая, что если это и будет кем-то прочтено, то только узкой прослойкой посвящённых специалистов. Для большинства же всё это просто не представляет интереса, ну а политические элиты стран-соперниц вряд ли способны всё это адекватно воспринять без специализированной экспертной поддержки. Именно поэтому Збигнев Бжезинский спокойно выпускает свои труды, где открыто описывает стратегии развала постсоветского пространства, а затем России, которые сегодня реализуются. Мы же, открывая книжку Бжезинского, с удивлением обнаруживаем, что всё, что с нами произошло в начале 2000-х, Бжезинский, оказывается, описал ещё в 1997. И сегодня описанное им в конце 90-х, продолжает происходить на наших глазах.

Технология т. н. «цветных революций», являющаяся частным случаем, разновидностью сетевых операций, называемых ещё Операциями базовых эффектов, - тоже, в общем-то, не являлась секретом и была описана Джином Шарпом ещё в конце 1980-х. По его пособию «От диктатуры к демократии» была разрушена Югославия, а в середине 2000-х годов мы с удивлением обнаружили реализацию этой же технологии на постсоветском пространстве.
Исходя из того, что все эти модели в лучшем случае становятся достоянием маргинального меньшинства, которое аппаратно ни на что в реальной политике не влияет, максимум «раскрывая» всё это на своих маргинальных Интернет-ресурсах, американцы совершено не беспокоясь относительно судьбы подобных разработок, особо их не пряча, но и не выпячивая, шаг за шагом реализуют сетевые стратегии против своих геополитических противников, ставя их перед фактом уже свершившихся процессов.
Таким образом, с одной стороны, информация о технологии сетевых войн является довольно эксклюзивной и относительно закрытой, и в том виде, в котором она доходит до России, учитывая перевод, трактовку и среду восприятия – эта информация во многом теряет свой изначальный смысл, и её распространение в узких кругах представляется для американцев неопасной. С другой стороны, наибольшую ценность здесь представляет именно трактовка, популярная дешифровка, толкование в доступном стиле сути и последствий этой технологии.
Разработанная Офисом реформирования секретаря обороны вооруженных сил США, под руководством вице-адмирала Артура Себровски, эта технология относится к войнам шестого поколения. Фактически эта разработка относится к разряду именно военных стратегий, т. к. направлена на то, чтобы осуществлять захват власти в государствах и ставить их под свой контроль так, чтобы противник узнал о своём поражении только после того, как оно уже состоялось. Не смотря на то, что сетевые войны в основном ведутся без использования обычных, классических средств вооружения, без прямого использования армии и ставших привычных нам за последние столетия технологий проведения военных операций, возможны и горячие фазы сетевой войны. Силовое воздействие осуществляется в том случае, когда источники сопротивления с одной стороны несистемны – т. е. их нельзя устранить сетевым способом, с другой стороны – маргинальны, фрагментарны и незначительны. Например, разрозненные небольшие террористические группы, случайным образом разбросанные по значительной территории и не имеющие общей стратегии и координации действий между собой. Однако даже при этих условиях силовая фаза сетевой операции проводится лишь в крайнем случае, в основном когда значение имеет временной фактор и необходимо ускорить завершение операции. Вместе с тем, важнейшим элементом сетевой стратегии является «стравливание» групп противника между собой, провоцирование вооружённых конфликтов, столкновений и прочих силовых и насильственных действий на территории противника.

Три парадигмы войны
Говоря об отличии сетевых войн от обычных, необходимо учитывать три фазы развития человеческой истории: аграрную, индустриальную (промышленную) и постиндустриальную (информационную). Им соответствуют три социальных формата - это премодерн, модерн и постмодерн. Нынешнее, современное нам общество всё больше постмодернизируется, соответственно, технологии модерна, то есть индустриальные технологии, которые реализовывались в ведении обычных войн, где доминируют армии, военная техника, численный состав, - уходят в прошлое. Постиндустриализация современного мира и постиндустриальные технологии делают акцент на передачу информации и здесь ключевым моментом, ключевой функцией, областью передачи и средой распространения этой информации является сеть. Сеть – это уже явление постмодерна.
Всё это необходимо понимать для того, чтобы оценить, насколько устарели индустриальные подходы ведения обычных войн, а следовательно, для того, чтобы адекватно представить себе, какова роль сугубо индустриальной системы т. н. ядерного сдерживания, на которой покоилась безопасность двухполярного ялтинского мира эпохи модерна. Старая поговорка о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне, приобретает здесь действительно жизненно-важное значение. Без осознания сути «новой теории войны» можно просто забыть о понятии безопасности, так же как и о возможности сохранения суверенитета.

Многочисленные примеры, в том числе и из новейшей истории, доказали, что Америка ни при каких обстоятельствах не пойдёт на ядерное обострение до тех пор, пока у России хотя бы номинально остаётся её ядерный потенциал, и пока она даже гипотетически способна нанести ответный ядерный удар. Так же исключено любое прямое военное столкновение основных сил НАТО с российской армией, т. к. это теоретически может повлечь за собой, в случае тенденции к поражению, ядерный удар со стороны России по территории США или стран участниц блока НАТО. Однако, вместе с этим, совершенно не исключены ситуации непрямого столкновения в локальных конфликтах, либо «обоснованные» локальные удары по территории России в случае, если это будет вызвано необходимостью подавления локальных точек сопротивления небольших террористических групп, что записано в концепции национальной безопасности США. В этом случае ядерный ответ со стороны России является несоизмеримым, а значит маловероятным. Ну а главным инструментом горячей фазы сетевой войны является «спровоцированный» военный удар по территории противника (или по территории, находящеёся под его стратегическим контролем) со стороны третьей силы. Данный метод ведения войны вытекает из стратегии «Анаконды», активно применяемой США, на чём мы ещё остановимся подробнее в следующих главах. Примером же такого «спровоцированного» военного удара стало нападение Грузии на Южную Осетию, сетевой операции США против России, в результате которой были созданы т. н. граничные условия для военной агрессии на территорию, стратегически подконтрольную России, без прямой увязки с американским центром принятия данного решения.
Таким образом, спокойствие относительно безопасности России, связанное с надеждой на наш «ядерный щит», доставшийся нам из эпохи модерна, при наличии постмодернистской технологии сетевых войн, является достаточно мнимым. Это всё равно, что надеется на свой арбалет или тугой лук с острыми стрелами в ситуации, когда противник готовит авианалёт эскадрой сверхзвуковых бомбардировщиков. Вооружения индустриальной эпохи так же проигрывают перед постиндустриальными информационными стратегиями, как воинство эпохи премодерна перед лицом индустриальных армий. Кавалерия, конечно, принимала участие во Второй мировой войне, но не стала решающим фактором победы.
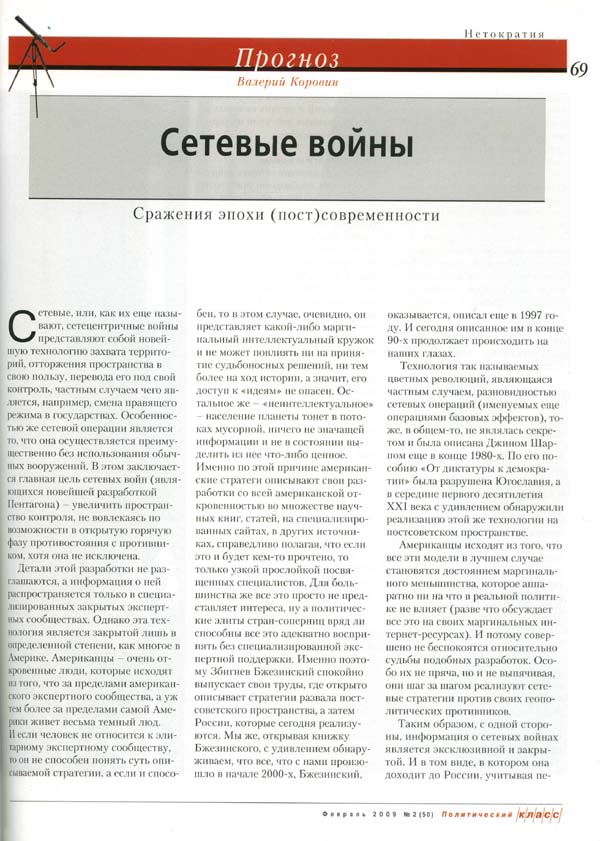
Геополитическая подоплёка сетевой войны
В своих действиях американцы всегда исходят строго из законов геополитики, а основной константой геополитики является противостояние цивилизации суши, которую сегодня представляет Россия, и цивилизации моря, оплотом и доминантой которой являются США. Геополитика неотменима для США, они исходят всегда только из геополитических принципов, поэтому геополитическая константа присутствует в каждом их шаге и в каждом конкретном действии. Сетевые войны - это та технология, которая логически вытекает из геополитики. Основной угрозой США, исходя из геополитической логики, является Россия - как большое пространство, соответственно, их основной задачей является уменьшение этого большого пространства путём отторжения территорий в свою пользу и разделения его на части.
В геополитике пространство имеет решающее значение, порой даже вне зависимости от его качества – наделённости полезными ископаемыми или плодородными землями, хотя с точки зрения «сакральной географии» - предшествующей геополитике, качество пространства имело огромное значение. Россия является крупным геополитическим субъектом, в геополитических терминах – большим пространством, а значит она представляет угрозу для единоличной американской доминации. Цель американской «Империи» – разделить это большое пространство на части, на как можно более мелкие фрагменты. И здесь все средства хороши: начиная от идеологических диверсий, морального разложения, холодной войны, экономической блокады, и заканчивая прямыми военными ударами. Сетевые войны лежат где-то посередине.
Информация - как мусор
Сетевые войны ведутся там, где существуют сети, существование которых, в свою очередь, возможно лишь на фоне информационного пространства. Особенностью информационного пространства является абсолютная возможность производства, передачи и восприятия информации в любом количестве и с максимальной скоростью. В этих условиях наиважнейшим фактором становится качество информации. Производимый в современных условиях объём информации девальвирует её ценность, утомляет сознание, делает восприятие всего производимого объёма информации невозможным. Тем более невозможной становиться оценка информации, её критическое осмысление и использование. Современный человек в состоянии воспринять информационные потоки лишь урывочно, а акцентировка сообщений осуществляется объёмом потока информации на «заданную» тему. Однако всё это является идеальной средой для проведения сетевых операций, или как их ещё называют – Операций базовых эффектов.
Информация – это, отнюдь, не весь тот мусор, который получает человечество из СМИ и Интернета. «Засорение эфира» осуществляется умышленно. Точнее, умышленно создаются условия для того, чтобы поток информации постоянно усиливался, а способность усвоить и критически осмыслить полученную информацию каждым отдельным индивидуумом, соответственно, снижалась. Это необходимо для того, чтобы вычленить из общего потока информацию, действительно имеющую хоть какую то ценность, было бы достаточно сложно. Степень ценности в данном случае определяется возможностью полученную информацию использовать. В этой замусоренной среде и осуществляются сетевые операции, а именно, информация, имеющая стратегическое значение, передаётся… по открытым каналам. Прямо в «эфир», через официальные обращения, выступления, статьи в крупнейших СМИ, открыто по сети Интернет. Задания для агентуры в сетевой войне передаются не шифровками, а прямо в «открытый эфир». Их может услышать любой, но вычленить из общего потока информации и правильно расшифровать может не каждый.
Америка является производителем огромного количества информации, но только те, у кого есть определённые коды, некие ключи для дешифровки, способны правильно ей распорядиться. Для определения этих, своего рода, «решёток», сквозь которые пропускается вся информация и отсеивается информационный мусор в новой теории войны используется понятие сетевой код. Это именно та матрица, с помощью которой можно сипарировать информацию, разделить на потоки, систематизировать, отделить ценное, проанализировать полученное и использовать по назначению. Сетевой код - это та решетка, которая вычленяет имеющую ценность информацию из всего остального мусора, прокачивая её дальше, по сети.
Структура «сети»
Сетью является любая среда, через которую можно прокачать нужную информацию, заставив её работать. Качественной, правильно настроенной сетью является та, которая воспроизводит «нужное», предсказуемое, или, по крайней мере, предусмотренное действие, вписанное в общую стратегию. Контентом наполнения сети является вычлененная из общего информационного потока с помощью необходимого сетевого кода информация. При этом сетевой код может быть как существующим – т. е. сложившимся в процессе формирования сети, так и сформированным – т. е.привнесённым искусственно в уже сложившуюся сеть. Сформированный сетевой код представляет собой своего рода перепрошивку сети, и осуществляется таким же образом, каким, например, перепрошивается мобильный телефон.
В реале сети обычно представляют собой общественные организации, фонды, неправительственные структуры, движения и политические партии, которые ангажируются тем или иным образом одной из сторон, ведущих сетевую войну. Так же это могут быть редакции газет и журналов – как крупных, так и самодельных фэнзинов. Сеть – это вокально-инструментальный ансамбль, изучающий народный фольклор и имеющий обширные контакты с такими же ансамблями в других точках. Это комьюнити в Живом журнале, это клуб охотников, филателистов или собирателей антиквариата, имеющий связь по переписке с другими подобными клубами в разных точках планеты, члены которых периодически съезжаются на общие собрания или форумы. Наконец сеть – это небольшие террористические группы, имеющие контакт между собой через Интернет или посредством мобильной или спутниковой связи, объединённые общими мировоззренческими установками. Сеть - это всё то, через что можно пропустить определённый сигнал, который будет воспринят, передан и, в конечном итоге, реализован в действие. Сеть может быть создана. Сеть может быть настроена определенным образом. Она может быть перепрошита, а может быть использована прямо в исходном виде, с теми параметрами, которые имеет по факту. Для её использования достаточно эти параметры просто знать, чтобы включить сеть в общую стратегию. Сеть – это всё, что имеет контакт между собой. Количество участников сети, её объём, абсолютно не является залогом качества. В конечном итоге – любой контакт между двумя людьми, передавшими друг другу что-то – это простейшая модель зарождающейся сети. Чиновник в Вашингтоне, работающий в госструктуре, и передавший единожды информацию для репортёра в Исламабаде по электронной почте, даже если они никогда друг друга не видели и не увидят – это зачатки сети. А если это случилось повторно – это действующая сеть, которую возможно включить в текущую сетевую операцию. Иными словами, информационное общество представляет собой идеальную среду для создания, функционирования и использования сетей. Сети, действительно, повсюду, и это не метафора. Сети – это объективная реальность.
Отсутствие центра
Сетевая война никогда не ведётся прямым образом. Заказчик никогда напрямую не связан с исполнителем. И даже если провести линию через множество посредников от исполнителя к заказчику – прямой не получится. И кривой не получится. Совокупность проведённых линий образует сеть. Если у вас получилась прямая или даже кривая – то перед вами не сетевая операция, а обычное, классическая операция эпохи модерна, в которой связь между заказчиком и исполнителем, даже при отсутствие некоторых промежуточных элементов, вполне установима. Конечно, между США и многими событиями по всему миру возможно установить связь, недвусмысленно определив заказчика того или иного процесса. Но эта связь будет сугубо умозрительной. Если конечно речь идёт о сетевой операции. Современный информационный контекст таков, что Америке можно предъявить всё что угодно, начиная от «оранжевой» революции на Украине, и заканчивая разрушительным цунами в Юго-Восточной Азии. И даже если все факторы будут в пользу предъявленных версий, вам, в лучшем случае просто рассмеются в лицо или отправят в дурдом, ибо у вас не будет ни одного прямого факта, а все улики и цепочки будут уводить вас в бесконечные дебри сетей переплетаясь, сходясь и расходясь в произвольном порядке. Кто, Америка? Кто именно? - «Сенатор Джонс, это вы устроили цунами»? – «Да, господа, я уронил чайную ложечку за борт своей яхты, отчего и произошло цунами, приведшее к тяжким последствиям и многочисленным жертвам». Даже если сенатор Джонс или Смит и был задействован в сетевой операции, то не факт, что он сам знает об этом.
Америка, а именно она сегодня ведёт сетевые войны, никогда впрямую не участвует в сетевых операциях. Для примера можно взять сетевую операцию США против России в Чечне. Для того чтобы начать сетевую операцию, необходимо создать граничные условия, то есть те условия, при которых стороны, участвующие в конфликте, сами становятся заинтересованными и естественным образом ангажированными в эту ситуацию. В Чечне заинтересованной стороной были англичане, когда-то имевшие там нефтяные промыслы, которые в своё время были национализированы и отобраны у них. Но до этого англичане вложили туда большие средства. Существуют английские дома на окраинах Грозного, которые стоят до сих пор. Во время первой военной кампании в Чечне англичане занимались финансированием. Они были заинтересованы в решении чеченской ситуации в свою пользу, для того, чтобы вернуться туда и вернуть то, что они имели - нефтяные месторождения, контроль над нефтяными ресурсами. В этом были заинтересованы конкретные британские финансисты, наследники старейших финансовых империй, некогда вложившихся в нефтяную отрасль на Кавказе, и до большой геополитики им, по большому счёту, не было никакого дела.
Ещё одной стороной оказалась Саудовская Аравия, которая была заинтересована в трансляции ваххабитской, исламистской идеи в Чечне, где после советского периода осталось выжженое идеологическое поле. Участвовала в этом и Восточная Европа во главе с Польшей, которая ненавидит Россию, переживая страшные постимперские комплексы, которая создавала негативный информационный фон вокруг действий федерального центра в Чечне. И ещё Турция, которая хотела влиять на Азербайджан, и была заинтересована в поставках своего оружия в зону конфликта. Все эти участники чеченской сетевой операции непосредственно включились в этот проект без какого-либо прямого указания из США: англичане финансировали, преследуя свои интересы возврата собственности; Саудовская Аравия поставляла кадры, нескончаемый поток боевиков, создавая свой ваххабитский интернационал; Польша и Восточная Европа обеспечивали информационную политику, дискредитирующую Россию во всём мире, исходя из собственного рессантимана по отношению к России; через Турцию и Азербайджан были налажены каналы поставки вооружений, ибо существует пантюркистский проект. Это – типичная сетевая операция, в которой заказчик не очевиден. Его и нет. Там не было прямого американского финансирования. Ну а если представить себе, что США просто тупо за всё платили, то полученная сумма превысит затраты США на военную операцию в Ираке, уже признанную самой дорогостоящей в истории человечества, в сотни раз. Сетевая операция не предусматривает больших затрат. Её принцип как раз и заключается в том, чтобы грамотно, рационально использовать то, что уже существует, в свою пользу. США на чеченскую кампанию, по большому счёту, не потратили ни-че-го. Однако она чуть нас не убила, поставив на грань существования российскую государственность. Фактически Россия стояла на пороге краха и развала, потому что возник коллапс системы российской власти. А развал России – это и есть главная геополитическая цель США.
Признаки сети
Каковы основные признаки сети, которые следует знать? Прежде всего, сеть не управляется из единого центра. Вместе с тем, в сетевой войне существует такое понятие как намерение командира. Участники сети понимают общий замысел и должны сами улавливать смысл происходящего. Они не получают прямые команды – «пойди туда», «сделай это», потому что это не классическая армия эпохи модерна, это совершенно иной тип управления. Скорее сеть осведомляется в отношении конечного замысла «командования», которого, по большому счёту, нет. Никто не «командует» сетевой операцией. Есть некоторые аналитические, экспертные центры, разрабатывающие различные стратегии. Их деятельность открыта, а результаты доступны каждому и зачастую не носят прикладного характера. Есть полит-технологические центры, пиар-конторы, службы по связям с общественностью, СМИ и т. д. – их на порядок больше, чем аналитических экспертных структур. Пользуются ли вторые разработками первых? Возможно. Какими именно и в каком объёме – поди разбери. Многие из этих агентств существуют на гранты каких-то финансовых структур, некоторые просто являются службами при банках или финансовых компаниях. Как эти компании связаны с правительственными структурами США, с Госдепом, с Белым домом, с федеральной резервной службой? Да как и все компании в глобальном финансовом мире, как и все компании, фирмы и банки друг с другом. Количество связей заведомо превышает математическое множество. А теперь докажите связь «ботанического» аналитического научного центра в Праге с «оранжевой» революцией на Украине…
Есть некоторые подразумевания, которые могут быть озвучены центром сетевой операции, например, через СМИ, где-то на каких-то конгрессах, форумах. Это могут быть официальные заявления, доклады тех же научных центров, обращения членов правительства и официальных лиц, намеки политтехнлогов в интервью, высказывания политиков и общественных деятелей. Всё это считывается сетью, то есть теми структурами, которые инициированы этими центрами, подключены, ибо перепрошиты. Дальше эти структуры действуют исходя из озвученного намерения, исходя из обстановки, самостоятельно принимая решения. Они улавливают намерение командира и действуют по обстоятельствам. Если действие оказывается неудачным или провальным, или вообще не осуществляется – сетевой центр не несёт за это прямой ответственности, переконфигурируя сеть другим образом. Да и «центра» то самого как такового нет. Научные экспертные лаборатории центр? Нет, они несут ответственность только за сухие теоретические выкладки. Пиар-стурктуры, СМИ? Они очевидно исполнители. Правительство США? Это явно не их компетенция. Госдеп? Возможно, но где доказательства, звонки, распечатки бесед? Их нет, потому что их не существует. Никакой прямой увязки между центром принятия решения и исполнителем нет, а информация – намерение командира – передаётся по открытым каналам.
В этой связи так же следует отметить такое понятие сетевой войны, как самосинхронизация. Это означает, что узлы сети могут действовать автономно от центра, для того, чтобы не вскрыть центр происхождения основной стратегии, заданий, и конкретных действий. В большинстве случаев они даже не имеют представления, о том, где конкретно находится центр или центры принятия решений. Четь ориентируется на контент. Сетевыми узлами могут быть практически автономные структуры, которые связаны между собой горизонтально, при этом они могут находиться в самых невероятных местах, в местах принятия решений противника, в средствах массовой информации, в общественных структурах. Связываясь между собой в рабочем порядке, они напрямую не выказывают центра происхождения своих задач. Но даже в случае, если увязка сетевой структуры и центра управления будет вскрыта, их связь может быть доказана только косвенно. По умолчанию подразумевается, что центра нет, намерение командира считано, а сеть сама настраивается исходя из задачи и возможностей, т. е. самосинхронизируется
Для успешного проведения сетевой операции также важен такой фактор, как скорость передачи «команды», представляющей собой пакет сообщений, а так же скорость обратной связи. Скорость обеспечивается использованием современных, новейших, информационных и технологических достижений. И чем быстрее коммуникация, тем она эффективнее, ибо скорось передачи данных обеспечивает тайминг. То, что принесёт колоссальный эффект в течении 10 минут, потеряет всякий смысл через четверть часа. Ну а в некоторых случаях речь идёт о секундах.
Сетевая операция определяется как совокупность действий, направленных на формирование поведения нейтральных сил, врагов и друзей в ситуации мира, кризиса и войны. То есть сетевая операция проводится до начала горячей фазы, до её пуска; во время - чтобы курировать и менеджировать все процессы; и после - для того, чтобы зафиксировать и закрепить результаты. Иными словами, сетевые войны, в отличии от войн предыдущих эпох, идут всегда.
Примеры сетевых операций
Типичными сетевыми операциями являются так называемые «цветные» революции на постсоветском пространстве. «Революция роз» в Грузии, оранжевая революция на Украине, попытки совершения «оранжевых» переворотов в Молдавии, Азербайджане, Узбекистане, попытки свержения сетевыми средствами режима в Белоруссии – являются типичными примерами операций базовых эффектов. Не секрет, что и для России разрабатывалась и готовилась сетевая операция, которая должна была реализоваться в момент пересменки власти годов. Операция не удалась в силу того, что эта технология была вовремя распознана, разоблачена и ей были поставлены определённые преграды. Стоит отметить, что нынешнее пространство СНГ, или т. н. постсоветское пространство является приоритетной зоной ведения сетевых войн. Ибо, как говорил английский геополитик Маккиндер – «кто контролирует Хартленд, тот контролирует мир».
Разветвлённые западные сети существуют на сегодняшний момент в самой России. Созданные в период правления Ельцина, они поначалу финансировались через систему грантов и представляли из себя преимущественно неправительственные организации и общественные фонды, деятельность многих из которых на данный момент приостановлена именно по той причине, что это западные вражеские сети. Их основной целью было ангажировать элиты, активную часть нашего общества, переформатировать её в западном, проамериканском ключе. Эта задача была во многом реализована и наши нынешние элиты, и подавляющая часть медиа-элиты в значительной степени сегодня заминированы такими кадрами, воспитанными и идеологически сформированными в начале 1990-х, в период ельцинских реформ.
С приходом Путина они где-то притаились, но активизация этих сетей и центров в том плане, чтобы вернуть ситуацию в состояние начала 1990-х, возможна в любой момент, стоит только дать слабину и отступить от того курса, который установился при Путине и был продолжен Медведевым. С одной стороны эти сети можно обнаружить по их активности, с другой стороны - прокачка информации по этим сетям, то есть их активизация, может сформировать политическую ситуацию в России, сделать данностью этот, на данный момент замороженный, проект, вновь концептуализировав нынешнюю элиту в либерально-западническом ключе. Эта сеть может либо спалиться, и тогда она будет устранена, либо сыграть свою роль, восторжествовать и переформатировать российское политическое пространство, вновь взяв верх.
Интернет имени Пентагона
Не смотря на то, что элементы сетевых стратегий использовались и в прежние эпохи, особенно системно и довольно часто в период Второй мировой войны, первой ярко выраженной «сетью» со всеми присущими ей параметрами, своего рода моделью сети стала именно сеть Интернет. Не секрет, что сеть Интернет изначально была разработана Пентагоном, именно военным ведомством, и распространилась с территории Соединенных Штатов. Чисто теоретически она может быть Соединёнными Штатами так же и свернута, после чего Интернет может прекратить своё существование как глобальная сеть, сохранившись лишь в локальных «национальных» зонах. Некоорые страны Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Китай, уже пошли по этому альтернативному пути, начав создавать национальные сегменты Интернета. Так же в Америке находится и служба регистрации доменных зон, например, зона RU, которая зарегистрирована в США, в может быть закрыта. В своё время была предпринята попытка закрытия зоны SU.
Изначально разработанная Пентагоном, сеть Интернет долгое время использовалась для внутренних нужд американского военного ведомства. Почему же она была раскрыта? Потому что она в принципе снимает любые барьеры для передачи информации, создавая идеальные условия для ведения сетевых операций. Сеть Интернет раскрепощает процесс передачи информации, делает его общедоступным и, в то же время, создаёт поток информационного мусора. Это информационный фон, из которого обычному человеку сложно вычленить ценную информацию, отделив её от неценной, уловить какой-то смысл. Интернет был глобализирован, то есть стал общедоступным, потому что это отвечало военным интересам США. Ведь концепция сетецентричных войн имеет то же самое происхождение.
В момент кризиса, непосредственной реализации сетевой операции или глобального обострения США могут закрыть ту или иную доменную зону. Поэтому речь о национализации Интернета в России идёт довольно давно. В частности, эту тему на одной из встреч с представителями молодёжных движений уже поднимал Владислав Юрьевич Сурков - первый заместитель главы администрации президента. Он говорил о том, что это неизбежный процесс - Россия идёт к национализации Интернета. Но здесь есть и обратная сторона: необходимо учитывать, что создание национального Интернет-пространства не сможет дезавуировать действия глобально сети, центром которой являются США. Оно может существовать параллельно, и, как мы видим, в Китае оно существует, но ничто не мешает любому китайцу взять ноутбук с операционкой Windows и через спутник выйти в обычную глобальную сеть, минуя свою национальную доменную зону и свой национальный сегмент. Создание национального сегмента сети Интернет необходимо, оно стратегически обоснованно, но это не панацея. Это не дезавуирует глобальный Интернет. В то же время наличие национального сегмента не может заменить по эффективности глобальной сети Интернет, в случае умышленного прекращения её существования со стороны США в определённый момент. Ибо Интернет происходит из Америки, а значит стоит на службе интересов Америки и в случае, если Америка обнаружит, что существование сети Интернет идёт в разрез с её интересами, Америка, породив, так же может и убить Интернет. Однако уже сейчас сетевой принцип, реализовавшись в моделе Интрнета, может быть трансполирован на любые сегменты современного постмодернистского общества. К примеру сетевой принцип создания организации на сегодня является наиболее оптимальным для того, чтобы в режиме ограниченных ресурсов, используя новейшие современные технологии, в первую очередь, медиа-ресурсы, и формируя общественное мнение - эта задача является основной для сетевых структур - достигать реализации целей по формированию общественного мнения в альтернативном атлантистскому ключе. И раз уж сети пронизывают наше пространство вдоль и поперёк, мы просто обязаны освоить эту технологию, поставив её на службу отстаивания наших геополитических интересов. Не бороться, ибо это бесполезно, но брать под контроль. Чтобы выжить.
Опубликовано в журнале "Политический класс", № 2(50), февраль 2009 г.
01 февраля 2009
Компьютерная визуализация социальных сетей
Александр Прохоров, Николай Ларичев
Использовано - http://*****/article. aspx? id=16593&iid=771
Основные понятия анализа социальных сетей
Краткий обзор программ для визуализации социальных сетей
Программы для ручного рисования социограмм
udraw (Graph) 3.1.1
Visio 2003
Программы для автоматического построения социограмм
NEGOPY
View_Net II
MultiNet
Spring Embedder
NetDraw
Проект «исторические личности как социальная сеть»
Сбор данных
Планирование структуры графа
Создание наглядной социограммы
Создание интерактивной web-версии социограммы
Основные понятия анализа социальных сетей
SNA (Social network analysis — анализ социальных сетей) — направление современной компьютерной социологии, которое занимается описанием и анализом возникающих в ходе социального взаимодействия и коммуникации связей (сетей) различной плотности и интенсивности. Поведение личности — это производное от социальных сетей, элементами которых она выступает. Метод SNA получил широкое распространение при изучении процессов коммуникации в различных социальных группах, в развитии научных школ, социологии межличностных отношений, политических и международных процессов и т. д. Сеть социальных взаимодействий — это сеть, состоящая из так называемых социальных акторов (актор — от англ. actor (деятель, личность) — термин используется в русскоязычной литературе и имеет более широкое значение, чем русское слово «лицо», то есть это может быть не только человек или юридическое лицо, но и совокупность организаций или целая страна) и наборов взаимосвязей между ними. Метод исследования является универсальным. В качестве социальных акторов могут выступать не только индивиды, но и социальные группы, организации, города и страны. Под связями понимаются не только коммуникационные взаимодействия между акторами, но и связи по обмену различными ресурсами, взаимодействия, связанные с совместной деятельностью, включая конфликтные отношения. При использовании метода SNA ключевым является описание характеристик, выражающих плотность, интенсивность и пространственную координацию социальных связей, что дает возможность выделять структурные единицы исследования («узлы», «блоки», «клики», «кусты») в системе социальных отношений.
Полученная сеть взаимодействий может быть проанализирована различными методами теории графов, теории информации, математической статистики. В отличие от классических методов анализа, которые исследуют индивидуальные свойства объектов, основные цели анализа сетей — это исследование взаимодействия между социальными объектами (акторами) и выявление условий возникновения этого взаимодействия.
Отдельным направлением исследования является визуализация (графическое отображение социальной сети). Визуализация имеет важное значение, поскольку сама возможность увидеть сеть позволяет сделать важные выводы о характере взаимодействия акторов, не прибегая к другим методом анализа графа. Для пояснения данного тезиса целесообразно привести пример использования SNA-метода с целью выявления террористов, спланировавших теракт 11 сентября 2001 года в США (рис. 1). В данной работе была построена сеть, в которой в качестве акторов (вершин) выступали конкретные личности (пилоты), а в качестве линий связи (ребер) — факты попарных связей (переговоров). То, что террористы готовили теракт (имели избыточные на общем фоне коммуникации), наглядно видно по сгущению плотности линий связи вокруг террористов.
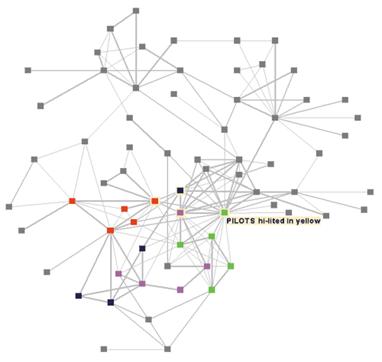 сентября 2001 года в США" width="382 height=362" height="362"" class=""/>
сентября 2001 года в США" width="382 height=362" height="362"" class=""/>
Рис. 1. Пример исследования взаимодействий террористов
при планировании и осуществлении теракта 11 сентября 2001 года в США.
Обозначения на графике: точки — пилоты, соединения между точками — интенсивность коммуникаций между этими лицами.
Цветом даны номера рейсов:
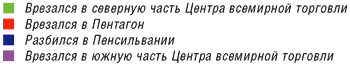
После ознакомления с технологией SNA у автора статьи возникла идея построить и наглядно представить социальную сеть, отображающую взаимодействия наиболее важных исторических деятелей русской истории. В процессе выполнения данного проекта пришлось поработать с целым рядом программ для построения социальных сетей. Полученный опыт и позволил написать данную статью. Часть описываемых ниже программ можно загрузить с прилагаемого к журналу CD.
Краткий обзор программ для визуализации социальных сетей
Программы для построения графов можно разделить на две категории: первая — это редакторы — приложения, которые позволяют автоматизировать ручное построение графа и обеспечивают возможность автоматического изменения граней при перемещении вершин графа; вторая группа — это программы, которые позволяют отказаться от ручного рисования графа. При этом пользователь задает некоторую базу данных, по которой программа рассчитывает положение вершин и граней и строит граф. Для построения социограмм могут применяться программы обоих типов, поскольку для конкретных случаев та или иная программа может оказаться наиболее подходящей.
Программы для ручного рисования социограмм
udraw (Graph) 3.1.1
Рисовать графы, пользуясь графическими редакторами широкого профиля, не всегда удобно. Гораздо эффективнее воспользоваться специализированными приложениями. Одной из подобных специализированных программ является uDraw (Graph), автоматизирующая процесс построения графов и диаграмм (рис. 2).
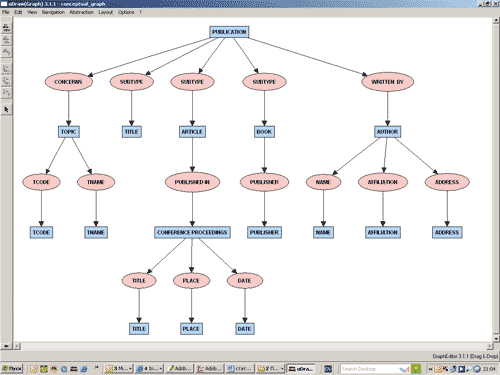
Рис. 2. Пример построения диаграммы в uDraw (Graph)
Весьма удобной функцией программы является возможность деформирования графа, когда при перемещении одной из вершин графа (на рис. 3 вершина topic передвинута вправо) все остальные деформируются автоматически. Поэтому если нужно выделить место под новые вершины, то вам не придется заново перерисовывать сетку.
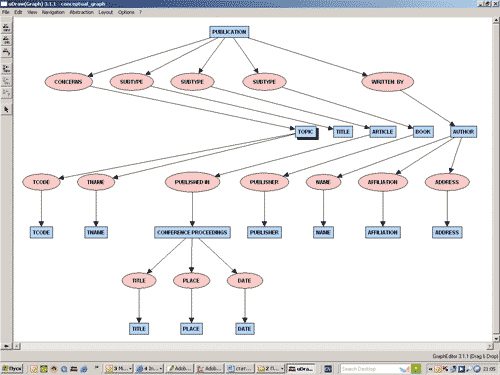
Рис. 3. Пример трансформации диаграммы uDraw (Graph) в режиме drag&drop
Программа позволяет не только генерировать боксы разной формы, но и вставлять растровые картинки в качестве вершин графа (рис. 4).
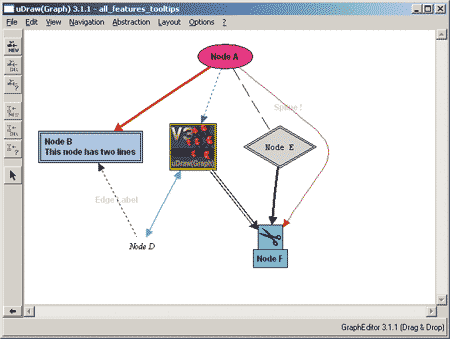
Рис. 4. Пример использования растровых изображений в uDraw (Graph)
Более подробную информацию о программе можно найти по адресу: http://formatik. uni-bremen. de/uDrawGraph/en/uDrawGraph/gedit. html.
Visio 2003
Весьма удобным инструментом для ручного построения графов является программа Visio 2003 (рис. 5), которая содержит средства построения графов и диаграмм, необходимые широкому кругу пользователей. Имеется возможность легко передвигать отдельные боксы так, что при этом деформируются линии, связывающие данный бокс с другими. Программа позволяет сохранить Visio-диаграмму в web-формате. Интерфейс создаваемых в Visio web-страниц отличается привлекательностью, предоставляет широкие возможности для совместной работы с данными как в организации, так и за ее пределами.
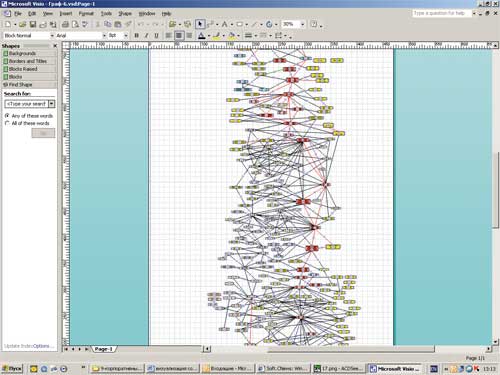
Рис. 5. Построение графа в Visio 2003
Программы для автоматического построения социограмм
Очевидно, что ручное построение графа — весьма длительный и трудоемкий процесс. Анализ структуры графа, состоящего из сотен вершин, просто невозможен при ручном построении. Здесь необходимо обратить внимание на автоматизированные системы. Именно они позволили визуализировать сложные социальные сети и наглядно анализировать структуры, содержащие сотни и тысячи вершин. Одна из первых работ в области автоматического построения социограмм — программа SOCK — была выполнена в 1970 году (авторы — Альба (Alba), Гутман (Gutmann) и Кадушин (Kadushin)). Эта программа позволяла автоматически строить граф (социограмму) на базе текстовых исходных данных. На рис. 6 показан пример использования программы для анализа американских интеллектуальных кругов.
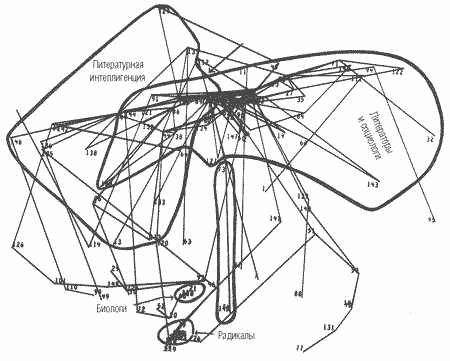
Рис. 6. Компьютерная социограмма американских интеллектуальных кругов
Интересной особенностью работы было то, что на базе графа анализировались субгруппы. На рис. 6 они показаны в виде изолиний, объединяющих вершины (людей) по некоторому профилю: «литературная интеллигенция», «биологи», «литераторы и социологи» и т. п. Таким образом можно было проанализировать пересечение множеств людей, обладающих той или иной профессией, имеющих определенные политические убеждения и т. д.
После этой работы, выполненной в начале 1970-х годов, в течение нескольких лет велись исследования, направленные преимущественно на анализ сетей, а непосредственно визуализацией занимались мало.
NEGOPY
В 1978 году Лесняк (Lesniak) и ряд других авторов предложили программу NEGOPY (http://www. sfu. ca/~richards/negopy. htm), которая предусматривала графическую визуализацию сетей. Программа получила широкое распространение. Сегодня NEGOPY — это одна из старейших программ для анализа социальных сетей, для поиска связей в коллективах, так называемых клик и изолированных групп в сетях, имеющих до тысячи членов и 20 тыс. связей. Программа используется в более чем 100 университетах и исследовательских центрах по всему миру.
Основная цель приложения — выделить области, в которых контактов друг с другом больше, чем с узлами, принадлежащими другим кластерам (рис. 7). Данные кластеры называются группами (groups) и концептуально близки по смыслу термину «клики» (cliques), часто используемому в социометрической литературе. NEGOPY также позволяет сортировать узлы в ограниченный набор ролевых категорий (role categories).
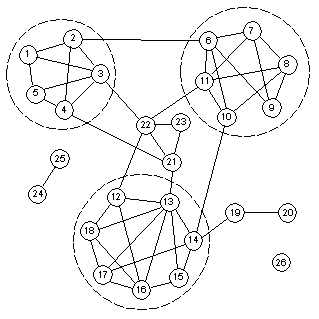
Рис. 7. Основная цель программы — выделить субгруппы (клики)
В качестве вводимых данных NEGOPY принимает на вход список пар, имеющих связь. Связи (links) определяются путем присвоения ID-номеров личностям, связанным линками, а кроме того, задается число, определяющее силу этой связи. Программа позволяет учитывать направленные или ненаправленные связи.
Заказать программу можно по адресу: *****@***ca. PDF-копия руководства пользователя находится по адресу: http://www. sfu. ca/~richards/Pdf-ZipFiles/negman98.pdf.
View_Net II
Программа View_Net II (автор — Кловдаль (Klovdahl)) была написана под платформу Silicon Graphics и предназначалась для визуализации и анализа больших баз данных. Данное приложение впервые позволяло построить трехмерное изображение социальной сети. Работа была новаторской в плане интеграции визуального и численного анализа графов.
На рис. 8 показан результат работы программы View_Net II. Картинка показывает взаимодействия студентов, которые учились вместе с разработчиком программы в 1989 году в Канберре (Австралия).
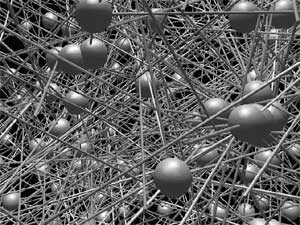
Рис. 8. Визуализация социальных связей среди студентов на базе программы View_Net II
MultiNet
MultiNet — это программа, которая позволяет анализировать исследовательские данные, представленные в виде социальных или иных сетей. MultiNet — это интерактивная программа, которая позволяет получить как численный анализ исходных данных, представляющих некий граф, так и визуальное представление сети. Использование цвета и интерактивности является новаторским элементом, реализованным в MultiNet. Программа позволяет находить положения вершин, представлять социосеть в виде двух - и трехмерных изображений, а также манипулировать объектом (вращать сеть в трехмерном представлении и менять цвет вершин). Рис. 9 свидетельствует о том, что программа позволяет визуализировать действительно сложные системы.
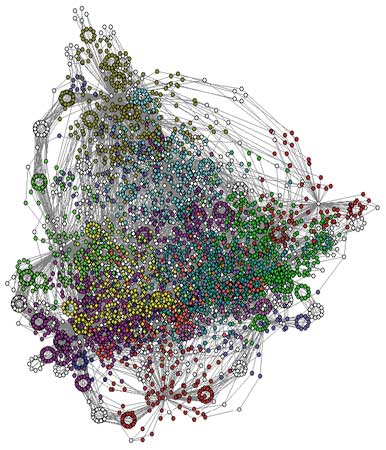
Рис. 9. Визуализация сложных социальных сетей (MultiNet)
MultiNet с самого начала создавалась как приложение для анализа больших объемов информации и поэтому использует специальные компактные форматы хранения данных, специальные схемы вычислений, оптимизированные для анализа больших массивов данных. Подробную информацию о программе можно найти по адресу: http://www. sfu. ca/%7Erichards/Papers/DissAJS. pdf.
Spring Embedder
Spring embedder — это разработка студентов Университета штата Иллинойс (University of Illinois), Java-программа для анализа и визуализации социальных сетей.
В качестве исходных данных вводятся параметры, описывающие силу связи (значимость взаимодействия) в каждой паре. Данные о силе связи используются для описания оптимальной длины гипотетической пружины (ребра), связывающей двух акторов (две вершины) в паре. Далее программа пытается найти положение всех точек таким образом, чтобы общее напряжение в конструкции из виртуальных пружин было минимальным. Интерактивную web-версию социограммы, показанной на рис. 10, можно посмотреть по адресу: http://www. cmu. edu/joss/content/articles/volume1/images/fig30A/.
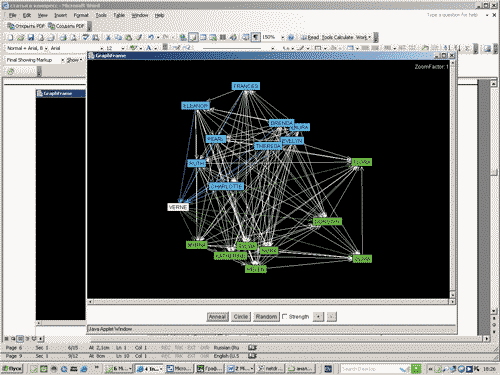
Рис. 10. Пример работы программы Spring Embedder
Как видно из приведенного обзора, программ для построения социограмм существует довольно много, однако мы остановили свой выбор на программе NetDraw, о которой расскажем подробнее.
NetDraw
NetDraw — это бесплатное приложение, написанное Стивом Боргатти (Steve Borgatti) для визуализации социальных сетей. Скачать программу можно по адресу: http://www. /Netdraw/netdraw_versions. htm или загрузить с прилагаемого к журналу CD-ROM.
Для ввода данных используется так называемый DL-протокол, который включает несколько форматов: nodelist (лист узлов), edgelist (лист граней) и fullmatrix (матричная запись).
Формат Nodelist
Данный формат весьма прост. Вам необходимо создать текстовый файл, для чего подойдет любой текстовый редактор. Рассмотрим конкретный пример:
dl
n = 50
format = nodelist
data:
3
2 6
…
DL в начале списка указывает на тип файла; n = 50 указывает программе, что ожидается 50 узлов (nodes); format = nodelist означает, что ожидается nodelist-формат; data: показывает начало собственно данных в записи.
Первая строкаговорит о том, что персона 1 имеет связи с тремя людьми, которые обозначены как 7, 8 и 2. Вторая строкаговорит о том, что персона 3 имеет связи с четырьмя людьми, которые обозначены как 19, 21, 49 и 6.
Формат Edgelist
Этот формат ввода данных удобен, когда имеется информация о парах. Рассмотрим конкретный пример:
dl
n=4
format = edgelist
labels embedded
data:
ROMUL AMBROSE 1
ROMUL PETER 3
ROMUL ALBERT 1
N = 4 — это четыре узла, первая строка (ROMUL AMBROSE 1) говорит о том, что ROMUL и AMBROSE 1 имеют связь, и т. д. На рис. 11 показана социограмма, соответствующая данному примеру, а на рис. 12 — сеть, в которой уже 18 узлов.
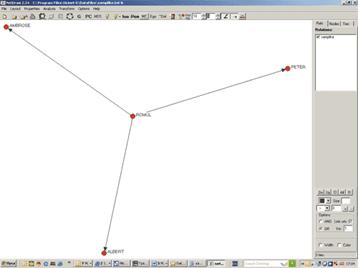
Рис. 11. Отображение направленных связей в NetDraw (4 узла)
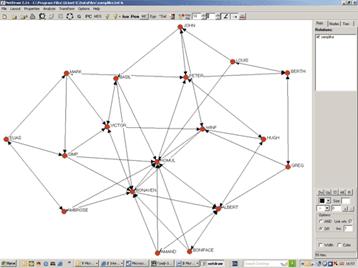
Рис. 12. Отображение направленных связей в NetDraw (18 узлов)
Формат FullMatrix
Этот формат удобен для небольших наборов данных, которые содержат множество связей. Для подготовки данных можно использовать любой текстовый редактор или Excel (не забудьте сохранить файл как текстовый). Данные должны быть представлены следующим образом:
dl
n = 5
format = fullmatrix
data:
Строка format = fullmatrix указывает на тип формата. После указателя data: следуют данные в виде таблицы типа «персона-персона» (person-by-person table). Поскольку у нас пять узлов (n = 5), матрица должна иметь пять строк и пять столбцов. Первая строка (0, 0, 1, 0, 0) показывает, что персона 1 имеет связь с персоной 3. Вторая строка показывает, что персона 2 имеет связи с персонами 4 и 5.
Нецифровые метки могут быть вставлены при внесении указателя labels embedded в следующем виде:
dl
n = 5
labels embedded
format = fullmatrix
data:
Bill Jan Jim Sue Zoe
Bill
Jan
Jim
Sue
Zoe
С использованием вышеописанных программ авторы попытались выполнить собственный проект — построить социальную сеть исторических личностей России.
Проект «исторические личности как социальная сеть»
Целью данного проекта была разработка социограммы наиболее значимых исторических деятелей русской истории.
Сбор данных
Для построения графа использовались исторические ресурсы Интернета. С помощью поисковых запросов типа «N входил в ближайшее окружение M», «N познакомился c M», «N вел приписку с M» и т. д. составлялась база значимых взаимодействий исторических деятелей и краткие описания данных взаимодействий. При этом типы взаимодействий были разделены на пять категорий:
родственные и брачные связи (ненаправленная связь).
наставничество (один являлся учеником другого) (направленная связь).
друзья или соратники (ненаправленная связь).
конфликтные отношения (ненаправленная связь).
один явился прямой или косвенной причиной смерти другого (направленная связь).
Планирование структуры графа
Далее необходимо было спланировать расположение вершин графа, для чего использовалась программа NetDraw. В качестве примера на рис. 13 показан небольшой фрагмент графа.
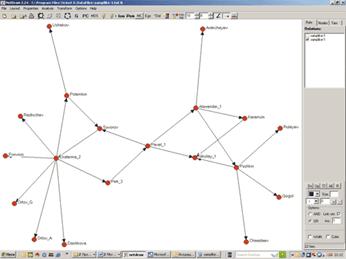
Рис. 13. Фрагмент графа, полученный с помощью программы NetDraw
Программа позволяет создавать структуру с оптимальным расположением узлов, трансформировать граф (рис. 14), перетаскивать отдельные узлы вручную и рассматривать трехмерное представление графа (рис. 15 и 16).
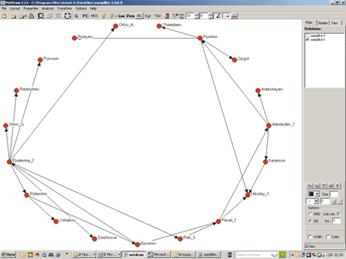
Рис. 14. Возможности реструктуризации графа (NetDraw)
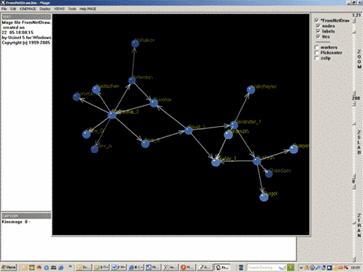
Рис. 15. Возможности 3D-представления графа (NetDraw)
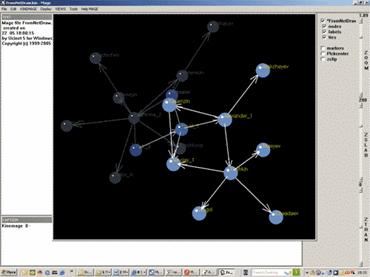
Рис. 16. Возможности манипуляций с 3D-моделью графа (NetDraw)
Создание наглядной социограммы
Программа NetDraw позволяет спланировать и отобразить структуру графа при малом числе элементов — при большом количестве элементов наглядность падает. Получить наглядную схему большой социальной сети, на которой можно нарисовать боксы разного цвета и связи (грани) разной толщины, в программе Netdraw нам не удалось. Используя NetDraw для построения отдельных фрагментов графа, мы в дальнейшем перешли к ручному построению графа с помощью программы Visio (рис. 17).
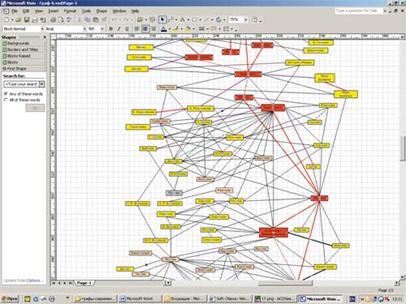
Рис. 17. Фрагмент графа в программе Visio
Создание интерактивной web-версии социограммы
Следует отметить, что при всей наглядности графическое изображение социальной сети не удобно для изучения, пока не снабжено интерактивной справочной системой. Гораздо удобнее рассматривать сеть, где, щелкнув мышью по любому элементу (вершине, грани), можно получить справку.
Для создания интерактивной web-версии мы конвертировали граф в программу Flash. Как средство разработки интерактивных приложений, Flash дает массу преимуществ, позволяя быстро создать интерактивные кнопки и разворачивающиеся меню при минимальном уровне программирования.
В результате была создана интерактивная версия графа (пока только фрагмент), в котором все вершины и грани (при щелчке по ним мышью) вызывают окно-справку о том или ином историческом деятеле или о событиях, которые раскрывают суть взаимодействия в паре.
В качестве примера на рис. 18 показан фрагмент графа с иллюстрацией интерактивной справки о взаимодействии в паре «Екатерина II — Потемкин», а на рис. 19 — «Екатерина II — Павел I».
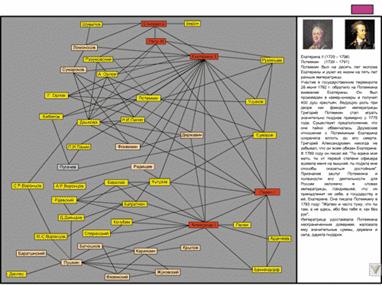
Рис. 18. Фрагмент графа с иллюстрацией справки по связи (Екатерина II — Потемкин)
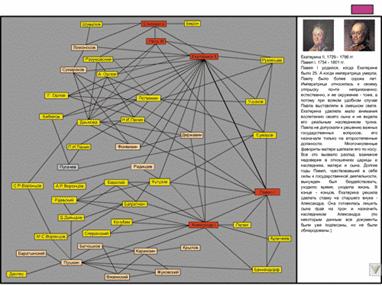
Рис. 19. Фрагмент графа с иллюстрацией справки по связи (Екатерина II — Павел I)
Полученный граф выполняет роль как социограммы, так и интерактивного интерфейса для просмотра базы данных об исторических деятелях и их взаимодействиях.
В таком виде граф может использоваться как пособие, в котором можно анализировать различные социальные подгруппы, получать справки по отдельным личностям и, главное, по связям в парах. Проект находится в развитии, фрагмент графа в Flash-версии можно посмотреть на прилагаемом к журналу CD-ROM. По завершении работы планируется создание сайта и, возможно, энциклопедического мультимедийного диска. Учитывая масштабность проекта, авторы заинтересованы в подключении к работе соисполнителей. Авторы будут признательны за комментарии, которые можно присылать по адресу: *****@***ru.
Вести. net. Итоги года в социальной части Сети
08.01.2012 18:47 \ Использовано - http://www. *****/doc. html? id=679619
![]()
Привет, планета, это программа Вести. net. Итоги года - в социальной части Сети. Главное, именно с социальной точки зрения тенденция - использование соцсетей в координации протестов так называемого "креативного класса", по крайней мере, в Москве. Чего стоит только попытка определить, кто будет выступать на митингах с помощью Facebook-голосовалки. Впрочем, нас всегда больше интересовала техническая, или бизнес-сторона Интернета, и социалок в том числе.
Вот как описывает ситуацию Герман Клименко, владелец счетчика Liveinternet, который считают термометром рынка: "Парадоксальная история. Совершенно чудесная. Я думал, это произойдет в этом году, этим летом. Схема фильма “Горец”, когда в живых должен остаться только один. По прежнему растут "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Google+. В какой-то момент времени должна произойти избыточность - ну не может человек вести два аккаунта одновременно. То есть, у нас все-таки есть какая-то неосвоенная кормовая база социальными сетями. Но в какой-то момент времени кто-то должен начать терять в пользу кого-то. И я думаю, это произойдет в следующем году. И "ВКонтакте" показывает очень хорошие темпы роста, и "Одноклассники" показывают хорошие темпы роста, и Facebook, то есть, никто не падает, все растут, у всех все хорошо".
***
Впрочем, растут, как выясняется все очень по-разному. Вот Facebook в последнее время по количеству регистраций растет значительно медленнее, чем в начале года.
Сегодня детище Марка Цукерберга может похвастаться более чем 800 миллионами активных пользователей во всем мире. При этом Россия, несмотря на то, что входит в тройку стран, чьи жители проводят в социальных сетях больше всего времени, является одной из немногих, где Facebook не является абсолютным лидером социального Интернета.
Об этом говорит как глобальная статистика Facebook, согласно которой Россия занимает лишь 29-е место по размеру аудитории, так и данные Liveinternet, свидетельствующие о том, что эта социальная сеть сейчас является третьей по посещаемости в Рунете, уступая "ВКонтакте" и "Одноклассникам".
Но и бронза - это уже определенное достижение. Тем более что третье место досталось не на стагнирующем, а на бурно развивающемся рынке, где каждый из игроков делал все возможное для удержание своей аудитории.
Весной прошедшего года была пройдена важная в психологическом аспекте веха – Facebook обошел по посещаемости самый популярный в России блогхостинг LiveJournal.
"Интеллигенция признала Facebook как средство общения. Сконвертируется ли это во что-то, пока неясно. Но пока ситуация выглядит так – все растут", – считает основатель Liveinternet Герман Клименко.
При этом, как и предполагалось, рост Facebook произошел во многом за счет оттока пользователей ЖЖ.
"Большая часть активной аудитории, ядро, которое есть сейчас, это аудитория, которая раньше, 2-3 года назад, активно пользовалась ЖЖ. Сейчас эта аудитория активно пользуется Facebook", – говорит представитель Facebook в .
Отметим, что в течение года аудитория Facebook росла неравномерно. Обитатели Рунета, привлеченные новыми возможностями соцсети, вначале просто хотели их опробовать. Как следствие – в начале года самая быстрая фаза роста. Летом рост аудитории замедлился, зато сами пользователи стали вести себя более активно.
"Любой социальный сервис растет скачками, – объясняет Екатерина Скоробогатова. – Вначале идет быстрый скачок. Набор первоначальной аудитории, регистраций. Потом рост этой зарегистрированной аудитории начинает тормозиться, но при этом аудитория, которая уже зарегистрировалась, начинает использовать ресурс и общаться. Потом идет второй качественный скачок, когда то ядро, которое увеличилось, приглашает людей. Поэтому мы сейчас не сфокусированы на приросте новых регистраций — сейчас мы сфокусированы на том, что вырастить ядро".
Пытаясь еще больше вовлечь пользователей и заставить их проводить больше времени на сайте, Facebook дал возможность сторонним компаниям создавать приложения, использующие социальную и вирусную составляющую Facebook на все сто.
Речь, в первую очередь, о музыкальных сервисах, которые первые попытались использовать открывшиеся возможности. На Западе первыми музыкальными партнерами выступили Spotify и Rdio. В России такими сервисами стали Яндекс. Музыка и Zvook. Пользователи смогли видеть, какую музыку слушают их друзья, и при желании расширять свои аудиопознания. Но это лишь первые шаги - в дальнейшем функционал платформы будет расширен.
"Нужно сделать так, чтобы легче было найти ту музыку, которая именно вам будет интересна, нужно сделать так, чтобы ваша музыкальная персона была лучше описана и показана вашим друзьям, – рассказывает инженер Facebook Владимир Федоров. – Но без особенной лишней работы, это должно быть легко, вы можете просто слушать музыку, которая вам нравится или которую вы слышите впервые, и она вам не нравится, и таким образом ваша музыкальная персона строится сама. Также хотелось бы создать каналы для удобства музыкантов, чтобы им самим было интересно и понятно, что нравится их слушателям".
То есть путь, по которому собирается идти Facebook, во многом напоминает то, каким мы привыкли видеть пионеров музыкального стриминга Last. FM. Сами же сервисы, судя по всему, довольны сотрудничеством — ведь это им приносит дополнительные деньги.
Отметился в прошедшем году Facebook и на мобильном рынке. Фактически целый год ходили слухи о готовящемся к выходу "фейсбукофоне" - специализированном смартфоне для общения в соцсети. И хотя большинство слухов оказалось, мягко говоря, преувеличенным, в конце года стало известно, что компания Цукерберга действительно работает над собственным телефоном, который даже имеет название – Buffy. Согласно предварительным данным делать "фейсбукофон" будет HTC, а работать он будет на сильно модифицированном Android.
Главное, что хотят привнести в Facebook в мобильную операционку Google, – интеграция в нее языка программирования HTML5. Цель модификации – создание собственной веб-платформы для написания и распространения приложений. Платформы, которая была бы независима от Apple и Google.
Сам "фейсбукофон" – опять же, по слухам – появится только в конце текущего года, но уже в 2011-м были сделаны первые шаги, позволяющие понять, в каком направлении движется компания Цукерберга. Facebook наконец-то запустил версию для iPad и сильно модифицировал обычную мобильную версию сайта. Главное изменение как раз и касалось возможности запуска приложений — раньше это могли делать только те, кто заходил в соцсеть с обычных компьютеров.
***
Раз уж судьбу российского Facebook так связали с "Живым журналом", мы не можем не рассказать о том, как жил в 2011-м ЖЖ. Тем более что картина получается вполне себе ЖЖивенькая.
У блог-платформы Livejournal в Рунете был непростой год. Площадка пережила несколько крупнейших DDOS-атак, хакерские кражи аккаунтов известных людей и смену руководства. Но закончился год неплохо. И именно мощнейшие кибернападения, начавшиеся в марте и продолжавшиеся довольно долгое время, заставили руководителей площадки пересмотреть стратегию платформы. Или же придумать абсолютно новую, ибо следовать в заданном еще в 99-м году направлении в новых реалиях стало невозможно.
"Мы начали переписывать серверную часть. Это важный момент, потому что ЖЖ уже 12 лет, и он до сих пор работает на той платформе, которую написал Фицпатрик. Он, конечно, молодец, платформа работает даже при стократных нагрузках, но, тем не менее, нам уже нужно это делать, потому что эта форма уже тормозит в нас развитии, писать под нее уже сложно", - пояснил Илья Дронов глава Livejournal Russia.
В конце года в компанию вернулся Антон Носик, который ушел из СУПа три года назад. Вместе с новым руководителем Livejournal Russia Ильей Дроновым, они представили новую концепцию развития платформы, задали новый курс. Начали с того, что решили убрать со страниц дневников на LiveJournal всю рекламу, до сих пор раздававшуюся централизовано. То есть, исчезнут баннеры со страниц, независимо от вида аккаунта пользователя, кроме того, будет легализована реклама, которую будут размещать сами блогеры.
Вторым решением нового руководства платформы стало изменение учета рейтинга авторов, который теперь будет считаться по "социальному капиталу" блогера или, другими словами, по его "карме". Такой способ используется на сайтах *****, ***** и технологической блог-платформе Habrahabr. Карма пользователя будет зависеть от его отношений с другими блогерами сети - от количества друзей, комментариев, перепостов, отклика на записи.
"Мы недавно очистили рейтинг от накруток, первый этап сделали в сентябре, а в октябре закончили историю, полностью удалив последних накрутчиков из рейтинга. То есть, мы не удаляли их, а поменяли механизм расчета, который больше не позволяет им накручивать. Мы увидели сразу, что действительно обсуждают в ЖЖ. Часть постоянно вылезает в топ -это про мам, мамы и дети, люди обсуждают, это большой пласт. А дальше путешествия, машины, кулинария, которая очень популярна в ЖЖ - куча пластов, которые нужно покрыть", - говорит Илья Дронов.
Еще одно решение - смена дизайна, который не обновлялся с 1999 года. Новым внешним видом занимается "". Правда, первые картинки нового дизайна вызвали у интернет-аудитории, скорее, разочарование, потому что они не обнаружили ничего революционно нового. Но при этом пользователям стала недоступна возможность настройки стилей аккаунта "под себя" из так называемой системы S1. Исчезновение самой старой, привычной системы стилей настолько сильно возмутила пользователей, что даже на митинги они приходили с плакатами "Верните S1 в ЖЖ".
Несмотря на то, что часть сетевой общественности, не пользующаяся ЖЖ, списала LiveJournal со счетов и считает, что никакая реформа не вернет ему былой популярности, по словам Ильи Дронова, аудитория сервиса растет каждый год на 30%. Причем не только в России. И вообще, оказывается, ЖЖ способен на многое.
"В Сингапуре ЖЖ используется как платформа для продажи. Мы первый раз это обнаружили, когда запустили акву. Это такая система, которая как бы на черном экране белыми буковками в лайвстриме показывает то, что пишут в ЖЖ. Мы днем сидели, смотрели, все нормально, люди что-то обсуждают, постят картинки, а потом – раз! – и пошли сплошные продажи одежды. Думаем, что такое? Стали смотреть. Оказывается, в Сингапуре это платформа для торговли. И она очень активно там развита. Большинство магазинов-онлайн не строят свои веб-сайты, а используют LiveJournal, чтобы свою одежду продавать. Соответственно, мы посмотрели, проанализировали рынок. Теперь у них на главную выводится информация о блог-шопах, это так называется, видны лучшие предложения, сравнения предложений, то есть мы адаптировались под тот рынок", - рассказал Илья Дронов.
В следующем году подобный сценарий попробуют запустить и в кириллическом сегменте ЖЖ. Таким образом, в ЖЖ решили монетизировать залежи наработанного за 10 лет контента. В течение 2010 года уже откатали модель "глянцевой витрины" для определенного коммьюнити. Пилотным проектом был ОМGаджет – "причесанная", журнальная версия обсуждений в сообществах любителей мобильной техники, которое было вынесено на домен второго уровня и стало как бы отдельным сервисом. В ближайшее время обещают по такой же схеме запустить "родительский" проект.
***
А теперь - о соцсети, которая в 2011-м только родилась. Речь, конечно же, о Google+. Она вроде бы большая, но ведет себя как-то тихо. Но вроде бы еще не померла.
В ежегодном рейтинге Zeitgeist в списке самых быстрорастущих запросов на втором месте оказалась социальная сеть Google +. И это выглядит правдоподобно, если вспомнить ажиотаж вокруг соцсети в июле 2011 года, когда она только запустилась. И вход в нее был ограничен. Естественно, пользователи хотели узнать, что же создала корпорация Брина и Пейджа в очередной раз. Действительно ли это будет "убийца" Facebook, как пророчили тогда онлайн-СМИ.
"Google+, в общем-то, достаточно быстрорастущая сеть во всем мире. В России тоже. Мы не подводили отдельных данных по пользователям в России. Я знаю, когда мы открыли месяц назад возможность создания брендированных страниц для компаний, журнал NG в России набрал первую тысячу друзей, подписчиков - круг - быстрее, чем они это сделали два года назад на Facebook", - сказал Владимир Долгов, глава Google Russia.
Интерес пользователей к Google+ был волнообразным. И первая волна была самой мощной - через две недели после запуска в Google+ зарегистрировались 10 миллионов пользователей. Это был потрясающий результат! Гугловцы сделали ставку на понятные для пользователей настройки приватности - возможность объединения своих друзей в так называемые круги (отдельные группы) и определение для каждого такого круга специфических прав доступа. Это было сделано опять же в пику Facebook, который часто критикуют за излишнюю сложность.
И, кстати, одним из первых в Google+ зарегистрировался Марк Цукерберг, чтобы знать врага в лицо. И основатель Facebook обнаружил в Google+ то, чего нет в Facebook. Это функция одиночных и групповых видеоконференций и чатов Hangouts. На что и не замедлил ответить видеочатом в Facebook. Причем стартовали функции видеозвонков в соцсетях на одной неделе с разницей в четыре дня. И, кстати, запуск видеочата Hangouts привлек еще одну волну посетителей, не такую мощную, но все же.
Интересно, что Цукерберг, похоже, знал о том, что в Google трудятся над созданием соцсети. Еще весной компания Цукерберга заказала известному пиар-агентству кампанию по дискредитации Google. Кампания провалилась в самом начале, а отношения между компаниями застыли в фазе вооруженного перемирия. Ни одна из соцсетей не дает импортировать контакты в сервис конкурента.
Следующий приток пользователей пришел с запуском игр внутри соцсети. Первая партия игр включала в себя более 15 наименований - это были судоку, Angry Birds, Dragon Age Legends, покер и другие. И на момент запуска игровых активностей пользовательская база Google+, по данным ComScore, составила около 29 миллионов человек.
И последняя крупная волна посетителей пришла в G+, когда соцсеть объявила об открытии регистрации для всех пользователей. Примерно в это же время появилось первое исследование журналистов техноблога Techcrunch, которые в условиях скрытности интернет-гиганта пытались самостоятельно считать прирост и активность пользователей. Так, они анализировали сервис, который позволяет учитывать кросс-постинг сообщений в Google+ и в "Твиттере". И выяснилось, что активность пользователей в соцсети постоянно снижается. Похоже, люди регистрируются, пробуют сервис "на вкус", оставляют пару сообщений, чтобы понять, как он работает, и уходят. Некоторые навсегда. По данным аналитической компании Bime Analytics, около 83% пользователей новой социальной сети Google+ вообще не проявляют никакой активности. Кроме того, больше половины зарегистрированных пользователей Google+ посещают ресурс не чаще одного раза в неделю. Не исключение и глава российского представительства Google. "У меня есть страница в Google+, но вы там ничего не увидите, даже фотографии, я ее еще не начал. Только завел", - пояснил Владимир Долгов.
Может быть, именно такая позиция отражает реальную ситуацию в Google+. И запустив соцсеть, корпорация Брина и Пейджа создала себе таким образом социальный граф, о котором очень много говорили в течение последних двух лет. Тем более что справедливость попадания в список быстрорастущих запросов Zeitgeist IT-обозреватели уже поставили под сомнение. Так, согласно аналитическому сервису Google Insights for Search, который показывает динамику интереса пользователей к запросам, массово искали Google+ только в июле. Есть еще один всплеск — в сентябре, а дальше сплошная прямая линия. Если же в том же сервисе сравнить интерес пользователей к Google+ и к Twitter, то оказывается, запросы с названием микроблогинговой площадки продолжают расти, в ситуации же с Google+ все ровно наоборот — интерес пользователей к соцсети от Google падает.
***
И еще одна соцсеть-ньюсмейкер года. "Одноклассники" предприняли немало усилий, чтобы доказать, что они не просто передумали умирать, а еще - ого-го.
"Одноклассники" отвоевывают позиции. Некогда самая популярная и, по сути, первая отечественная социальная сеть вновь стремительно набирает популярность.
Согласно статистике Liveinternet, "Одноклассники" занимают сегодня вторую строчку, по-прежнему уступая "ВКонтакте". Дневная аудитория проекта — почти 27 миллионов человек, а это значит, что буквально за год посещаемость выросла более чем в два раза. И хотя до лидера еще далеко, разрыв все больше сокращается.
"У "Одноклассников" примерно 26,5 миллиона дневная аудитория, – отмечает руководитель проекта "Одноклассники" Илья Широков, – у "ВКонтакте" 30,5 миллиона человек заходит в день. Если посмотреть в процентном соотношении, это чуть меньше 15% разницы между "Одноклассниками" и "ВКонтакте". Год назад эта разница была в два раза больше. То есть порядка 30% отставание было.
Ренессанс "Одноклассников" произошел не на пустом месте. Социальная сеть за последнее время внедрила много новых сервисов. Пользователям доступны музыка, видео, игры, а так же буквально все виды общения, начиная от классического чата и заканчивая видеозвонками — сервиса, который "Одноклассники" ввели первыми среди отечественных соцсетей.
По сути, была заново набрана вся команда разработчиков, чье число также увеличилось. К тому же было отменено большинство премиальных сервисов, включая платную регистрацию. Главная и, пожалуй, самая сложная задача, стоящая сегодня перед компанией, – изменить имидж "Одноклассников", сделать проект снова модным и одновременно не растерять пользователей более старшего возраста.
"Мы все пытаемся придумать, а как сделать, для тебя, для него, для их друзей, для их мам самый удобный сервис. И это сложно, потому что люди разные", – говорит Илья Широков.
И речь здесь не только о предпочтениях каждого человека. Как выясняется, в пользовании соцсетями есть и географические различия. В "Одноклассниках" говорят, что у них зарегистрирован бурный рост пользовательской базы в Узбекистане и Грузии. Как оказалась, причина - в специфике местного интернет-рынка.
"Если посмотреть на южные регионы России, на Грузию, Армению, мы видим, что в этом регионе мобильный интернет был очень развит. Из-за того, что у нас была сильная мобильная версия, мы смогли в этих регионах очень быстро развиться", - объясняет Широков.
Отметим, что сегодня ежедневно на "Одноклассники" со своих телефонов и смартфонов заходит 7 миллионов человек. Несмотря на то, что это лишь незначительная часть аудитории, ведут себя мобильные пользователи на порядок более активно.
"У нас сейчас, несмотря на то, что мобильная версия составляет меньше 30% от веба, количество комментариев, которые люди оставляют с мобильной версии, больше, чем все суммарно комментарии, которые оставляются с веба", – говорит Широков.
И именно мобильная версия является одним из первоочередных приоритетов сайта на ближайшее время. В частности, в компании пытаются сделать свою мобильную платформу для игр максимально полноценной, мало отличающейся от настольной версии.
Больше времени ни на что не хватило, разве что скажем, что редакция нашей передачи в декабре переехала, так что для нас эти программы - прощание красным диваном. Как-то так, удачи, планета - пока.
Апология умной толпы
Шутки над "коллективным разумом" вот-вот могут закончиться
/ Александр Анатольевич Ослон - президент фонда "Общественное мнение".
- http://www. *****/scenario//9_apologia. html#.T0y9PNKSgt0.facebook
|
❮
❯
|





