Рис. 1. Классификация политических субкультур
Следуя логике структурного анализа Алмонда и Вербы, в диссертации выделяются основные эмпирические показатели изучения составляющих политической культуры (Таблица 1). Особо хотелось бы обратить внимание на индикатор политического искусства, т. к. современные тенденции оценки политического искусства четко фиксируют нравственный аспект и зрелость политической культуры общества. Данный показатель, с позиции диссертанта, следует рассматривать сквозь призму концепции символического капитала П. Бурдье, что представляет особый научный интерес для дальнейшего социологического анализа политической культуры общества.
Таблица 1.
Индикаторы социологического анализа политических культур
| Массовая политическая культура | Культура политических элит |
Когнитивные ориентации | Политическая образованность (способность к политическому мышлению) | |
Политическая компетентность (оценка собственных ресурсов, своих возможностей участвовать в выработке и принятии политических решений) | ||
Интерес к политике | ||
Свобода в распространении политической информации | ||
Аффективные ориентации | Оценка действий правительства, вызывающих общественный резонанс | Оценка исторических событий как индикатор нравственной основы политической культуры элиты |
Уровень доверия основным политическим институтам | Открытость и доступность политической элиты, доступность социальных лифтов к мобильности в данную страту | |
Степень удовлетворенности существующей политической системой | Степень гражданственности политической элиты, выражающейся в сочетании патриотических ориентаций, правовой культуры и чувстве ответственности перед обществом | |
Степень уверенности в завтрашнем дне | ||
Политическое искусство как специфическая форма политического сознания, как показатель нравственной основы политической культуры элиты и общества в целом. | ||
Поведенческие ориентации | Электоральная активность | Согласованность целей населения и политической элиты |
Степень взаимодействия с политическими партиями, политическими и общественными организациями | Наличие обратной связи у правительства с населением: существование отчетности политических деятелей за проделанную работу, координация действий в соответствии с предвыборными обещаниями, возможность отзыва депутатов. | |
Уровень протестного поведения как показатель удовлетворенности политической ситуацией, сложившейся в обществе | Наличие реальной межпартийной конкуренции |
Во втором параграфе «Некоторые аспекты политической культуры российского общества» в ходе краткого обзора работ, посвященных исследованию российской политической культуры, а также вторичного анализа данных социологических исследований, выявлено, что в сегодняшней политической культуре российского общества продолжают быть сильны установки на государственный патернализм и, как следствие, на персонификацию власти. В то же время характерно политическое отчуждение, выражающееся в неудовлетворенности и недоверии власти, дистанцировании значительных масс граждан от нее, непонимании ее политической стратегии и курса, снижении уровня политического участия и т. д. В течение последних десятилетий в стране отмечаются также и процессы духовного опустошения, «духовного обезвоживания». В национальном сознании граждан России духовно-нравственные ценности почти всегда преобладали над ценностями материального характера. Процесс же трансформации Российской Федерации привел к появлению общества потребления.
Представляется, что в России на разных этапах ее развития сложились и сохраняются в настоящее время симбиоз демократических и авторитарных традиций, что нельзя охарактеризовать ни положительно, ни отрицательно.
В политическом сознании населения практически отсутствуют установки на активизацию роли личности в политическом процессе, что означает доминирование «пассивных» типов политической культуры Россиян: лично участвует в политической жизни подавляющее меньшинство. Основной формой политического участия в России остаются выборы. Такая ситуация, когда состояние политического участия граждан характеризуется противоречием между достаточно высоким уровнем интереса к политическим событиям и низким уровнем его реализации, не считая периодов участия в выборах различных уровней, является потенциальной угрозой стабильности государства. Нереализованные потребности различных групп граждан способны вызвать всплеск протестной активности, что отчасти наблюдалось в серии митингов в конце 2011 – начале 2012 гг.
В третьем параграфе «Основные этапы постсоветских трансформаций политической культуры Эстонии» основные черты политической культуры эстонского общества характеризуются в соответствии с выделенными в диссертации тремя этапами ее формирования в постсоветский период:
1. Восстановление независимости республики после распада Советского Союза, когда еще ощутимо влияние советских установок на часть населения Эстонии, но в то же время присутствует четкая ориентация на построение этнократической модели социума (модель «этнической демократии», разработанная израильским социологом Самми Смууха[17]). Гражданская идентичность вытесняется национальной идентичностью и, как следствие, возникает национальное противостояние.
2. Период подготовки к вступлению в НАТО и Евросоюз, в котором политическая культура эстонского общества четко фрагментируется, причем не только по национальному признаку, но и внутри каждой этнической группы. Здесь формируется ориентация на двуязычие у части русскоязычного населения республики, на интеграцию в местное гражданское сообщество, которое главным образом обеспечивалось за счет знания государственного языка и приобретения эстонского гражданства.
3. Текущий этап развития политической культуры эстонского общества как части европейского сообщества можно охарактеризовать как попытку конструирования гражданской идентичности и формирования демократической политической культуры населения, хотя факт несимметричной толерантности в отношениях между эстонцами и русскими делает ее успешность маловероятной.
В итоге в параграфе делается вывод о том, что сегодняшняя Эстония – это страна двух обществ и двух политических культур, существующих параллельно в одном пространстве. Большинство эстонцев ориентируется не на гражданскую, а на этническую модель построения общества, поэтому воспринимает свое доминирующее положение как должное и не видит в этом признаков сегрегации. Установки русских прямо противоположны, что является еще одним свидетельством глубинного раскола в обществе. Политическая система носит демократический характер лишь в отношении титульного населения, что является признаком этнократического общества с этноцентристской политической культурой.
Политическая культура Эстонии сегодня характеризуется, помимо обозначенных черт, доминированием материального фактора, а также относительной стабильностью политических предпочтений, что подтвердили и последние выборы, прошедшие в Эстонии 6 марта 2011 года.
Четвертый параграф «Особенности политической культуры России и Эстонии в сравнительном измерении» посвящен непосредственно сравнительному анализу политических культур эстонского и российского обществ. В соответствии с разработанной диссертантом классификацией, в российской политической культуре обнаруживаются элементы практически всех пассивных политических субкультур: культуры наблюдателей вследствие довольно низких показателей политического участия населения; протестно-отстраненной с элементами протестно-активистской субкультуры, т. к. бόльшая часть граждан российского общества склонна к пассивному протестному поведению; пессимистической, т. к. согласно данным социологических исследований основным фактором нежелания участвовать в политической жизни общества называется отсутствие уверенности, что голос избирателя что-либо изменит и от него что-либо зависит; консервативной и этатистской вследствие ориентации определенной части населения РФ на традиционные ценности, сложившиеся устои, которые должен оберегать глава государства (поиск уникального пути развития).
Эстонскую же политическую культуру можно определить через некоторые элементы политической культуры участия – этноцентристской и рыночной политических субкультур – вследствие отстаивания доминанты интересов конкретного титульного этноса («этнократия»), в то время как остальные этносы (здесь имеется в виду собирательный образ «русскоязычные») воспринимаются как помеха для стабильного прогрессивного развития. Также наблюдаются черты спекулятивной и бюрократически-техницистской политических субкультур ввиду того, что эстонская политическая элита с помощью этнократической модели функционирования власти лоббирует собственные интересы. Это говорит о чрезвычайной фрагментарности анализируемых политических культур.
Для сравнительного анализа применена шкала кросс-культурного сравнения ценностей голландского исследователя Г. Хофстеде, где выделяются пять основных индикаторов измерений культуры, согласно которой Эстония более обособлена, чем Россия. Таким образом, для России более характерны коллективистские ценности и осознание себя как «Мы», в то время как в Эстонии больше важна защита частных интересов и осознание себя как «Я».
Опираясь на анализ, проведенный в предыдущих параграфах, были выявлены некоторые схожие и специфичные черты политической культуры Эстонии и России.
В качестве специфических отличных друг от друга характеристик можно выделить преобладание индивидуалистических ценностей в эстонской политической культуре и коллективистских – в российской, а также специфику, обусловленную различным конституциональным устройством политической системы рассматриваемых государств. В дополнение сказанному отметим, что для российской политической культуры внешние факторы менее значимы, в то время как для эстонской они становятся все более и более первостепенны (отсутствие самодостаточности).
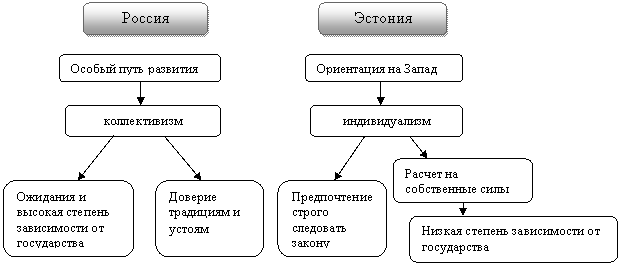 |
Рис. 2. Специфические отличия российской и эстонской политических культур
Политическую культуру российского общества характеризуют:
· Ярко выраженная фрагментарность политической культуры, где наблюдается смешение ряда политических субкультур с преобладанием пассивных типов;
· Доминирование подданических тенденций вследствие отстраненности значительной части Россиян от политической жизни общества;
· Патерналистские ориентации;
· Ориентация на традиции, на консервативные ценности;
· Приоритетность поиска своего уникального пути развития, собственной формы демократического устройства;
· Персонификация власти (т. н. вождизм) наряду с отсутствием персонификации ответственности;
· Недоверие населения к политике и политическим деятелям, что взаимообуславливает негативное восприятие власти как таковой.
В политической культуре эстонского общества обнаруживаются:
· Фрагментарность вследствие доминанты национальной составляющей;
· Доминирование активных типов политических субкультур;
· Доминирование материального фактора в политических установках;
· Ориентация на западные ценности индивидуализма;
· Ориентация на построение однообщинного национального государства, этническую модель общества (этнократия обуславливает этноцентристский тип политической культуры);
· Относительная стабильность политических предпочтений.
· Высокий уровень доверия основным политическим институтам.
Таким образом, общими характеристиками являются:
1. Ярко выраженная фрагментарность анализируемых политических культур;
2. Общий курс на построение демократической модели политической системы;
3. Доминирование материалистических ценностей (следствие маскулинности);
4. Отсутствие консолидирующего фактора;
5. Слабо развитое гражданское общество;
6. Монополизация власти и политическая слабость оппозиции;
7. Персонификация власти и ориентация на харизматические личности;
8. Раскол общества: в Эстонии с доминантой этнического раскола, в России – «центр-периферия». Также в российском обществе существенно противоречие между культурно-ценностным идеалом и восприятием социальной реальности.
Вторая глава «Политическая культура молодежи Эстонии и России» состоит из четырех параграфов и посвящена непосредственно сравнительному изучению политических культур эстонской и российской молодежи на основе результатов социологического исследования, проведенного автором. Исследование проводилось летом 2010 года. Выборочная совокупность построена как простая случайная выборка объемом 900 человек. Отбор респондентов в выборку проводился по следующим параметрам: возраст от 18 до 30 лет включительно (распределение производилось в соответствии с квотами, репрезентативными для исследуемой группы, по полу и возрасту), проживание в Санкт-Петербурге и Таллине, а также национальная самоидентификация молодых людей. Внимание к обозначенной возрастной категории обусловлено ожиданием, что молодежь в возрасте 18-30 лет имеет четкие представления о политических процессах своей страны, сформировавшиеся ценностные установки и определенные политические ориентации. Под национальной самоидентификацией понимается добровольное отождествление отдельного человека или группы людей с определенной национальностью. Индикаторами измерения политической культуры молодежи выступают: политическое участие молодежи, степень удовлетворенности молодежи политической системой, а также деятельностью общественных структур и институтов власти, доверие политическим институтам.
В первом параграфе «Молодежь как субкультура и как объект государственной политики в Эстонии и России» подробно характеризуется понятие «молодежь», даются эстонские и российские статистические данные о молодежи как социально-демографической группе четко определяются ее возрастные рамки. Проанализирован субкультурный подход к определению молодежи, рассмотрен ряд толкований терминов «молодежная субкультура» (, и др.), «контркультура».
Под молодежью в работе понимается особая социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей, которые зависят от общей культуры и социализирующих закономерностей, характерных для данного конкретного общества.
Многие исследователи называют нынешнее молодое поколение «потерянным» вследствие того, что воспитанием молодежи после распада СССР никто не занимался. В связи с этим далее в параграфе анализируются основные проблемы и достижения в области государственной молодежной политики ЭР и РФ. Анализируя российскую молодежную политику, делается вывод, что она пока недостаточно эффективна, хотя является доминирующей в реализации политики по отношению к молодому поколению, т. к. политические партии, как правило, не имеют четкой, разработанной, оформленной стратегии в этом направлении. До сих пор не принят единый закон о молодежной политике, в результате чего действия разных органов исполнительной власти по реализации политики оказываются нескоординированными. Таким образом, главными проблемами российской государственной молодежной политики в диссертации обозначены проблема информированности молодежи, проблема реального вовлечения ее в участие в реализуемые федеральные и региональные проекты, а также «мероприятийный» подход к молодежной политике, т. к. те проекты, которые на сегодняшний день осуществляются, в основном сводятся к проведению акций, митингов и фестивалей.
В ходе анализа эстонской государственной молодежной политики делается вывод о том, что в Эстонии к проблемам молодежи осуществляется комплексный подход: так или иначе к молодежной политике частично относятся все министерства ЭР. Однако здесь структуры и возможности развиты по регионам неравномерно. В крупных самоуправлениях много возможностей участия и другой деятельности, интересующей молодежь, но в маленьких самоуправлениях такие возможности часто отсутствуют. Цели и задачи структур зачастую неясны как для тех, кто принимает решения, так и для самих молодых людей. Также был выявлен такой существенный недостаток как проблема нехватки информации на русском языке.
Во втором параграфе «Факторы формирования и развития политической культуры молодежи» разрабатывается авторская классификация внешних и внутренних факторов (Таблица 2).
Таблица 2.
Иерархия факторов политической культуры молодежи
Субъективные факторы | Объективные факторы | |
1. | Интерес к политике | Социализирующие факторы: система образования и воспитания, семья, деятельность партий и общественных организаций, СМИ |
2. | Личный опыт | Государственная политика, политическая обстановка в стране |
3. | Система политических ценностей | Геополитический фактор |
4. | Материальный фактор | |
5. | Религиозный фактор | Этнополитический фактор |
Обобщая результаты как экспертного опроса, так опроса молодых людей методом раздаточного анкетирования, в работе делается промежуточный вывод о том, что в иерархии наиболее значимых факторов политической культуры молодежи лидирует система образования и воспитания, второе место занимает семья, далее – личный интерес к политике, государственная политика, СМИ, деятельность партий и общественных организаций, личный позитивный или негативный опыт, положение государства в мире (геополитический фактор), материальное благополучие (материальный фактор), национальные традиции (этнополитический фактор), исторический опыт и глобальные исторические события (фактор социальной памяти, или социальный фактор) и религиозное учение (религиозный фактор). Отметим, что материальный фактор мог восприниматься респондентами двояко: и как экономическое положение, сложившееся в обществе, экономическую политику государства, что является объективный фактором, и как личное материальное благополучие, что является субъективный фактором политической культуры. По мнению диссертанта, материальный фактор все же следует отнести к субъективным факторам, т. к. экономическая политика является в предложенной классификации составной частью объективного государственного фактора.
В третьем параграфе «Политическая культура Эстонии и России как инструмент политической социализации молодежи» рассматривается понятие политической социализации как включение индивида в политическую систему через оснащение его опытом предыдущих поколений, закрепленным в культуре. На основе практического социологического исследования, проведенного автором, предпринимается попытка измерить степень политической включенности молодежи по ряду индикаторов, одним из которых является уровень интереса к политике в целом, что представляет собой когнитивный аспект политической культуры. В итоге среди опрошенных наиболее активно интересуются политическими событиями российские респонденты, в то время как наименее – русские, проживающие в Эстонии. Если же брать суммарное значение, то наиболее интересующейся является эстонская молодежь. На втором месте по интересу к политике находятся российские респонденты, русская же молодежь Эстонии менее всех заинтересована в политической информации.
С позиции частоты проявляемого молодежью интереса, лидирующее место занимает эстонская молодежь, принимавшая участие в опросе, более трети которой каждодневно следит за политическими событиями, а также русские молодые люди, проживающие в Таллине. Российские респонденты предпочитает следить за политическими новостями несколько раз в неделю, хотя все же четверть респондентов делает это ежедневно.
В ходе исследования обнаружена зависимость степени интереса к политическим событиям от пола (девушки проявляют меньший интерес к политике – среди них наблюдается наибольший процент совсем не интересующихся, тогда как более половины опрошенных молодых людей в той или иной степени проявляют интерес к политическим событиям), а также прямая зависимость между частотой проявляемого интереса и уровнем образования молодых людей (наиболее активны здесь оказываются респонденты с высшим образованием (70,2% проявляют интерес к политической информации чаще одного раза в неделю), а также с незаконченным высшим образованием, студенты (тот же показатель составляет 62,3%)), что подтверждает одну из выдвинутых гипотез исследования. Зависимости степени интереса к политике от возраста не обнаружено.
Выявлено, что наиболее популярными источниками информации политического характера являются интернет и телевидение, в то время как наибольшим доверием пользуются радио и печатные СМИ.
В большинстве ответов эстонские респонденты разделялись во мнениях по национальному признаку. Так, 65,9% опрошенных русских молодых людей не доверяет правительству, тогда как 48,2% эстонцев доверяет.
Существенно повысился уровень неудовлетворенности респондентов существующей политической системой. Здесь выявлена зависимость между уровнем удовлетворенности политической системой общества и уверенностью молодых людей в завтрашнем дне. Причем зависимость от материального положения молодого человека не столь существенна. Наблюдается резкое повышение уверенности в завтрашнем дне лишь у группы респондентов с очень высоким уровнем дохода.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |





