г. Иваново
Дискриминация в сфере труда в представлениях, опасениях и практиках молодежи.
Данная статья входит в исследовательскую компоненту проекта «Преодоление гендерной дискриминации как способ обеспечения гендерного равенства», осуществляемого Ивановским центром гендерных исследований при поддержке Global Opportunity Fund в гг. Проект, посвященный вопросам противодействия дискриминации и аккумулированию наиболее успешных практик такого противодействия, в ходе реализации его практической части позволил проследить характерную тенденцию. В работе практических семинаров-тренингов участники – представителям администрации, общественных организаций, местных органов самоуправления – осознавали пользу и необходимость выработки практик межсекторного взаимодействия для решения проблем социальной значимости, но им не удавалось концентрировать внимание только на вопросах гендерной дискриминации.
Данные, полученные в ходе реализации проекта, весьма показательны. Они подтверждают низкую актуальность для целевой группы гендерной проблематики самой по себе, даже в случае обсуждения темы дискриминации. Помещая тему гендерной дискриминации в контекст общих социальных проблем местное сообщество склонно не признавать самостоятельного значения вопросов гендерного неравенства. Оно выходит на гендерную проблематику через попытки решить другие социальные проблемы, среди которых низкий уровень жизни населения, угроза безработицы и проблемы занятости, связанные с нарушением прав работников, проблемы социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, социальной включенности пожилых людей, комплекс проблем, с которыми сталкиваются неполные семьи. Только такой широко взятый контекст актуализировал для участников проекта гендерный аспект дискриминации. Оказывалось, что по большей части с этими проблемами сталкиваются и пытаются их разрешить и для себя и для других именно женщины. Однако в целом участники не склонны были трактовать часть социальных проблем как гендерную дискриминацию. Даже признавая наличие ее в сфере, например, трудовых отношений, участники оправдывали конкретные проявления дискриминации, основываясь на традиционных стереотипах и ссылаясь на экономическую рациональность. Таким образом, слабому осознанию актуальности гендерной дискриминации соответствовало уже отмеченное в исследовательской литературе искажение связи между гендерной дискриминацией и фундаментальной проблемой социального неравенства, выраженное в гендерных стереотипах, ограничивающих социальные возможности мужчин и женщин[1].
Отдельной группой в ходе проекта обозначились вопросы, связанные с дискриминацией молодежи. Свой отпечаток наложил географический и экономический контекст проекта: во-первых, Иваново является студенческим городом (7 старых государственных вузов, не считая новообразованных и филиалов), во-вторых, на распределение выпускников на рынке труда влияют условия экономического кризиса. До кризиса часть выпускников, заинтересованных в профессиональной реализации, мигрировала в Москву, остальные устраивались в городе, в большинстве случаев не по специальности. Кризис увеличил предложение рабочей силы на ивановском рынке и сократил спрос на нее, что выразилось в откате назад культуры трудовых отношений - в систематическом нарушении прав всех работников. Поскольку одним из оправданий дискриминации являются традиционные стереотипы и представления о гендерных ролях, характерные для постсоветского общества, представляет интерес, насколько молодежь, выходящая или вышедшая на рынок труда, готова поддерживать в своих представлениях и действиях сложившиеся тенденции. Актуальными в данном случае являлись вопросы вступления молодых людей на специализированный рынок труда и осознание ими дискриминации, чувствительность к ней, предпочтительные поведенческие практики, изменение взглядов.
Мы ожидали подтверждения отмеченных закономерностей на местном материале, а также предполагали, что столкновение с реалиями рынка труда обострит гендерные различия в представлениях и установках, сглаженные во время обучения. Предполагалось, что будет расти различие дискриминационного опыта между мужчинами и женщинами. Среди основных предположений было также формирование у молодых людей, вышедших на рынок труда, в условиях дискриминации модели поведения схожей с моделью более старшего поколения, что подтверждало бы отмечаемую в последнее время низкую социальную и политическую активность молодежи.
На основании анкетирования 200 человек, среди которых были студенты, выпускники вузов, представители более старшего возраста[2], были проанализированы гендерные стереотипы, осознание факта дискриминации и уровень его рефлексии, имеющийся опыт в этой сфере, а также поведенческие установки[3].
Стереотипные представления как основа дискриминации
Определение существования стереотипных представлений позволяло понять, как осуществляется легитимация явлений дискриминации, в частности, гендерной дискриминации в сфере труда.
Представления о распределении гендерных ролей отражают постсоветскую специфику, где социалистическая гендерная модель вступила во взаимодействие с традиционными представлениями. Семья как сфера воспроизводства отражает эти тенденции. Ответ на вопрос о том, кто должен быть лидером в семье, показывает, что 46% опрошенных полагают, что все зависит от ситуации; 38,5% считают, что лидировать в семье должен мужчина; 4% - женщина; 11,5% дали другие ответы, среди которых, например, паритетные отношения. Таким образом, на уровне представлений о нормах довольно сильно проявляются традиционные взгляды, а семья однозначно воспринимается как сфера осуществления власти, причем часто не женщины, традиционно ассоциирующейся с семьей, а мужчины. Идея партнерской модели семьи явно не закладывается в качестве нормативных представлений в нашем обществе.
Другим показателем, позволяющим проследить, насколько в сознании общества поддерживается постулат о разделении основных функций женщин и мужчин, составляющий гендерную основу демографической политики государства и информационного сопровождения этой политики, является ответ на вопрос о том, кто должен нести ответственность за воспитание детей. Подавляющее большинство респондентов полагают, что воспитание детей – совместная ответственность обоих родителей; 9,5% считают, что это – забота матери; 2,5% - отца. Показатель стереотипа, соответствующего традиционному взгляду на женщину-мать ниже, чем противоречащий этому представлению. Правда при этом на 5,5% больше респондентов полагают, что выполнение домашних обязанностей не ограничивает профессиональные возможности человека, а отдают себе отчет в том, что домашние обязанности ограничивают возможности карьерного роста всего 17% респондентов. Таким образом, снимается вопрос о перераспределении функций в ведении домашнего хозяйства, что позволяло бы избежать гендерной дискриминации еще на стадии определения возможности для реализации индивида в профессиональной сфере.
Комплекс стереотипов в отношении исключительной роли мужчин в производственной сфере гораздо устойчивее в сознании аудитории. Связан он, в основном, с теми показателями, которые, как мы увидим ниже, касаются приоритетного права мужчины в контроле над ресурсами, т. е. властью. Вопросы, освещающие представления о гендерных отношениях в производственной сфере, раскрывают указанную закономерность.
Представления респондентов о том, чья карьера важнее, свидетельствуют о наличии и устойчивости стереотипа о приоритетности карьеры мужа (25,5%). Однако люди руководствуются и реальными жизненными обстоятельствами, при которых в семье можно временно поступиться карьерой мужа в пользу карьеры жены, если необходимо (34,5%), а также развивать обе карьеры (38,5%).
Казалось бы, общая картина свидетельствует о вполне модернистской тенденции – слабости стереотипа об исключительной важности карьеры мужа. Но ответы на вопрос, кто должен больше зарабатывать, продемонстрировали довольно традиционные представления респондентов: мужчина – 63 % (126), женщина – 1 % (2), не имеет значения – 36% (72). При этом императив долженствования (социального долга), присутствующий в формулировке вопроса, только подчеркивает традиционность респондентов в представлении о гендерных ролях.
Представления о качествах работника в зависимости от пола выглядят вполне нейтрально и не свидетельствуют о недооценке или переоценке работника на основании его принадлежности к полу. Подавляющее большинство респондентов – 89 % - декларируют, что не имеет значения пол работника, главное его профессиональные качества. При этом большинство из них также считают, что не имеют предпочтений относительно пола начальника – 62,4%. Однако при этом треть из тех, кто не считает важным показателем пол работника (29,2%), все-таки полагают, что мужчина в качестве начальника предпочтительнее. Это свидетельствует об имеющейся и довольно значительной тенденции оправдания вертикальной дискриминации женщин.
Показатели, позволяющие вскрыть на уровне стереотипов тенденции к трансляции горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда, свидетельствуют, что предубеждения относительно видов деятельности хотя и немного более устойчивы, но соответствуют тому факту, что больше значения придается качеству работника, а не его полу. Две трети (16 из 22) в предложенном респондентам перечне профессий отмечены как в целом нейтральные, т. е. пригодные для мужчин и женщин. Наиболее высокие показатели здесь у врача (89%), писа,4%), художника (90%), музыканта (93,5%), артиста (95%). Есть профессии, по которым мнение респондентов колеблется: почти поровну сторонников и мужественности и нейтральности профессии у политика, программиста, банкира и президента. Разница сторонников здесь составляет от 2% у программиста (в пользу нейтральности), до 6,6% (в пользу мужественности) у президента и 17,6 % (в пользу нейтральности) у банкира. Однако есть профессии, сохранившие свою гендерную окраску в глазах респондентов: слесарь (91%), военный (88,4%), летчик (88%), строи,4%).
Модернистские тенденции в гендерных стереотипах, несомненно, присутствуют. Они выражаются в поддержке утверждения об обоюдной ответственности родителей за воспитание детей, в том, что большинство респондентов склонны не придавать приоритетную важность карьере мужа, в довольно распространенном индивидуализме в оценке качеств работника. Представления о сферах профессиональной деятельности свидетельствуют об изменениях в общественных стереотипах о «мужских» и «женских» видах деятельности, что умаляет оправдания гендерной сегрегации на рынке труда ссылками на способности женщин и мужчин. Но возникает вопрос, насколько это действительно модернистские тенденции, нет ли здесь процесса, закрепляющего постсоветский гендерный порядок?
Общая тенденция в стереотипных представлениях такова – женщина, конечно, может иметь возможность заниматься, чем ей хочется: зарабатывать деньги, делать карьеру, но уж мужчина-то в любом случае должен это делать и быть главой семьи. Поэтому, если «дискриминация – это действия, закрывающие членам отдельной группы доступ к ресурсам и источникам дохода, доступным для других»[4], подобная особенность стереотипных представлений, несомненно, будет способствовать гендерной дискриминации. Она закрепляет за мужчиной контроль над ресурсами как социальную норму, а также показывает, что модернистские сдвиги в гендерных представлениях носят пока характер не перераспределения гендерных ролей, а допущения части женщин к мужским функциям и ролям. Возможно, это временное явление, отражающее начальный этап гендерной трансформации и отсутствие эффективной государственной эгалитарной политики.
Сравнение возрастных групп скорректировало гипотезу о формировании у молодых людей, вышедших на рынок труда, позиций, сходных со взглядами и установками более старшего поколения, подтверждающих низкую социальную и политическую активность молодежи.
Различия показателей возрастных групп относительно лидирующей роли в семье не дают однозначных ответов. Представители старшего возраста в меньшей степени придерживаются стереотипа о доминирующей роли мужчины (32,3 %), чем студенты и выпускники (41,2% и 41,8% соответственно). Они чаще полагают, что женщина может играть лидирующую роль (6,2%). 53,8% «старших» не считают, что это должно иметь какое-либо значение. Среди студентов и выпускников сторонников такой точки зрения меньше – 44,1% и 40,3% соответственно. Но среди студентов выше процент тех, кто полагает, что ответственность за воспитание детей должны разделить оба роди,7%), на 3,1% больше по сравнению с выпускниками и на 8,2% больше по сравнению со «старшими», хотя разница в зависимости от возраста невелика.
Студенты оказались больше привержены позиции, что карьера мужа важнее карьеры жены или равного карьерного успеха обоих (31%), опережая даже «старших» (27,7%). А выпускники оказались наименее подвержены таким стереотипам (18%), возможно потому, что для них это период, когда представители обоих полов начинают свою трудовую деятельность. Выпускники (79%) наиболее склонны учитывать жизненные обстоятельства и не придерживаться стереотипа, что на 9% больше, чем число таких сторонников среди «старших» (70%) и на 10%, чем среди студентов (69%). «Старшие» четче осознают, что выполнение домашних обязанностей ограничивает возможности профессионального роста (29,2%), чем студенты (11,8%) и выпускники (10,4%).
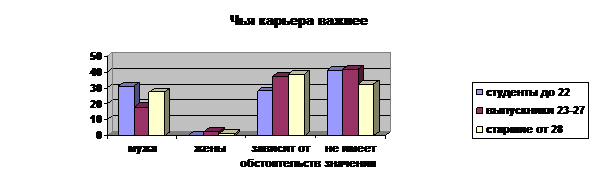
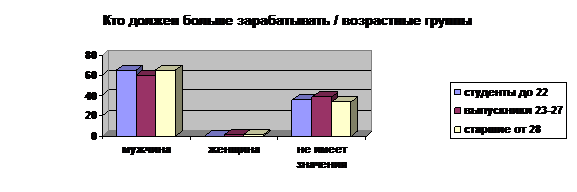
Различия стереотипности гендерных представлений по возрастным группам в вопросе о гендерных ролях – основе экономической независимости мужчин и женщин – не значительны. Хотя можно отметить, что выпускников на 3,5% больше, чем студентов высказалось в пользу того, что не должно иметь значения, кто больше зарабатывает и на 5% меньше, что зарабатывать должен мужчина, соответственно. Приверженцами относительного гендерного равенства («не имеет значения») в вопросе желаемых доходов оказались 35,3% студентов, 38,8% выпускников и 33,8% людей старше 27 лет.
Возрастные различия при выборе профессий не слишком значимы, хотя молодежь чаще, чем «старшие» отмечают отдельные профессии как мужские. Наиболее значимые различия по возрастным группам оказались у профессий врача, программиста, строителя, следователя, президента, которых студенты и выпускники чаще, чем «старшие» склонны считать мужскими профессиями.
Таким образом, больших различий в гендерных представлениях возрастных групп не оказалось. Значительные расхождения в возрастах есть по вопросам лидерства в семье (старшие считают, что не имеет значения – разница 10%), приоритетности карьеры (наименее консервативны выпускники – разница 10%), влияние выполнения домашних обязанностей (наиболее учитывают это обстоятельство старшие – разница 17%). Эти показатели могут свидетельствовать о том, что у старшей группы представления в большей степени отражают сложившуюся жизненную практику.
Различия в зависимости от пола респондентов более значительны и обнаруживают устойчивую тенденцию. Более традиционные взгляды на семью демонстрируют мужчины. 48% из них и только 29% женщин считают, что в семье должен лидировать мужчина. Разница почти в 20% очень показательна и почти свидетельствует о вероятном противоречии во взглядах на гендерную модель у ее носителей. Представления о том, что женщина может лидировать в семье, не различаются – так полагают по 4% мужчин и женщин. Женщины больше, чем мужчины склонны придерживаться более гибких и даже эгалитарных представлений. 67% женщин (и 48% мужчин) высказывались, что все зависит от ситуации или не имеет значения, или что отношения должны строиться на основе партнерства. Таким образом, различия представлений в зависимости от пола составили 19%.
Представление об ответственности за воспитание детей весьма интересно: абсолютное большинство и женщин и мужчин полагают, что ответственны за это оба родителя. Сопоставление с остальными показателями свидетельствует о том, что это не представление о равном родительстве, а скорее о разделении функций родительства, при котором мужская ответственность подразумевает роль кормильца и главы семьи. В целом мужчины более консервативны: их на 5% больше, чем женщин придерживаются представления об исключительной ответственности женщины, и на 6% меньше считает, что ответственность должна распределяться поровну.
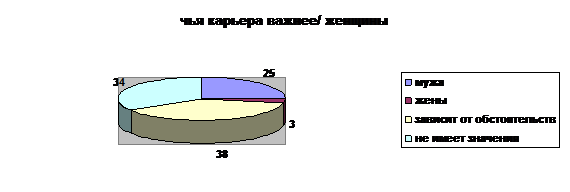
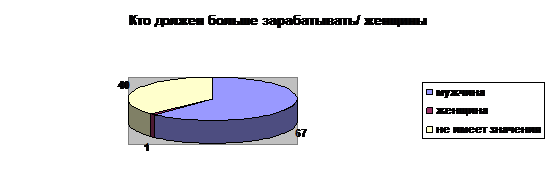
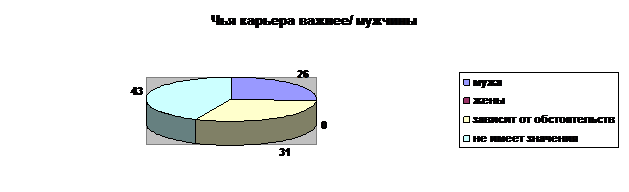
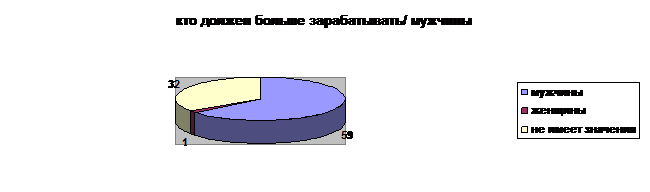
Различие представлений мужчин и женщин в вопросе о том, чья карьера важнее, не слишком велико, однако значимо. Мужчины более консервативны – не один из них не посчитал, что карьера жены важнее, а среди женщин такого мнения придерживаются 3%. Женщин также на 7% больше, чем мужчин, считают, что приоритеты могут меняться – 38% женщин и 31% мужчин ответили «в зависимости от обстоятельств». Традиционное представление о том, что однозначно важнее карьера мужа, разделяет четверть респондентов обоего пола, хотя мужчин на 1% больше: 26% мужчин и 25% женщин. Большинство и женщин (72%) и мужчин (74%) не имеют однозначного взгляда на этот вопрос, полагая, что все зависит от обстоятельств или не имеет значения, кто делает карьеру.
Однако этот высокий показатель не свидетельствует об отсутствии стереотипа, на что указывают другие показатели, рассмотренные ниже. Он скорее говорит о представлении о том, что и у мужчин и у женщин в принципе может быть карьера, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства, но все-таки предпочтительней, чтобы она была у мужчины. При этом осознание того, что домашние обязанности реально ограничивают профессиональные возможности человека, наблюдается у 18% мужчин и 16% женщин; 18% мужчин и 27% женщин полагают, что домашняя работа их не ограничивает. То есть для женщин совмещение домашних обязанностей с профессиональной деятельностью более привычно, и они не воспринимают двойную нагрузку как ограничивающую возможности. Подобная трактовка «равноправия», отмечалась в исследованиях и прослеживается в обыденных представлениях[5].
Во всей выборке мужчины более консервативны в представлениях об экономической состоятельности – их на 8% больше, чем женщин считает, что должен больше зарабатывать мужчина (67% - мужчин, 59% - женщин). Хотя, как видим, этот разрыв не настолько велик, чтобы свидетельствовать о конфликте во взглядах полов на вопрос финансовой независимости. Стереотип подтверждает, что гендерная дискриминация в оплате потенциально оправдывается ожиданиями, как мужчин, так и женщин. В целом, мужчины более консервативны и склонны придерживаться стереотипных взглядов, в то время как женщины больше склонны учитывать жизненные обстоятельства и не придерживаться гендерных стереотипов.
Ведение совместного хозяйства[6] не оказывает значительного влияния на предубеждения респондентов. Различия в представлениях о том, кто должен быть лидером в семье, чья карьера важнее, представления об ответственности за воспитание детей не превышают 3,5%. Те, кто проживает вместе, чаще высказывались в пользу больших заработков мужчины (69,9%), чем одинокие (59,4%) или пары не проживающие совместно (58,6%). Последние чаще склонны не придавать значения тому, кто больше зарабатывает (41,4%), чем первые (28,8%). Таким образом, совместное проживание способствует поддержанию представления о мужчине-кормильце.
Наличие детей[7] не влияет на представления респондентов о том, кто должен играть в семье лидирующую роль, кто должен нести ответственность за воспитание детей, чья карьера важнее. Но представления о роли мужчины-кормильца значительно больше склонны поддерживать те, у кого есть дети. Так из тех респондентов, у кого есть дети, 74,2 % высказались за то, что зарабатывать в семье должен мужчина, а из тех, у кого детей нет – 58 %. Посчитали, что не имеет значение – 24,2% и 41,3% соответственно.
Таким образом, наличие детей сказывается на усилении традиционных воззрений относительно мужа-кормильца, что вполне соответствует тому, что деторождение является основанием для гендерной дискриминации, а, следовательно, важны не только сами по себе гендерные стереотипы, а способствующее их сохранению отсутствие политики гендерного равенства, социальной поддержки равного родительства.
Стереотипные представления продемонстрировали интересную тенденцию. С одной стороны, жесткое традиционалистское разделение гендерных ролей не прослеживается: не выражены безоговорочно и жестко представления о том, что традиционная женская роль – сфера семьи, заботы и ответственности за воспитание детей. Представления о женщинах как бы размыты, они имеют люфт в воспроизводственной и производственной сферах. Но представления о мужчинах, мужских ролях и функциях более традиционны. Они объединены позицией доминирования, контроля над ресурсами и власти. Ситуация со стереотипными представлениями респондентов такова, что они более вариативны в отношении женщин, и более жестки, неизменны в отношении мужчин. Носителями изменений в большей степени являются женщины, мужчины более консервативны. Вряд ли можно считать, что эта тенденция свидетельствует о развитии эгалитарных представлений. Скорее она свидетельствует о том, что сохраняется отмеченная многими исследователями постсоциалистических гендерных изменений модель, где за женщиной закрепляется двойная нагрузка, а маскулинность конструируется как позиция доминирования.
Это означает, что в условиях выбора в реальной ситуации предпочтение по сохранению более высокого статуса с большей вероятностью будет оказано мужчине. Основа для дискриминации присутствует в этих представлениях. Менее конкретные вопросы открывают, что респонденты «вообще» готовы к представлениям о равенстве, с оговоркой того, что это будет гендерное равенство «по пост-советски».
Осознание дискриминации и чувствительность к ней
Понимание дискриминации и уровень рефлексии о ней выяснялись с помощью ряда вопросов, затрагивающих связь между основаниями и явлениями дискриминации. Участники опроса предполагают существование групп населения, чьи права и возможности могут ущемляться наиболее регулярно. Среди наиболее дискриминируемых групп в сфере труда респонденты выделяют людей предпенсионного возраста (78,4%) и молодежь до,6%). Подавляющее число респондентов (80,3%) считает, что на работу труднее устроиться женщине.
Данные анкетирования показали, что 73,7% респондентов знают слово дискриминация и считают, что она является правонарушением и подлежит наказанию. Представление о том, что такое дискриминация имеют почти все респонденты (91%). Из них большинство считает (59,5%), что это – ущемление прав, 16,5% - предубеждения в отношении группы людей, 12% - несправедливое отношение к человеку. Первый показатель свидетельствует не только о том, что правовой аспект ближе и понятнее, но и о том, на наш взгляд, что участники не до конца проводят различия между дискриминацией и нарушением прав вообще, явлением, распространенным в российском обществе в трудовых отношениях. Большинство респондентов признают, что могут столкнуться с дискриминацией в будущем (60,4%), меньше одной пятой (17,3%) полагают, что, скорее всего, этого не произойдет, а 22,3% затрудняются ответить на этот вопрос.
Половина респондентов считает, что чаще всего дискриминация встречается в трудовой сфере, 29% - везде в равной степени, 18% - в политике. Сфера семейных отношений в целом не воспринимается как зона возможного возникновения дискриминации, хотя и здесь 8,5% полагают, что там она тоже имеется. При этом о способах противостояния дискриминации на момент опроса имели представление 51,5% респондентов, из которых четыре пятых считали обращение к юристу и отстаивание прав в суде основным или единственным путем. Таким образом, для исследуемой группы общественности дискриминация существует как объективная данность жизни, опасность столкнуться с которой чрезвычайно высока, а значит значительна и актуальность проблемы.
Показательным для выяснения понимания корней гендерной дискриминации на рынке труда стал вопрос о том, кому легче сделать карьеру. Респондентам были предложены варианты в зависимости от пола, брачного статуса и наличия детей. 29,5% считают, что мужчине легче всего сделать карьеру, 30% - полагают, что пол, состояние в браке и наличие детей не влияет на карьерные возможности человека. Почти одинаковое число – 17 и 18% - полагают, что карьера легче всех пойдет у одинокой женщины или у женатого мужчины. Были даже такие, кто наивно считает, что имеющей детей одинокой женщине легче сделать карьеру, чем всем остальным: 2% – 4 человека.
В целом 64,5% респондентов отдают себе отчет в том, что сложно добиться карьерного роста женщинам с детьми, вне зависимости от брачного статуса, и одиноким мужчинам с детьми. Результаты показали, что общество видит связь между профессиональным продвижением и семейными обязанностями. Но респонденты склонны недооценивать ограничения возможностей женщины в связи с наличием детей и с той двойной нагрузкой, которую она выполняет, и не прослеживать связи между сохранением такого порядка и гендерной дискриминацией.
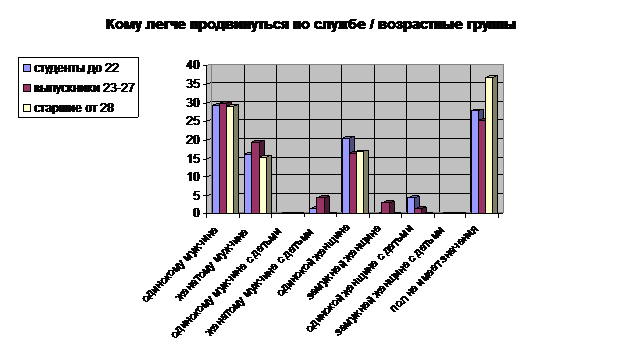
Возрастные различия данных высвечивают специфику выпускников как группы. Сравнение показателей опасений по поводу устройства на работу показывает, что действительно проблема для молодежи существует. Так, больше всего опасаются трудностей при устройстве на работу именно выпускники, которые сталкиваются с этим после окончания вузов: 22,4% выпускников по сравнению с 13,4% студентов считают, что есть такая проблема.
Наиболее оптимистически на возможность избежать дискриминации при устройстве на работу смотрят студенты, еще не столкнувшиеся в полной мере с ситуацией на рынке труда, хотя и они опасаются дискриминации женщин: 73,5% из них полагает, что женщинам труднее найти работу. Больше всего ожидают гендерной дискриминации выпускники (86,2%), что, возможно, связано с тем, что молодежь в интервале 22-27 лет обзаводится семьей и детьми. У выпускников (30,1%) по сравнению с другими группами (студенты – 16,2%; старшие - 10%) чаще встречается осознание дискриминации как предубеждения в отношении человека или группы людей. Таким образом, их уровень понимания явления более глубок, учитывает не только сам факт нарушения прав, но и механизм оправдания этого факта, предубеждения в отношении целой группы лиц. В группе молодежи – студентов (73,5%) и выпускников (56,2%) – выше осознание правового аспекта дискриминации, причем именно девушки осознают ее как нарушение прав чаще – их число в среднем на 4% выше по этому показателю. Сравнение этих данных позволяет считать, что ожидаемая гендерная дискриминация начинает проявляться, когда молодежь выходит на рынок труда, и что она недооценивается как самими молодыми в период получения образования, так и людьми среднего и старшего возраста.
Студенты (81,8%) и «старшие» (92%) выбирали обращение к юристу почти как единственный знакомый им способ противостояния дискриминации. Выпускники, хотя также отдавали ему предпочтение (61,8%), но называли и использование собственных связей (26,5%) и обращение в вышестоящие органы власти (23,5%), что, в общем-то, не очень эффективно в таком случае и свидетельствует о том, что респонденты на самом деле не настроены на открытое противодействие и не имеют достаточной правовой культуры. В сравнении с более глубоким пониманием явления, отмеченным у выпускников, препочтенные ими способы свидетельствуют о сознательном выборе не преодоления, а обхода дискриминации или манипулирования ею.
Сравнения показателей по полу респондентов показывают значительные различия, обозначившиеся в осознании существования проблемы и выражающие опасения респондентов. Женщин на 9% меньше, чем мужчин опасается дискриминации в молодости, но больше в среднем возрасте (на 2%) и в предпенсионном (на 6%), поскольку для женщин трудовая дискриминация в этом возрасте – актуальная проблема. Уверенность, что женщинам труднее устроится на работу, чаще выражается именно женщинами (89,5% по сравнению с 69,9% мужчин). Этот интересный показатель свидетельствует о том, что дискриминация женщин при приеме на работу мужчинами гораздо слабее воспринимается как реальная проблема.
Интересно, что женщины чаще отмечают присутствие дискриминации в трудовой сфере (55% - женщины; 45,5% - мужчины), а мужчины – в политике (22,2% - мужчины; 14% - женщины). Этот показатель объясняется большей вовлеченностью в политическую сферу мужчин, но, с другой стороны, он нуждается в дополнительном изучении, поскольку может просто свидетельствовать о том, что аудитория не разграничивает четко дискриминацию и нарушение гражданских прав. Различий в толковании дискриминации не обнаруживается, хотя женщины в целом более склонны считать ее нарушением прав, а мужчины – предубеждением, но разница не превышает 3,5% от общей совокупности.
Женщины полагают, что легче всего сделать карьеру одинокому мужчине (30%) и женатому мужчине (19%). Мужчины считают, что легче карьера дается одинокому мужчине (29%), одинокой женщине (23%). Таким образом, по сравнению с женщинами, мужчины в меньшей степени чувствительны к вертикальной гендерной дискриминации. При этом женщин даже больше, чем мужчин считает, что пол и дети не имеют значения для карьеры – 33% (мужчины – 27%). То есть проблематизация совмещения обязанностей вызывает у женщин отмеченное выше опасение того, что они не справляются с этой двойной нагрузкой. В целом это свидетельствует, что понимание корней гендерной дискриминации заключается в представлении, что несправедливо предубеждение, будто женщина может не справляться с двойной нагрузкой. Вопрос о возможности перераспределения этой нагрузки, например, в партнерской модели семьи или политике поддержки равного родительства не формулируется в сознании общественности и соответствует закономерностям стереотипных представлений, отмеченным выше. Для людей, разделяющих эти предубеждения и пытающихся действовать в соответствии с ними, проблема с дискриминацией становится замкнутым кругом, а единственными эффективными практиками становятся не попытки преодоления, а приспособление, что и происходит в российском обществе.
Данные сравнения групп респондентов, распределенных по наличию детей, свидетельствуют о зависимости, не прослеживаемой или, скорее, отрицаемой ими. Если наличие детей не влияет на опасения дискриминации по возрасту, то оно повышает на 10%, именно за счет женщин-респонденток, уверенность в том, что они будут дискриминированы по полу. Наличие детей усиливает опасность гендерной дискриминации для женщины, но связь между этими явлениями не всегда пролеживается респондентами. Доля респондентов с детьми, полагающих, что с дискриминацией можно столкнуться в трудовой сфере (47%) меньше, чем доля бездетных (52%), на 5%. Но зато доля первых (35,5%), считающих, что дискриминация присутствует везде в равной степени, выше на 9,2%.
Таким образом, осознание проблемы трудовой дискриминации женщин и людей предпенсионного возраста в представлениях респондентов не вызывает сомнений. Актуальность проблемы трудовой дискриминации людей предпенсионного возраста осознается наиболее ясно, но недооценивается дискриминация молодежи при найме на работу, и женщин. Чувствительность к дискриминации в значительной степени зависит от того, является ли человек ее объектом. У дискриминируемых групп чувствительность к дискриминации по возрасту и полу выше, чем у остальных. Если дискриминация осуществляется в пользу какой-либо группы, она не воспринимается ею как таковая. Социальная рефлексия корней гендерной дискриминации неглубока и скорее приводит к закреплению проблемы, чем к ее решению. Молодежь, начинающая свою профессиональную деятельность, склонна к более глубокому пониманию явления дискриминации, однако стремится к развитию мягких тактик действия, не способствующих в перспективе разрешению проблемы.
Опыт и установки поведения в ситуации дискриминации.
Актуальность дискриминации подтверждается тем, что дискриминацию, по крайней мере, как нарушение своих прав, испытывали более трети респондентов. 39% всех респондентов считают, что их дискриминировали, 47,5% не испытывали дискриминации, 13,5% не могли точно ответить на вопрос. В общей совокупности с дискриминацией чаще сталкивались на работе и в государственных учреждениях (по 13,5%), в учебном заведении (8%). Больших различий такого опыта в зависимости от пола и возраста не выявилось. Но при этом, необходимо учитывать, что весьма значительная часть респондентов связывает с дискриминацией представления о нарушении своих гражданских прав, а не ограничение их на основании принадлежности человека к социальной группе.
Хотя 47,5% указали, что не испытывали дискриминации, но ответы на дублирующий вопрос показали, что на самом деле такой опыт есть у большего числа респондентов: 65% ответили, что, будучи объектом дискриминации, испытывали различные эмоции, среди которых в основном гнев (46,2%) и недоумение (38,5%). При дискриминации женщины в основном испытывали гнев и обиду, мужчины – недоумение и гнев.
Установки, нормативы поведения демонстрируют действительное поведение людей в ситуации дискриминирования. Готовность противодействовать дискриминации, в том числе гендерной, формально выражается респондентами довольно уверенно. Заявляют о готовности отстаивать свои права 41%, в определенных случаях 44%, не готовы 15%. При этом знание способов противодействия продемонстрировали 51,5% респондентов, т. е. меньше, чем суммарное число респондентов, заявивших о готовности к такому поведению вообще или в определенных обстоятельствах. Эти данные указывают, что в обществе не распространены знания о возможностях не только бороться с дискриминацией, но даже просто защищать свои права, хотя потребность такая существует и осознается.
Из известных самим респондентам способов: обращение к юристу или в суд (40% от общей совокупности респондентов); в вышестоящие органы управления (8%); в общественные организации (7%); применение своих связей или попытки урегулировать ситуацию частным образом (через беседу, например) (7,5%); применение силовых методов, указанное только студентами и выпускниками (4,5%); обращение в СМИ (2,5%); попытка урегулировать ситуацию за счет налаживания дружеской атмосферы в коллективе (2,5%); профессионального выполнения своих обязанностей (2,5%). Данные показывают, что распространение в обществе информации о способах и механизмах защиты своих прав является насущной необходимостью. Также они свидетельствуют о слабой активности институтов гражданского общества, которые могут эффективно осуществлять эту работу. Да и низкий уровень знания самих граждан о том, что можно обратиться в общественные организации указывает на слабую развитость гражданского общества. Этот вывод в свою очередь позволяет с уверенностью считать, если не действует наиболее эффективный механизм поддержки отстаивания своих прав, готовность защищаться, продемонстрированная респондентами, на деле будет реализовываться в очень слабой степени.
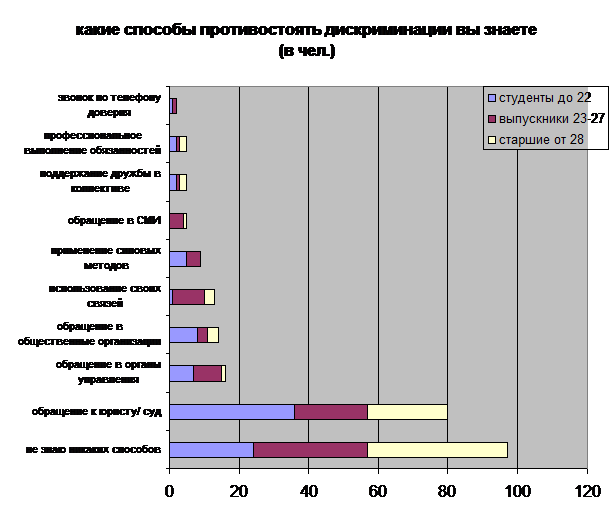
Респондентам также были предложены несколько способов противодействия. Из предложенных вариантов действий в случае, если они решились отстаивать свои права, абсолютное большинство во всех возрастных группах выбрали правовой путь – обратиться к юристу и в суд: 63,5%. Следующим приемлемым способом является привлечение связей собственных социальных сетей – 24,5%, и немного отстает от него – обращение к общественной организации, занимающейся защитой прав граждан – 22%. Можно констатировать, что для большинства респондентов, по крайней мере, на уровне предположений, правовые механизмы являются более желаемыми, хотя не известно, насколько это соответствует имеющемуся у них опыту. Высокий показатель для таких способов как использование ресурсов социальных сетей и гражданского общества опережает такие варианты как обращение в специальный орган контроля по соблюдению Трудового кодекса, к исполнительной власти. С одной стороны, это свидетельствует о росте уровня доверия к правовым механизмам, с другой, что люди и опасаются неэффективности этих механизмов и нуждаются либо в поддержке и консультации со стороны субъектов гражданского общества, либо возлагают надежды на собственные силы, возможно и во вне правового поля. Показательно, что общественные организации и социальные сети по частоте выборов почти равны. Т. е. ситуация находится на стадии выбора из двух механизмов: отстаивания прав через институты гражданского общества и приспособление и обхождения дискриминации с помощью социальных связей, как наиболее эффективного механизма социального взаимодействия в современном российском обществе.
Данные показатели могут свидетельствовать, что для горожан с высшим образованием, т. е. людей сравнительно грамотных, актуальным является вопрос получения дополнительной информации об общественных организациях, которые могут оказать им поддержку. Да и само появление таких организаций также весьма актуально, поскольку основное стремление обращаться в суд может в определенном количестве случаев привести к разочарованию в таком механизме. Практика показывает, что дела о дискриминации отечественные суды предпочитают не рассматривать, переводя их в дела о нарушении каких-либо прав. В данном случае видна взаимосвязь с теми определениями, которые респонденты давали термину дискриминация. Большинство считает, что дискриминация это скорее ограничение прав, а не предубеждение в отношении группы людей. Эта позиция свидетельствует о недостаточном понимании дискриминации как явления: более очевидно, что нарушаются права индивида, но не очевидно, что нарушаются они вследствие приписывания индивида к социальной группе и распространения на нее существующих предубеждений. А несоблюдение правовых норм вообще и дискриминация – явления все-таки разные.
Естественным продолжением этого являются реальные установки респондентов в условиях ситуации гендерной дискриминации. Им была предложена для оценки распространенная ситуация, в которой директор отказывается принять на работу молодую женщину, мотивируя свое решение тем, что она скоро выйдет замуж, уйдет в декрет, он потеряет работника и будет вынужден выплачивать пособие. Ситуация является наиболее распространенным случаем гендерной дискриминации на стадии приема на работу, опасным тем, что ограничиваются возможности человека, а доказать здесь факт нарушения прав почти невозможно. Мнения всех респондентов разделились практически поровну: 47% оправдывают действия директора, 50% - осуждают. Тем самым реальные установки респондентов свидетельствуют о том, что они в реальной жизни гораздо чаще готовы оправдывать дискриминацию, и тем самым, поощрять ее, чем заявляют в своих представлениях о том, например, что главное в работнике – профессиональнее качества, а не принадлежность к полу.
Существует зависимость от возраста готовности отстаивать свои права, или декларирования такой готовности. Доля студентов и старших, заявляющих о том, что они будут бороться за себя выше (41,8% и 43,1%, соответственно), чем доля выпускников (30%), которые предпочитают учитывать обстоятельства (53,3%).
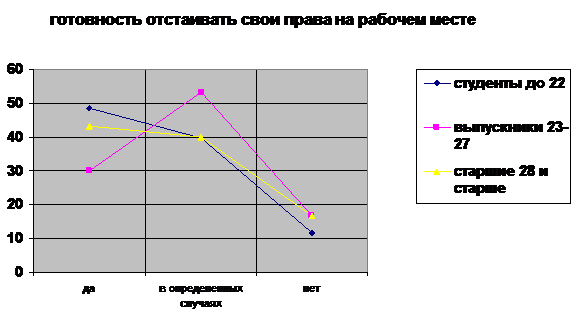
Возрастные различия в установках респондентов в реальной ситуации трудовой дискриминации женщин, показывают, что студенты, возрастная группа, не имеющая опыта работы, совместной жизни, детей, больше склонны осуждать дискриминацию - 60,3%. Чуть меньше показатель у «старших» - 58,5%. Наиболее нечувствительными к гендерной дискриминации и склонными ее оправдывать оказались выпускники, что вызвано их конкуренцией на рынке труда – только 31,3% осудили действия дискриминатора. Из них больше всего людей не просто оправдывает директора, но считает, что он прав – 13%; по сравнению с 9,2% - из «старших», 1,5% из студентов. Таким образом, сталкиваясь с реальностью рынка труда, молодежь склонна оправдывать и поддерживать дискриминационные практики. Кроме того, уровень рефлексии не позволяет им осознать связь между распределением ролей в семье, наличием детей и появлением гендерной дискриминации.
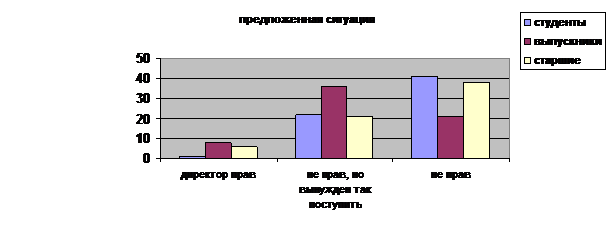
Различия в зависимости от пола в установках опрашиваемых очень показательны. Доля женщин, заявивших о готовности отстаивать свои права в случае дискриминации выше («обязательно» или «при определенных обстоятельствах»), чем доля мужчин на 10%: 79,8% - мужчины, 90% - женщины. Почти одно и то же количество женщин считает, что однозначно будет отстаивать свои права и, что будет отстаивать их в любом случае (разница – 0,9%). Мужчины склонны учесть обстоятельства и отстаивать свои права только в определенном случае (разница 4,4%). Кроме того, мужчин на 10,1% больше, чем женщин не готово отстаивать права при столкновении с дискриминацией при приеме на работу. Учитывая практику, можно с большой долей вероятности предположить, что эти выражения готовности, обозначают остроту проблемы и отношение к ней (приятие, неприятие, приятие на определенных условиях), чем реальную готовность действовать. И очевидно, что для женщин проблема дискриминации воспринимается гораздо острее, чем для мужчин.
Значимое различие женщин и мужчин в знании способов противостояния дискриминации заключается в том, что мужчины считают грубую физическую силу таким способом (18,4% от ответивших мужчин), чего вообще нет у женщин, которые чаще полагают, что обращение в органы управления поможет им (20,4% от ответивших женщин – на 10% выше, чем у мужчин).
Распределение по полам в ответ на предложенную ситуацию еще больше показательно. Из тех, кто безусловно одобряет дискриминацию, 80% - мужчины и 20% - женщины. Из тех, кто считает оправданными действия директора, хотя признает его неправоту 60% мужчин и 40% женщин. Из противников случая гендерной дискриминации на стадии приема на работу 60% женщины и 40% мужчины. Сами потенциальные жертвы подобной дискриминации – женщины – в первую очередь считают, что директор нарушает закон и никакие экономические обстоятельства его не могут оправдать. 60% женщин и 40% мужчин осуждают дискриминатора; оправдывают его действия 60% мужчин и 40% женщин, из которых 12% мужчин и 3% женщин считают его совершенно правым.
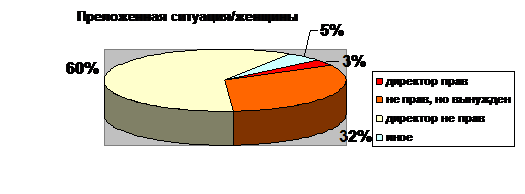
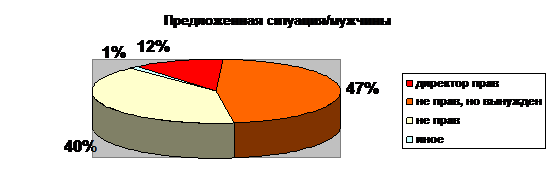
Таким образом, если мы можем говорить о том, что традиционные гендерные стереотипы в среде молодежи и старших людей с высшим образованием не слишком сильны, то установки к действию в этой среде способствуют поддержке дискриминации. И особенно характерно, что поддерживать дискриминацию склонны те социальные группы, в пользу которых она осуществляется. Такая зависимость укрепляет гендерную дискриминацию на рынке труда и указывает на маргинализацию проблемы.
Стереотипы и предубеждения, конечно, существуют и способствуют оправданию гендерной дискриминации в трудовой сфере. Стереотипные представления до сих пор отличает постсоциалистическая специфика, соответствующая гендерной модели, в которой за женщиной закрепляется двойная нагрузка, а маскулинность конструируется как позиция доминирования. Понимание корней гендерной дискриминации сводится к представлению о несправедливости предубеждения, что женщина может не справляться с двойной нагрузкой. На этом основывается ложная связь между причиной и следствием, способствующая воспроизводству проблемы и в процессе профессиональной деятельности каждого человека и для каждых новых групп молодежи, выходящих на рынок труда.
Понимание в обществе основ, истоков дискриминации искажено, но осознание ее существования в обществе есть, масштабы ее распространенности также оцениваются как почти повсеместные. Люди считают, что подавляющее большинство из них столкнется с этой проблемой. С дискриминацией чаще отождествляется нарушение гражданских прав как таковых, чувствительность к ней обусловлена принадлежностью к группе дискриминируемых, что не может сделать разрешение этой проблемы актуальным для всех. Существующая дискриминация по возрасту молодежи, не настолько высокая как дискриминация людей предпенсионного возраста и гендерная дискриминация, становится дополнительным контекстом для формирования у молодых специалистов практик поведения.
Данное небольшое исследование показало, что молодые люди, начинающие свою профессиональную деятельность после окончания вуза, специфичны в своих представлениях, ожиданиях, понимании и установках перед проблемой дискриминации. Это период, когда стереотипы особо не отличаются от других возрастных групп, они даже менее традиционны. Но адаптация к рынку труда формирует практики поведения, когда человек не готов, не понимает и не может противостоять явлению дискриминации, но хотел бы что-то сделать, когда его права будут ущемляться.
Предполагалось, что у молодых людей, вышедших на рынок труда, формируется модель поведения в отношении дискриминации аналогичная модели более старшей возрастной группы. Оказалось, что их модель даже еще менее ориентирована на противодействие дискриминационным практикам. Выпускники подстраиваются к условиям рынка – они соглашаются играть по предложенным жестким правилам, по которым дискриминация по возрасту и полу становится естественным элементом трудовых отношений. Более того, поскольку имеется выраженное опасение дискриминации выпускников по возрасту, способом ее ослабить для мужчин этой группы становится гендерная дискриминация. Для этой группы молодежи, как и предполагалось, при столкновении с реалиями трудовых отношений, обостряются гендерные различия, между полами проявляется более жесткая конкуренция, чем у других возрастных групп.
Таким образом, для преодоления дискриминационных практик необходимо обращать особое внимание на молодежь, выходящую на рынок труда, предложить ей альтернативы действий, предотвратить закрепление дискриминационных практик как нормальных, хотя бы отчасти повлияв на их воспроизводство. Одним из путей в решении этой проблемы должно стать развитие разных форм институтов гражданского общества, как условие необходимо развитие правового сознания и правового государства, без которого невозможно решить подобные проблемы. Наиболее эффективным механизмом, на основании которого может осуществляться подобная деятельность, является межсекторное взаимодействие, позволяющее аккумулировать возможности и ресурсы (в большинстве своем интеллектуальные, организационные и человеческие) и преодолевать организационные барьеры.
[1] Стоюнина-Здравомыслова неравенство и гендерная дискриминация: к постановке проблемы // Гендерная дискриминация: проблемы, подходы, решения. – Иваново, Ивановский центр гендерных исследований, 2008. – С.16.
[2] Выборка на основе квотного отбора (квоты заданы рамками начала трудовой деятельности на базе высшего профессионального образования) представлена тремя группами респондентов. Две основные группы: студенты старших курсов (возраста 20-22 лет) и выпускники первых лет после окончания вуза (возраста 23-27 лет). Для сравнения взята группа респондентов старшего возраста и продолжительного присутствия на рынке труда (свыше 27 лет). Всего было опрошено 200 человек. Первая группа – студенты, завершающие высшее образования с опытом или без опыта работы до 22 лет – 68 человек (34%) (33 мужчины, 35 женщин). Вторая группа – выпускники вузов, в возрасте 23-27 лет – 67 выпускников (33,5%) (33 мужчины, 34 женщины). Третья группа – люди более старшего возраста – 65 человек (32,5%) (34 мужчины, 31 женщина). Всего 100 мужчин и 100 женщин (50% и 50%).
[3] Инструментарием выбрано анкетирование указанных выше трех групп респондентов. Основные процедуры сбора и анализа данных включали анкетирование по 29 вопросам, выданным на бланке респондентам для самостоятельного заполнения. В соответствии с ключевыми гипотезами вопросы формулировались по следующим тематическим блокам: стереотипы, понимание дискриминации и уровень рефлексии, опыт и поведенческие установки.
[4] Социология. – М.: Эдиториал УССР, 1999. – С. 665.
[5] «Семья работающей матери базируется на скрытом гендерном неравенстве, внешним проявлением которого была пресловутая двойная занятость женщины, но на закате советской эпохи женщины выражали свою неудовлетворенность жизнью в словах «страдать от равноправия»» Стоюнина-Здравомыслова . соч. С.16.
[6] Большинство респондентов не ведут совместного домохозяйства со своими партнерами или одиноки – 63,5%. 36,5% живут вместе с партнерами. Из тех, кто не ведет совместного хозяйства, студенты - почти все (33,5%), за исключением 1 женщины, выпускники – 19%, старшие – 11%.
[7] Детей имеют 31% опрошенных, из них у студентов только 1 женщина (0,5%) имеет детей, подавляющее число имеющих детей – старшие – 22,5%, выпускники – 8%.




