О спектаклях народного театра «Пятый угол»
Спектакль, заставляющий думать…
(размышления о спектакле «Стена» по поэме Юстинаса Марцинкявичюса)
|
К юбилею Великой Победы мы с ребятами долго искали пьесу, и я предложила им поэму Юстинаса Марцинкявичуса «Стена». Материал архисложный: ритмическая проза, или белый стих, давались ребятам с трудом. Прибалтийские имена - Адомас, Марцеле, казались неблагозвучными. Мы разбили историю жизни Старухи на три части. Таким образом, помимо Старухи, возникли такие персонажи, как Девочка, Девушка, Женщина, Мать. Я старалась, чтобы ребята вместе со мной участвовали в работе над инсценировкой поэмы: искали те главные мысли, которые должны звучать рефреном у хора исполнителей. В этом спектакле была большая массовка: девушки в холщовых кофтах и длинных юбках перебирали фасоль, сматывали нитки в клубки, развешивали бельё в старом дворе. Так рождалась история любви и смерти, победы над собственным страхом, сопротивления Зверю, имя которому - Ненависть. |
21 апреля 2005 года актеры театральной студии колледжа «Пятый угол» в рамках XII фестиваля любительских театров «Театральная весна - 2005», посвященного юбилею Великой Победы, показали спектакль – размышление «Стена» по поэме Юстинаса Марцинкявичюса. Жюри фестиваля высоко оценило работу театрального коллектива, наградив дипломом лауреата Светлану Жиденову в номинации «Лучший спектакль», Александра Войтова в номинации «Лучшая сценография», Романа Келлера в номинации «Лучшее звуковое оформление», Ксению Сазонову и Реваля Мухамадеева в номинации «Лучший актёрский дуэт».

Понятно, что такой успех – не случайность, он оплачивается напряженной работой ума и сердца всех создателей постановки, и не только на репетициях. Поэтому спектакль долго не отпускал, отзывался эмоциональной болью, «царапал», заставлял возвращаться к уже пережитому и размышлять…
Насколько знакомо имя и творчество литовского поэта Марцинкявичюса студентам нашего колледжа? Вопрос, скорее всего, останется без ответа. Русских поэтов и писателей запомнить не всегда удается, а процитировать тем более. Уж слишком насыщенное информационное поле вокруг нас сегодня. Да и Литва сейчас – иностранное государство, но поэзия всегда существовала вне национальной принадлежности. Поэтому обращение режиссёра Светланы Жиденовой к поэме литовского поэта нам не кажется странным. Духовные и нравственные законы мирового культурного процесса ВЕЗДЕ и ВСЕГДА одинаковы: более 100 миллионов погибших в I и II Мировых войнах оплакивали матери и жены, родные и близкие, о них помнят и скорбят потомки в 69 странах! Всем матерям, чьи дети не вернулись с войны, посвятили спектакль «Стена» его создатели. Профессионализм режиссера, актерская искренность и эмоциональность помогли зрителям воспринимать события I половины 20 века (поэма написана в 1965 году), рассказанные на сцене, как происходящее в реальном временном пространстве, т. е. ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Жанр постановки режиссером определен как спектакль – размышление, что сразу настраивает зрителей на особое восприятие сценического действия. Приглашение к размышлению уже было заложено в музыкальном эпиграфе спектакля - органной «Токкате и фуге» (немецкого композитора 18 века), которого в XX веке Альберт Швейцер (доктор философии и медицины) назвал «чудом человечности». Думаю, что не случайно этой мелодией, торжественной и тревожной одновременно, начинается еженедельная телепередача «Человек и закон», представляющая нам нравственную амплитуду человеческих деяний и духовных ценностей.
Режиссер и сценограф бережно, уважительно, тонко обозначили национальный колорит сурового Прибалтийского края – звучанием органа, проекцией иллюстраций литовского художника Стасиса Красаускаса, женской холщовой одеждой, бесхитростной и точной картонной сценографией, воссоздающей стену старого дома. Скупость художественных средств компенсировалась актерской ансамблевостью, выразительностью исполнения, искренностью. Подкупает проживание, а не исполнение своих ролей всеми участниками спектакля, даже самых юных – Наташи Губарь и Максима Худякова. Ни капли фальши не прозвучало в подаче сложного, философского сюжета – извечной борьбы человеческого начала с животным, звериным: фантастического Динозавра и женщины, матери - носительницы жизни.
 Действие спектакля происходит на фоне стены, возле которой вяжет старуха, маленький мальчик стреляет из детского лука в нарисованного на стене зверя. Рядом старость и детство - символ жизненного движения и обновления. Жизнь катится, как клубок красных ниток, из которых старуха Марцеле (исп. Дарья Ступина) «вяжет» свои воспоминания: первый детский «поединок» с призраком страха и победу над ним (исп. Наташа Губарь). Позднее на стене появится созданная двумя сердцами формула: «Адомас + Марцеле = Любовь». Но зверь опять рядом. Он «рычит» пушкам I Мировой войны и проглатывает Адомаса. На этот удар Марцеле (исп. Ксения Сазонова) ответит новым вызовом: «На слове сокровеннейшем – ЛЮБОВЬ – был зачат сын. Ты слышишь – сын? Да, сын!». Но зверь не отступает, он вновь дышит жерлами орудий уже II Мировой войны и уносит с собой сына Марцеле. Комком в горле отзовется горе Марцеле (исп. Анастасия Зинович): «Такой высокий, сильный, такой красивый, юный. Он не мог пропасть без вести». В последние минуты жизни, на пороге вечности, старуха Марцеле вновь встречается с Динозавром, который «…преклонил пред ней свои колени, непобежденный, он лизал ей руки».
Действие спектакля происходит на фоне стены, возле которой вяжет старуха, маленький мальчик стреляет из детского лука в нарисованного на стене зверя. Рядом старость и детство - символ жизненного движения и обновления. Жизнь катится, как клубок красных ниток, из которых старуха Марцеле (исп. Дарья Ступина) «вяжет» свои воспоминания: первый детский «поединок» с призраком страха и победу над ним (исп. Наташа Губарь). Позднее на стене появится созданная двумя сердцами формула: «Адомас + Марцеле = Любовь». Но зверь опять рядом. Он «рычит» пушкам I Мировой войны и проглатывает Адомаса. На этот удар Марцеле (исп. Ксения Сазонова) ответит новым вызовом: «На слове сокровеннейшем – ЛЮБОВЬ – был зачат сын. Ты слышишь – сын? Да, сын!». Но зверь не отступает, он вновь дышит жерлами орудий уже II Мировой войны и уносит с собой сына Марцеле. Комком в горле отзовется горе Марцеле (исп. Анастасия Зинович): «Такой высокий, сильный, такой красивый, юный. Он не мог пропасть без вести». В последние минуты жизни, на пороге вечности, старуха Марцеле вновь встречается с Динозавром, который «…преклонил пред ней свои колени, непобежденный, он лизал ей руки».
Реальные и символические образы спектакля (Стены, Динозавра, луга), выразительные поэтические метафоры создают яркую художественную картину мира, в котором не утихает боль матерей, потерявших своих детей, и каждый должен победить свой страх. Повторение актерским ансамблем отдельных фраз помогает зрителям осознать их особую важность и глубинный смысл: «Единожды хотя бы, но человек при жизни показать язык обязан собственному Страху».
 Спектакль удивительно целостен, гармоничен, потому и ассоциативен. Искалеченный Адомас (исп. Реваль Мухамадеев), заставляет вспомнить безногого героя картины «Прагерштрассе» (1920г.) немецкого художника-экспрессиониста Отто Дикса, не желавшего хоть сколько-нибудь эстетизировать инвалидов войны. Так же, как автор и очевидец II Мировой войны – Юстинас Марцинкявичюс, Отто Дикс - пулеметчик и командир ударного взвода - так никогда и не смог освободиться от страшных воспоминаний о I Мировой войне. Инвалидное кресло, как символ неполноценности, «половинчатости» Адомаса, «будит» память: у Ремарка – немецкого автора, описавшего все ужасы I Мировой, в романе «На западном фронте без перемен» и в особенности в «Возвращении» мы не найдем ни одной красивой смерти или подвига в расхожем понимании. Только обрубки тел, страшные раны и страдания молодых солдат, которых война так и не выпустит из своих лап. Позже их назовут «потерянным поколением». Адомас не сможет вписать себя в жизнь полноценных людей, а тем более просить милостыню, как безногий инвалид из детских воспоминаний Марцеле. Инвалидных солдатских колясок сегодня на улицах нашего Омска (в относительно мирное время), немало. Но это уже «обманутое поколение»…
Спектакль удивительно целостен, гармоничен, потому и ассоциативен. Искалеченный Адомас (исп. Реваль Мухамадеев), заставляет вспомнить безногого героя картины «Прагерштрассе» (1920г.) немецкого художника-экспрессиониста Отто Дикса, не желавшего хоть сколько-нибудь эстетизировать инвалидов войны. Так же, как автор и очевидец II Мировой войны – Юстинас Марцинкявичюс, Отто Дикс - пулеметчик и командир ударного взвода - так никогда и не смог освободиться от страшных воспоминаний о I Мировой войне. Инвалидное кресло, как символ неполноценности, «половинчатости» Адомаса, «будит» память: у Ремарка – немецкого автора, описавшего все ужасы I Мировой, в романе «На западном фронте без перемен» и в особенности в «Возвращении» мы не найдем ни одной красивой смерти или подвига в расхожем понимании. Только обрубки тел, страшные раны и страдания молодых солдат, которых война так и не выпустит из своих лап. Позже их назовут «потерянным поколением». Адомас не сможет вписать себя в жизнь полноценных людей, а тем более просить милостыню, как безногий инвалид из детских воспоминаний Марцеле. Инвалидных солдатских колясок сегодня на улицах нашего Омска (в относительно мирное время), немало. Но это уже «обманутое поколение»…
БРАВО всем создателям этого спектакля и СПАСИБО за то, что разбудили зрительские ассоциации, заставили со-переживать, со-страдать, вспоминать, думать, размышлять.
Русско-венгерское дежа-вю на театральной сцене Промышленно-экономического колледжа
|
Светлана Жиденова поставила остросоциальный, больной, пронзительный спектакль о неблагополучии людском и жизненном… Сергей Денисенко, председатель жюри фестиваля – конкурса "Театральная весна" |
Спектакль «Куриные головы» поставлен Светланой Жиденовой по пьесе малоизвестного в России венгерского драматурга Д. Шпиро. Сегодня Венгерская литература стремительно завоёвывает симпатии европейцев и россиян, о чём свидетельствуют растущие тиражи переводов. В мире начинают понимать, что в небольшой стране создаётся совсем «немаленькая» литература, авторитет и признание которой формируются талантливыми прозаиками и драматургами, среди которых - Дьёрдь Шпиро.
Жанр спектакля режиссёром определён как «эпизод повседневной драмы» (необычное жанровое определение, но очень точное, для среза семейных отношений "отцов и детей").
На сцене - картонная сценография, имитирующая тесно населённый, неуютный, плохо освещенный типовой двор с нетелефонизированным бытом, с засохшим деревом посредине, входить в который и днём и ночью небезопасно. Как это знакомо и понятно каждому из нас! И уже забываешь о том, что автор пьесы – житель Венгрии, а не России.
Но спектакль начинается гораздо раньше. У входа в зал, на стенде, нанизанном на железную решётку (напоминающую тюремную), размещены газетные статьи о подростковых преступлениях. Газетные материалы, за которыми целые тома уголовных дел, помогали собирать студенты всех отделений колледжа. Содержание статей ужасает социально-бытовым натурализмом и, прежде всего, жестокостью детей и подростков.
Невольно задаю себе вопрос: зачем эта информация перед спектаклем? Войдя зрительный зал, вижу разделение пространства уже знакомыми "тюремными" решётками и понимаю, что это метафора двух миров: свободы и "зоны". В театральной программке спектакля нахожу подтверждение своим догадкам: "На самом деле стена, разделяющая наши миры, настолько тонка, что в любой момент может прорваться…".
Фотоколлаж из газетных заголовков и текстов служит подложкой для программки, сближая, таким образом, реальные события и обезличенный, безымянный мир героев спектакля – Мальчишки, Старухи, Приятеля, Отца, Учителя, Матери, Соседки… Вероятно, такие люди живут в любом уголке мира, не только в Венгрии.
Тень души главного героя – Мальчишки - наблюдает за происходящим на сцене. Эта пластическая и «бессловесная» роль (исп. Виктор Коровин) введена режиссёром, вероятно, не случайно. Неужели юный Мальчишка, которому всего-то 14-15-лет, уже «бездушен»? Почему душа вовне, отдельно, а не внутри? Вытряхнули, выгнали, убили? И кто это сделал – родители, соседи, общество?
Замкнутым пространством предстаёт убогий двор, в котором происходит многое, что составляет человеческие отношения и саму жизнь: из кошёлки Старухи сочится куриная кровь – символ и предвестник человеческой крови; подросток повесил на дереве кошку; горе пожилой женщины, ставшей совсем одинокой без Мурки; ненужные куриные головы, купленные кошке; общение ненавидящих друг друга соседей; равнодушие милиции и представителей власти; семейные откровения и убийство, совершённое детьми. Количество вопросов, обрушивающихся на зрителей через сценографию, пластику и актёрский текст в начале спектакля, можно сравнить с методом "мозгового штурма"! На шепот и обмен мнениями у зрительного зала нет времени, слишком динамично развиваются события, которые нужно понять.
Из рассказа Мальчишки (исп. Анатолий Мансуров), приехавшего из спецшколы на три дня к Отцу, мы слышим жёсткую правду и соглашаемся с фактами. Воспитатель в колонии «работу не любит, из-за квартиры работает». «Я семь спецшкол прошёл и вижу перед кем "Польку-бабочку" танцевать надо!». «Пап, я волком стал!» - а сам ещё ребёнок, фигурки животных выпиливает. Душа Мальчишки ещё окончательно не очерствела. Он в отличие от Приятеля менее жесток. Может, потому, что вкусил «тюремных радостей»? Отца любит, заботился о нём в прошлой, детской жизни, да и снова рад проявить заботу о родном человеке. Мальчишка познал звериные законы жизни в спецшколе и больше не хочет туда возвращаться. Ему нужен родной дом, где он вновь проявит заботу о своём инфантильном Отце, у которого за время отсутствия сына наступили «золотые года»: «Да мне сейчас любая годится от шестнадцати до сорока пяти, но я разборчивый стал… Молодость загубил из-за этой сучары…»?! Эти слова о жене и матери Мальчишки.
И далее безо всяких метафор, житейски подробно нам показывают будни соседей, как вспыхивают конфликты в атмосфере всеобщего непонимания и раздражения, произносятся пошлости, возникают ситуации, пробирающие до слёз…
В спектакле всё время ощущаешь очень ясную режиссёрскую смысловую акцентировку важнейших моментов. Отца (исп. Вячеслав Гребнев) больше волнует потерянное (по вине Старухи) государственное пособие на сына, нежели сам ребёнок и его судьба. Абсурд? Да! Недаром в центре сцены – засохшее дерево без листвы (у автора – перекладина для ковров) – символ одиночества, сиротства, ненужности. Мальчишка уже с детства не был нужен в этом мире ни Матери, ни Отцу. Маленькое дерево засохло, не успев вырасти. Сколько ассоциаций и символов! На мёртвом дереве повесил Старухину кошку Приятель - морально искалеченный ребёнок, так рано мечтающий о «зоне». В сравнении с главным героем биография Приятеля (исп. Леонид Котелин) нам не открыта. Но из диалогов мы понимаем, что в ближайшем будущем он обязательно окажется в местах заключения. «Я бы верхнюю полку занял», - говорит он Мальчишке. Приятель уже готов к жизни за колючей проволокой, где выживает сильнейший и унижен слабый. Он, Приятель, продукт вёстернизации: «Как в боевике!», с восторгом реагирует он на рассказ Мальчишки. Для Приятеля жизнь в спецшколе – мечта! Поэтому на убийство беззащитной кошки Мурки он шёл легко, не раскаиваясь, чувствуя себя при этом просто Рембо! Иллюзия геройства, поступки "сильного" вдохновляют Приятеля на «подвиги». Он смело идёт в дом к Старухе забирать то, что ему не принадлежит. Потому что отбирать - это его сегодняшний принцип!
Бравады и хамства, которые давно вытеснили из лексики Приятеля нормальную речь, даже больше, чем у Мальчишки. Драматург и режиссёр постоянно провоцируют и шокируют зрителей ненормативной лексикой – средством общения почти всех героев. Зачем? Единого мнения может не быть, но то, что Приятель духовно деградирует, отрицать невозможно. Что с него взять, ведь мозги-то «куриные»… В названии спектакля можно усмотреть двойной смысл: куриные головы, купленные для кошки и куриные головы как метафора, определяющая умственное развитие подростков. Роли двух мальчишек, выстроенные в очень чёткой, почти резкой графике, очень убедительны. Их грубоватые диалоги кажутся бытовыми, но за ними - изломанные судьбы и жизненные драмы детей.
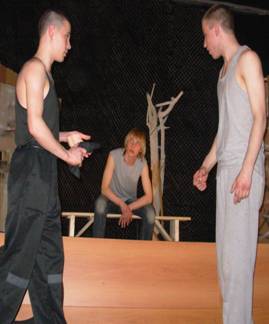 Актёры, рассказывая чужие истории, проживают их как свои собственные, которым бесконечно сочувствуешь. Поэтому мои зрительское ассоциации разбужены (браво, Леонид Котелин!) и возникает множество вопросов: «Отчего Приятель, как "бурьян", нагло и напористо утверждается в жизни? Где его семья? Почему она так его воспитала? Почему никто не "культивирует" этот молодой росток?»
Актёры, рассказывая чужие истории, проживают их как свои собственные, которым бесконечно сочувствуешь. Поэтому мои зрительское ассоциации разбужены (браво, Леонид Котелин!) и возникает множество вопросов: «Отчего Приятель, как "бурьян", нагло и напористо утверждается в жизни? Где его семья? Почему она так его воспитала? Почему никто не "культивирует" этот молодой росток?»
Постепенно приходит осмысление того, что ненормативная лексика в спектакле – это «отзеркаливание» языка молодого поколения, звучащего повсеместно. Зачем же нужно использовать такой язык ещё и на сцене? По законам Его Величества Театра, отрицательная энергия, направленная в зал, трансформируется в сознании зрителей в иную энергию – энергию сочувствия, добра и непринятия предлагаемой лексики. И чтобы нам было по-человечески больно за увиденное, режиссёр запускает в зрительный зал еще и «вакцину», «выстреливающую» трижды: грустно, смешно, трагично…
Любви ребёнка может научить только мать, и, прежде всего, своей любовью, своим примером. В спектакле появление Матери (Наргиза Абдиева исполнила блестяще эпизодическую роль!) шокирует зрителей – неопрятная, безразличная к родному сыну, с гремящими в сумке бутылками. Это жуткая режиссёрская гипербола, о которую мы «запинаемся», чтобы ощутить пошатнувшееся равновесие мира: созданный на сцене образ абсолютно типичен для российской действительности.
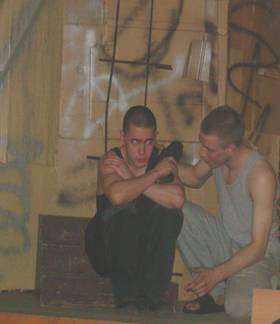 Статистика не только подтверждает это, но и ужасает: в России около 3 млн. детей живут в детских домах при живых родителях! А по неофициальным данным, в России 5 млн. никому не нужных детей, а потому в перспективе - осужденных. Депутаты Государственной думы только начинают формировать законы ювенальной юстиции, назначение которой - не карать, а предупреждать. А пока депутаты думают, из ненужных и брошенных детей растут «сорняки», вкусившие с пелёнок закон природы: «в жизни выживает сильнейший!».
Статистика не только подтверждает это, но и ужасает: в России около 3 млн. детей живут в детских домах при живых родителях! А по неофициальным данным, в России 5 млн. никому не нужных детей, а потому в перспективе - осужденных. Депутаты Государственной думы только начинают формировать законы ювенальной юстиции, назначение которой - не карать, а предупреждать. А пока депутаты думают, из ненужных и брошенных детей растут «сорняки», вкусившие с пелёнок закон природы: «в жизни выживает сильнейший!».
Зачем в наше депрессивное время (проконсультируйтесь у психологов, социологов, политологов, экономистов - они подтвердят!) режиссёру Светлане Жиденовой культивировать депрессивное на сцене? Зачем в такой степени увлекаться постмодернистской «социаловкой»? Ответ один – для постановки в наши дни такой пьесы нужна очень серьёзная мотивация.
Театр не может дистанцироваться от происходящего в обществе. Спектакль «Куриные головы», на мой взгляд, абсолютно идентичен реальности, в которой мы все сегодня живём. Он «более русский», чем многие постановки отечественных авторов. Это проекция реальных взаимоотношений «отцов и детей», представителей власти (Старшина-исп. Тимур Зайнашев, Новичок - исп. Сергей Пичугин) и народа (Учитель-исп. Дмитрий Кабаков, Соседка – исп. Оксана Сенюк, Старуха–исп. Елена Рячкина) и в Венгрии, и в Италии, и в России…
В целом, спектакль с его гармоничной сценографией и музыкальным сопровождением ставит диагноз сегодняшнему состоянию молодёжи и российскому обществу, у которого истончился культурный слой. И с ностальгией вспоминаешь отрицательных героев пьес А. Вампилова – драматурга 70-х годов, - пьющих и лживых молодых людей, которые, в сравнении с героями начала третьего тысячелетия, кажутся нам не такими уж и бесчеловечными.
Приходиться с горечью констатировать то, что духовная деградация главных героев спектакля сформирована исторически, сегодняшней реальностью. Их речь, мировоззрение и бытие являются отражением жизни многих россиян. И от этой правды зрителям становится неуютно, страшно и очень стыдно оттого, что великая нация русских людей так деградировала и «оскотинилась». Для молодого поколения это своеобразный урок горькой правды, который должен помочь им повзрослеть и осмыслить ответственность своей будущей судьбы – родительской.
От театра невозможно получить рецепты изменения мира, но то, что зритель уходит со спектакля размышляющим и «задетым за живое»(о чём написано в отзывах), и есть самое ценное и важное в работе театрального и педагогического коллектива колледжа – воспитание театром! Известный театральный режиссёр Товстоногов справедливо заметил: «Зрители и артисты идут на спектакль, как на войну, - одни хотят победить, другие – быть побеждёнными». Судя по отзывам наших студентов-зрителей, их «поражение» (в диалоге со зрителями победили, безусловно, актёры!) достойнее многих жизненных побед:
«Я смотрел этот спектакль неоднократно, потому что он мне очень понравился сходством с современной жизнью и тем, как сыграли наши актёры. Этот спектакль заставляет задуматься об отношениях людей друг к другу, юного поколения со старшим. Спектакль показывает зрителям безразличное отношение родителей к своим детям. Ребёнок для них – повод получить от государства деньги. Дети в таких семьях становятся беспризорниками, и помочь им некому, все болеют «безразличием». Такие дети рано или поздно совершают непоправимое… и самое страшное, что таких семей становится всё больше. Я надеюсь, что люди, смотря такого рода спектакли, будут задумываться, узнавая себя».
Мифтахов Артём, БХ-36
"В начале спектакля я не понимала, почему у всех героев на руках были надеты чёрные носки? Но потом догадалась, что это символ греха, чёрное пятно, который есть у каждого из них. Но, осознав свои грехи, герои освобождаются от них, снимая носки с рук в конце спектакля.
Также мне поначалу была непонятна и роль мальчика, который всё время ходил по сцене и наблюдал, не произнося ни слова. Но, узнав историю жизни Старухи, мне показалось, что мальчик - это неприкаянная душа неродившегося ребёнка Старухи, которая, испугавшись трудностей, сделала аборт. И приходиться пожилой женщине всю нерастраченную материнскую любовь дарить любимой кошке Мурке.
Спектакль, на мой взгляд, отразил ещё одну очень важную проблему нашей жизни: как оказывается неприятно слышать бранную речь детей и взрослых, но в обычной жизни мы уже перестали это замечать…».
Черкашина Елена, КДОУ-97
«Нам не было показано ни одной счастливой судьбы в спектакле и ни одной счастливой семьи. Все порознь, одиноки, без поддержки родных. Я думаю, что из-за этого у героев все трагедии».
Жужгова Дарья, ББ-127
«На мой взгляд, этот спектакль обо всех жизненных проблемах. Режиссёр подчеркнул бедность, нищету, жестокость нынешнего мира, способного искалечить Мальчишку, который был добрым, заботливым, отзывчивым. И даже после спецшколы и всех трудностей, перенесённых там, у него в глубине души всё равно сохранилось немало хорошего».
Шарыпов Валерий, БХ-36
«Для меня этот спектакль разноплановый – то смешил, то злил, то пугал. Все, показанное в нём, было срезом нашей жизни: и безразличие соседей, и забота, и уважение, и двор как отдельный мир, но не было любви человека к человеку».
Дьячков Алексей, БХ-36
«Спектакль поставлен классно (это я понял потом, когда увиденное «прокручивалось» в моёй памяти)!!! Он показывает эпизод жизни, который видел каждый из нас, живущий на нашей планете. Во время просмотра, меня не покидало ощущение того, что я это уже где-то видел. Этот кусочек жизни мы все в зрительном зале эмоционально переживали. Спектакль задевает за самую тонкую «жилку», потому что начинаешь ставить себя на место героев и искать «свой» выход».
Миронов Юрий, БХ-36
«Этот спектакль показал нам истинное «лицо» России. Обстановка, царившая в спектакле, актуальна. Несмотря на молодость актёров, их игра была на высоте! И они смогли прочувствовать и передать напряжённую атмосферу реальности. Спасибо за отличный спектакль!».
Ильиных Елена, ББ-126
«Спектакль о жизни одного двора, который может находиться в любой точке мира. История Мальчишки ассоциируется у меня с романом Эмиля Золя «Жерминаль», потому что генетика родителей определила судьбу героя: он «позволил» своим «генам» взять топор и убить Старуху».
Куликов Виталий, БХ-36
«В этом спектакле студенты показали себя как настоящие, талантливые актёры. Я думаю, что не каждый смог бы сыграть эти роли, так как они, достаточно сложные в эмоциональном плане».
Петроченко Светлана, ББ-126
«Спектакль мне понравился потому, что у него есть чему поучиться. Ведь лучше увидеть всё со стороны, чем самому побывать в такой ситуации».
Чупахина Марина, БСБ-167
«Спектакль заставляет задуматься о нашей жестокой действительности. О том, как мы относимся к другим, и как дети относятся к родителям, а родители к детям. Многие ситуации в спектакле мы можем наблюдать в жизни. Это пугает и заставляет думать о том, что и как мы делаем в жизни. Хочется стать немного лучше и добрее».
Бардола Александра, ББ-126
«Глядя на мальчика – тень души Мальчишки, который смотрел и переживал за происходящее, мне было жаль героев спектакля. Потому что они не ведали, что творили. Такой короткий эпизод из повседневной жизни, а так много нам показал…».
Андрианова Вероника, БСБ-167
"Спектакль "Куриные головы" помогает осознать сложную реальность мира - как тяжело приходится жить детям без родителей, как дорог для одинокого человека домашний питомец, как важно, чтобы тебя понимали. А вместе с тем, осознаёшь, как непросто жить в обществе, где нет любви, терпения и понимания. Без этих качеств мир будет катиться в пропасть".
Большукина Светлана, КДОУ-97
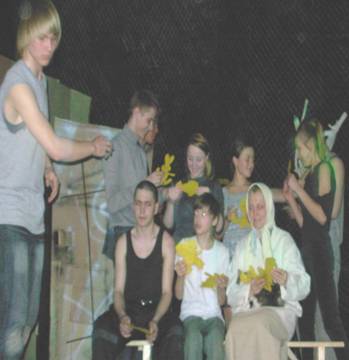 Если вовремя заметить болезнь, утверждают медики, шансы на исцеление многократно возрастают. Хочется верить, что спектакль «Куриные головы» для студентов нашего колледжа - чутких к фальши и несправедливости, будет действительно культурологической прививкой от людской жестокости и равнодушия. Когда увиденное на сцене побуждает студентов-зрителей к серьёзному диалогу, в котором проявляется и художественный вкус, и наблюдательность, и способность видеть и слышать других, а также собственная система ценностей, - это дорогого стоит. «Мы проработали всем коллективом очень «больную» для нашего общества проблему. Много разговаривали, искали причины поступков и их следствия. Так хочется, чтобы что-то изменилось к лучшему и в самих исполнителях: чтобы все стали чуть ответственнее, чуть внимательнее к другим, чуть придирчивее к себе. Иначе, зачем всё?».
Если вовремя заметить болезнь, утверждают медики, шансы на исцеление многократно возрастают. Хочется верить, что спектакль «Куриные головы» для студентов нашего колледжа - чутких к фальши и несправедливости, будет действительно культурологической прививкой от людской жестокости и равнодушия. Когда увиденное на сцене побуждает студентов-зрителей к серьёзному диалогу, в котором проявляется и художественный вкус, и наблюдательность, и способность видеть и слышать других, а также собственная система ценностей, - это дорогого стоит. «Мы проработали всем коллективом очень «больную» для нашего общества проблему. Много разговаривали, искали причины поступков и их следствия. Так хочется, чтобы что-то изменилось к лучшему и в самих исполнителях: чтобы все стали чуть ответственнее, чуть внимательнее к другим, чуть придирчивее к себе. Иначе, зачем всё?».
И это всё о нас…
Сценические зарисовки «Я вас люблю и обожаю!» по пьесе А. Островского «Женитьба Бальзаминова»
Мещанский мир Замоскворечья,
Интриги и свидания во мраке…
Купчихи, изнывая от безделья,
Мечтают о достойном браке.
С тех пор прошло немало времени.
Мы изменились? Плохо верится…
Нам очень хочется узнать,
На ком же Бальзаминов женится?
Комедию «Женитьба Бальзаминова» называют подлинным театральным хитом, так как за последние восемь лет поставлено более 100 спектаклей по её мотивам в различных театрах России. Обращение к классике - дело хорошее, но есть и повод для тревоги. Опытные театроведы утверждают, что ставить «пьесы жизни» Островского, высмеивающие обман, самодурство, сребролюбие, можно только тогда, когда режиссёру есть что сказать зрителю, а исполнители могут помимо умений показать ещё и мастерство.
Утверждать последнее по отношению к любительскому театру сложно, но жюри XV Городского фестиваля-конкурса «Театральная весна-2008» не поставив под сомнение именно мастерство актёров народного театра «Пятый угол», наградило всех создателей постановки в девяти номинациях и вручило Гран-при фестиваля. Переходящий символ – Крылатый гений вновь на полгода вернулся в театральный коллектив колледжа. Право обладания высшей наградой «Пятый угол» поделил с достойным соперником – народным театром «Школа слёз и смеха».
рискнула впервые за 10 лет работы театральной студии поставить классическую комедию, и «товар получился с клеймом качества». После употребления «вкусного» театрального продукта, остаётся «послевкусие» - впечатление от сценографии, музыки, хореографии, игры актёров, о которых хочется рассказать.
Островский часто ассоциируется с самоварами, чашками, диванами, креслами, но на авансцене мы видим большую оконную раму с форточкой. На первый взгляд – простая декорация, но с ёмким смыслом: через это окно зрители и герои будут взаимодействовать, вести диалог не о Париже, а о нашей российской жизни, смеяться и сопереживать. В приоткрытую раму можно заглянуть в прошлое и вернуться в настоящее. С интересом мы будем наблюдать по ходу спектакля, как это большое окно легко трансформируется в двери, сквозь которые герои спектакля протискиваются, выскакивают, впрыгивают в действие, но всё равно не все поспевают в погоне за успехом, за счастьем и деньгами.
В центре сцены из белых полос ткани собрано большое дерево, на котором вместо листьев висят бумажные купюры. Под этим денежным деревом, напоминающим фэн-шуйский талисман – символ привлечения богатства, и будут происходить главные сцены спектакля «Я вас люблю и обожаю!». И что бы сентиментальных зрителей не вводить в романтическое заблуждение, название спектакля размещено в программке на фоне уже знакомых купюр, достоинством в пять и сто рублей. Всё предельно ясно относительно того, что в спектакле будут любить и обожать. Так и хочется напеть хит 80-х годов шведской группы «АББА» - «Money, money». Увиденное интригует: так тонко и иронично Светлана Жиденова ещё не представляла свою режиссёрскую идею.
 Жанр спектакля определён режиссёром как сценические зарисовки с прорисовками и набросками в разных ракурсах «углём», «карандашом», «тонкой кистью» - это всего-навсего средства для создания главного - характеров своих героев актёрами народного театра «Пятый угол». исполняют Евгений Шмидт, Анатолий Мансуров, Раис Дощанов, Сергей Боровик, что изначально вызывает интерес к «квадратуре» образа обедневшего дворянина, мелкого чиновника, живущего со своей маменькой - вдовой Павлой Петровной (исп. Елена Рячкина) и кухаркой Матрёной (исп. Юлия Малышева) в небольшом доме Замоскворечья.
Жанр спектакля определён режиссёром как сценические зарисовки с прорисовками и набросками в разных ракурсах «углём», «карандашом», «тонкой кистью» - это всего-навсего средства для создания главного - характеров своих героев актёрами народного театра «Пятый угол». исполняют Евгений Шмидт, Анатолий Мансуров, Раис Дощанов, Сергей Боровик, что изначально вызывает интерес к «квадратуре» образа обедневшего дворянина, мелкого чиновника, живущего со своей маменькой - вдовой Павлой Петровной (исп. Елена Рячкина) и кухаркой Матрёной (исп. Юлия Малышева) в небольшом доме Замоскворечья.
Елена Рячкина сыграла роль заботливой мамаши Бальзаминова без тени иронии или издёвки. Она действительно любит своего непутевого сыночка и искренне желает ему счастья, видя его в удачной женитьбе. Неторопливая манера подачи текста актрисой и точно найденная «наивная» интонация подчеркивают комичность происходящего, а толкования своих и чужих снов Павлой Петровной особенно умиляют зрительный зал.
 Юлии Малышевой удалась роль оппонента Бальзаминовой – молодой, ворчливой и прямолинейной в суждениях кухарки Матрены, исполненной в резонёрском ключе: «Миша мало виду из себя имеет, польститься – то не на что! Ну и чином ещё не вышел». И уже в начале спектакля нам становится ясна незавидная судьба «маленького человека» в российском обществе, где всё подчинено табелю о рангах и законам непотизма (родственных связей).
Юлии Малышевой удалась роль оппонента Бальзаминовой – молодой, ворчливой и прямолинейной в суждениях кухарки Матрены, исполненной в резонёрском ключе: «Миша мало виду из себя имеет, польститься – то не на что! Ну и чином ещё не вышел». И уже в начале спектакля нам становится ясна незавидная судьба «маленького человека» в российском обществе, где всё подчинено табелю о рангах и законам непотизма (родственных связей).
В исполнении Евгения Шмидта, Бальзаминов болезненно переживает своё незавидное положение, по-детски жалуясь маменьке: «Пройду по рынку мимо лавок лишний раз – сейчас тебе прозвище дадут, кличку какую-нибудь». А толстые, как мясники, кучера его вообще собаками травят, лай которых замечательно имитируют трое «многофункциональных» Бальзаминовых: они поочерёдно исполняют роль, меняют декорации, да ещё и танцуют в финале спектакля!
Бальзаминов - большой ребёнок, но точно знает, как можно заполучить деньги. Он по-обломовски мечтает о богатой невесте (мезальянс был модным в России, как впрочем и сейчас) и наивно верит в вещие сны, тем более, что по соседству, за высоким забором протекает бурная, веселая жизнь, недоступная нашему герою. Чтобы самому разбогатеть – об этом нет и речи: он слишком глуп и «дурашлив». Маменька охотно отдала бы сыночка в мужья, ну хоть кому-нибудь, но как это сделать, она тоже не знает. То на картах гадает, то ищет ответы во снах.
Зная всю бесперспективность своего социального положения, Бальзаминов заводит знакомство с офицером в отставке - Лукьяном Лукьянычем Чебаковым. Теперь Миша не ходит один в той стороне, где «свирепствует необразование» и невежество. Подражая Чебакову, Бальзаминов тоже мечтает поступить на военную службу: «А вы только представьте, маменька: вдруг я офицер, иду по улице смело… Вижу – сидит барышня у окна, я поправляю усы…», на что маменька незамедлительно парирует: «А чем жить-то мы будем, пока ты в офицеры-то произойдёшь?». Только двумя словами намекнёт драматург Островский на реальное, но плачевное положение большинства российских дворян, а строки поэта 19 века: «Усы героя украшают, усы геройский вид дают!» свидетельствуют о невозможности дворянина Бальзаминова достойно устроить свою жизнь.
Такая невинная вольность природы, как растительность на лице, была в постниколаевской России (в которой ценились исключительно не умные, а верноподданные) обращена в деталь формы. Правом носить усы обладали исключительно военные, а штатским в нём было отказано. Военный мундир в 19 веке в России был вознесён не только над умом и талантом, но и над богатством и даже над родовитостью. Офицерская каста была привилегированной, имевшей право глядеть на всех статских чиновников с чувством социального превосходства. Офицер многое мог себе позволить и позволял: в повести А. Пушкина «Станционный смотритель» офицер Минский тайно увозит Дуняшу - единственную дочь титулярного советника 14 класса Самсона Вырина. И в спектакле Лукьян Чебаков продемонстрирует нам примеры подобной вседозволенности: «похитит» Анфису Пеженову, которой, оказывается, не привыкать к подобным приключениям.
Пройдёт всего-то 30 лет между появлением «Станционного смотрителя» и «Женитьбой Бальзаминова», но как полярно оценят русские писатели «свободные отношения»: у Пушкина – это трагедия, прежде всего для отца, который не переживёт разлуку с дочерью, у Островского – побег с офицером ситуация типичная, судя по диалогу сестёр Пеженовых: «Ничего, Раиса, не страшно. Ведь уж меня увозили, ты помнишь?», напомнит Анфиса сестре. Тоскующие от безделья барышни Пеженовы (исп. Е. Балабохина и А. Костромитина), прямо-таки жаждут вырвать себе право на свободу. А на вопрос Бальзаминова в финале спектакля «Да куда же их увозят–то?», так и хотелось ответить вместо Лукьяна Чебакова: «В Москву, Турцию, Египет, Сирию…». Как поразительно быстро меняются нравы в России. Не об этом ли спектакль?
Появляясь в доме Бальзаминовых, (исп. Вячеслав Гребнев) - офицер в отставке (потому и без усов!), моментально оценивает обстановку и в секунду определяет цену всему, на что падает его взгляд. Чебаков «как денди лондонский одет…»: чёрный плащ, белый шарф и чёрная трость с белой ручкой, но его элегантность только внешняя. хорошо прочувствовал в своём герое прагматичность, циничность и желание быть хозяином жизни, слегка наделив образ некоторым демонизмом. Чёрная трость в руках актёра, как дирижёрская палочка, задаёт ритм жизни, в которой он – Господин Капитал, а ловушки и розыгрыши для «маленьких людей», таких как Бальзаминов, это способ себя потешить и развлечь.
Сегодня нельзя назвать Чебакова негодяем или подлецом, как тридцать лет назад. Его жизненные установки иные - абсолютно утвердившийся цинизм, ставший в России нормой отношений на любом уровне, как и деньги, заслонившие достоинства людей. Вот и сваха Акулина Красавина решает брачные головоломки только ради денег, которые она, как и другие герои, любит и обожает.
Сваха в исполнении Ксении Сазоновой - очень убедительная, обаятельная и пластичная. Ей веришь с первых слов. Её бы в современное брачное агентство и у холостяков не осталось бы шансов: от напора такой свахи - сладкоречивой, деловитой, жеманно опрокидывающей рюмочку, невозможно устоять! Эта умная и циничная сводня, пожалуй, окрутит самого чёрта в аду и заставит плясать под её дудку. А каким ловким жестом молодая актриса прячет деньги в декольте цветастого платья, позже извлекая оттуда же золотые часы – подарок от богатой невесты для Бальзаминова с приятным известием: свадьбе – быть! Михаил Дмитриевич (исп. Анатолий Мансуров) от такой щедрости как-то даже выше ростом становится: «Я теперь, маменька, не Бальзаминов, а кто-нибудь другой!». В квартете играет наиболее ярко, с разнообразным диапазоном настроений – от приятной мечтательности: «Маменька, я поехал на прогулку и взял с собой денег 50 тысяч» до истерично-инфантильного волнения: «Маменька, деньги пропали, должно быть вытащил кто-нибудь!». Легко, с юмором сыграна им сцена чумазого Бальзаминова–«башмачника», по-плану объясняющегося в любви сначала Раисе, а затем Домне Белотеловой по указанию свахи.
 Динамичная, заразительная игра Ксении Сазоновой убеждает нас в том, что она из того мира, где нет места сантиментам, эмоциям и даже нет времени на долгие разговоры и чаепития. Есть срочное дело, торг, расчет и умение добиваться нужной цели: если уж и поиграть с вдовушкиной породистой собачкой, то только для расположения к себе помещицы. Как современная бизнесвумен, она может войти в доверие к любому человеку и разговаривать с «миллионщицей» не заискивая. Блестящий дуэт свахи и богатой вдовы Домны Евстигнеевны Белотеловой (исп. Оксана Сенюк) не только интересен по тексту и комичен по манере исполнения, он украшает весь спектакль. Да и как не покорить зрителей двум самым опытным студийцам - Ксении и Оксане, в мастерство которых вложено столько труда и терпения режиссёра Светланы Жиденовой?
Динамичная, заразительная игра Ксении Сазоновой убеждает нас в том, что она из того мира, где нет места сантиментам, эмоциям и даже нет времени на долгие разговоры и чаепития. Есть срочное дело, торг, расчет и умение добиваться нужной цели: если уж и поиграть с вдовушкиной породистой собачкой, то только для расположения к себе помещицы. Как современная бизнесвумен, она может войти в доверие к любому человеку и разговаривать с «миллионщицей» не заискивая. Блестящий дуэт свахи и богатой вдовы Домны Евстигнеевны Белотеловой (исп. Оксана Сенюк) не только интересен по тексту и комичен по манере исполнения, он украшает весь спектакль. Да и как не покорить зрителей двум самым опытным студийцам - Ксении и Оксане, в мастерство которых вложено столько труда и терпения режиссёра Светланы Жиденовой?
Оксаной Сенюк сыграна безупречно. Ей удалось «основательно прорисовать» колоритный образ дебелой богачки, изрядно истосковавшейся по мужским ласкам, которой хочется найти жениха, но самой лень. Играет ее Оксана достоверно и естественно: жутко ленивой, беспредельно глупой, верящей в самые невероятные замоскворецкие сплетни, но страстной женщиной. И сцена «долгого поцелуя», случившаяся на наших глазах, не обещает Бальзаминову «легкой жизни». Актриса не боится быть смешной, некрасивой, имитировать походку пышнотелой «кустодиевской» женщины. Не каждый актёр любительского театра решиться сыграть возрастную роль, да ещё с таким набором внешних и психологических изъянов. Зачастую для молодых артистов более важен имидж, нежели характер исполняемой роли. Можно только догадываться о количестве придуманных на репетициях мелочей для создания образа дамы бальзаковского возраста. Так для внешней солидности своей героини, Оксана с достоинством носит объёмные юбки и произносит весь текст в течение спектакля с орехами во рту, что заметно округляет розовые щёки Белотеловой и мешает ей быстро говорить. Образ смешной, доверчивой и инфантильной вдовушки выглядит очень правдоподобно, так как сама актриса играет с огромным удовольствием и кажется, что она просто наслаждается жизнью Домны Евстигнеевны. Это уже не просто игра, а актёрский драйв, который безошибочно улавливают зрители (обратите внимание на их лица во время игры Оксаны Сенюк), даже не задумываясь о том, какую огромную работу пришлось проделать актрисе, что бы нам было так весело, а это сродни актёрскому подвигу!
Новые жизненные ценности калейдоскопом мелькают в динамичном ритме спектакля. Только успеваешь фиксировать смену декораций и ловить на лету фразы Островского, ставшие афоризмами. Спектакль поставлен режиссёром-мастером, распределившим в партитуре сценических зарисовок всё до мелочей: мелодраматические интонации чередуются с комичными ситуациями, трагизм отдельных эпизодов - с иронией и даже философией во имя главного: великовозрастный инфантилизм и цинизм молодых людей, беготня за миллионами да за богатыми невестами, которые «очень уж на мужчин бесстыжи» - это всё про нас тоже и ради нас.
Назначение любой комедии – исправлять нравы зрителей, показывая со сцены то, как не должно быть. Режиссёру и актёрам народного театра «Пятый угол» это удалось!
 Эпилог
Эпилог
|
Культура – память человечества, а образование – трансляция этой памяти. |
Сегодня в мире и в России накоплен колоссальнейший объём знаний, позволяющий перейти к осуществлению новых технологических решений. Из этого следует, что доминантой развития общества в XXI веке становится процесс познания, доступный только высокообразованному обществу, где труд принимает всё более интеллектуальные формы. И в этом новом обществе будет востребован уже не «продукт» и «потребитель» культуры, а её «транслятор».
Что же будут транслировать в ближайшем будущем наши выпускники-студийцы, какую «память»? Прежде всего – ценностный багаж и опыт, приобретённый в результате вживания в судьбы своих героев из разных географических широт, потому что искусство театра объемлет весь мир – прошлое, настоящее, будущее, возможное и невозможное, случившееся и невероятное - и вместе с тем делает его непосредственным достоянием отдельного человека. Опыт «бывания в обличье других» способствует такому универсальному самоопределению каждого актёра студии, которого он не достиг бы, пользуясь исключительно средствами и инструментами познания.
Ежегодная подготовка театральных постановок, как правило, становится актом коллективного творчества не только актеров студии, но и художника, музыкантов, осветителей, хореографа, педагогов, а также радостного зрительского ожидания. Мы благодарим всех актёров театра «Пятый угол» и режиссёра – Светлану Жиденову за то, что всегда удивляли и продолжаете удивлять, заставляя трудиться не только наш зрительский разум, но и душу. Помните, у поэта Заболоцкого: «Душа обязана трудиться и день и ночь…».
Между тем, право на творчество - дорогое право. Требовать спокойного, комфортного существования не может никто: ни режиссер, ни актеры. Это право подтверждается каждый раз новыми постановками, литературно-музыкальной композицией или поэтическими спектаклями. Судьба театрального коллектива в колледже в наше насыщенное конкуренцией время такова, что былой, но не подтвержденной новыми работами славой прожить невозможно, да и неинтересно. Потому народный театр «Пятый угол» - это всегда новые режиссёрские идеи, интригующие зрителей спектакли и яркие актёрские работы!
|
Но остаются лица, взгляды, Восторга жест и жест досады… Копилка памяти полна. «Нам не дано предугадать…», Но верить хочется, что всё же, К себе становишься ты строже И учишься других прощать. Наверно что-то удалось. Да-да, не может быть иначе. Ты стал меняться - это значит, Театр пронзил тебя насквозь! И эту радостную боль Неси по жизни, как подарок! Жить невозможно без помарок. Не бойся! Репетируй роль! |




 Стирает время имена,
Стирает время имена,