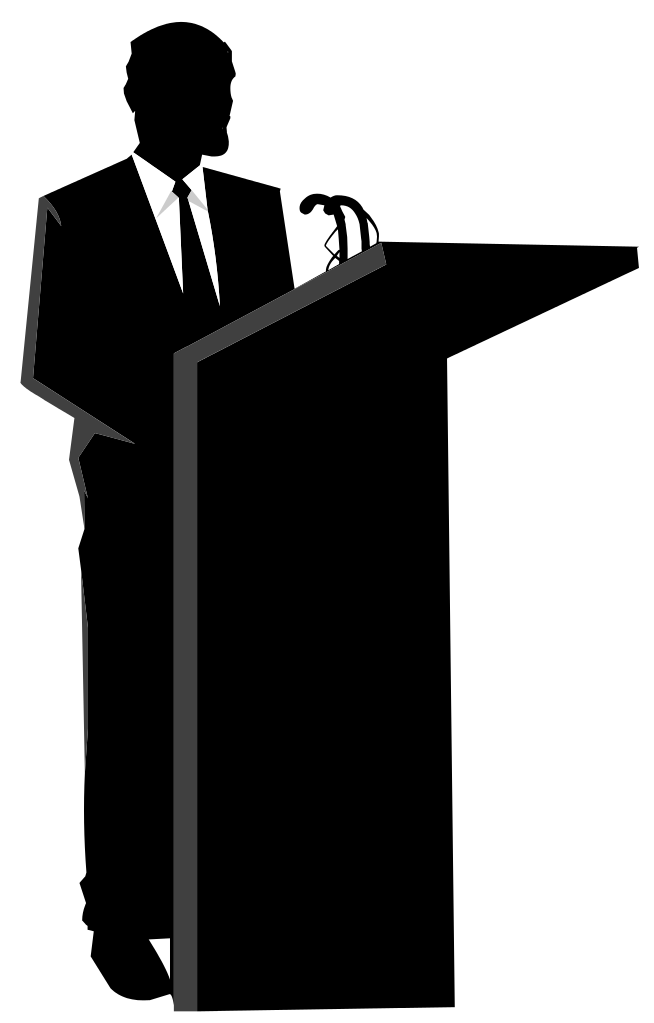Об интерпретации трансформационных процессов в странах европейского и евразийского ареалов
Общетеоретический аспект проблемной исследовательской ситуации, обусловившей потребность в обсуждении темы, обозначенной в названии нашего доклада, связан с тем, что в современной науке усиливается интересная и дающая толчок к развитию социальной теории - дискуссия об интерпретации трансформационных процессов в странах европейского и евразийского ареалов. Выделяются два основных подхода.
Согласно одному из них, эти трансформационные процессы протекают в основном однолинейно, в соответствии с логикой внутренне детерминированного перехода от нерыночной экономики к рыночной. Этот первый подход весьма популярен в академических кругах. Ведь и за марксистским, и за либеральным отрицанием мультилинейности исторического процесса скрывается общеизвестная гегелевская схема «ступенчатого» развития истории к единому для всего человечества идеалу. Это относится, прежде всего, к марксизму с его теорией сменяющихся социально-экономических формаций — от рабовладения вплоть до «рая на Земле», теоретической утопии — коммунизма. Типичной для марксистского миропонимания была идея унитаризма, линейного развития человечества с различием народов и стран лишь по уровням развития.
Ничем в этом отношении не отличается и либерализм. Он также признает безальтернативность пути развития — от традиционного общества — к частнособственническому, буржуазному, или (по Ф. Фукуяме) — от родоплеменного к рабовладельческому, от последнего — к теократическому, и, наконец, — к венцу исторического пути человечества — к демократически-эгалитарному. При этом, страны и народы оцениваются как находящиеся в разных «эшелонах» (на разных ступенях) движения к единому идеалу — универсальной западной демократии и либеральному капитализму.
Представляется, что как марксистский, так и либеральный унитаризм с их безальтернативностью эволюции человечества, игнорированием взаимодействия общего и особенного в истории далеко не бесспорны. Суть проблемы сводится к раскрытию взаимосвязи сущностных черт социально-экономической систем с системообразующими элементами цивилизаций разного типа (системы институтов, ценностные системы). Глубокий разбор этой ситуации и первых этапов борьбы массовых движений против «нового глобального порядка» проведен М. Кастельсом в его, к сожалению, не переведенной на русский язык монографии «The Power of Identity» [Castells 1997].
Однако идее «однолинейности», по крайней мере, со времен Н. Данилевского, противостоит идея «рядоположенности» цивилизаций, обладающих как универсальными, так и специфическими целями и критериями успешности воспроизводства своей жизнедеятельности (не всегда выраженного в развитии). [Данилевский 2003]. Признание параллельного развития стран разной цивилизационной принадлежности не означает отрицания универсальности технологий жизни в самом широком смысле этого понятия. В то же время следует принять во внимание, что институциональные и ценностные системы, задающие саморазвитие социальным организмам, свойством универсальности не обладают. (Эти идеи обсуждаются автором в ряде публикаций. [Шкаратан 2002, 2004]).
Очевидное широкое разнообразие трансформационных процессов в странах европейского и евразийского ареалов не может быть адекватно объяснено в рамках одновекторной детерминистской модели. Это разнообразие во многом обусловлено глубинными цивилизационными различиями стран, осуществляющих трансформации, а не вызвано ситуативными различиями в проводимой политике. Соответственно, эти цивилизационные различия должны быть обстоятельно изучены.
С точки зрения мультилинейного подхода, в современном мире сосуществуют несколько основных цивилизаций, качественно различающихся по институциональным и ценностно-нормативным характеристикам. Эти цивилизации сопряжены с доминирующими религиозными системами. [Huntington 1993; Хантингтон 2003]. Применительно к Центрально-Европейскому, Южно-Европейскому, Евразийскому ареалам (посткоммунистические страны, находящиеся в состоянии трансформации) – это католицизм, протестантство, православие, мусульманство. Складывающаяся в этой связи нынешняя социально-экономическая и социально-политическая ситуация в странах этих ареалов существенно различна в целом ряде отношений. Признание полилинейности протекания трансформационных процессов в посткоммунистическом мире во многом объясняет расхождение в характере развития, результативности проведенных либеральных реформ в странах, казалось бы, стартовавших с одних и тех же позиций.
На наш взгляд, было бы плодотворным в рамках развития теории трансформационных процессов найти решающие аргументы в поддержку или опровержение каждого из названных подходов, первоначально и на каждом этапе самого исследования дав им обоим равные шансы и равное «право голоса».
Автор доклада придерживается второго из названных подходов, т. е. я исхожу из предположения, что трансформационные процессы в странах европейского и евразийского ареалов протекают полилинейно, что не укладывается в рамки господствовавшей ранее и весьма влиятельной и поныне «однолинейной» детерминистской концепции перехода от нерыночной экономики к рыночной. Для социальных акторов, участвующих в реформах, это нередко создает трудности уже на стадии предварительной ориентации в той реальности, которую предстоит изменять, в выработке согласованной позиции относительно складывающейся социально-экономической ситуации. Тем большие трудности возникают во взаимодействии с международными структурами. Попытки достичь консенсуса в анализе исходной реальности, на основе которых должны планироваться преобразования и осуществляться взаимодействия, зачастую оказываются безуспешными. В этой связи, наше основное предположение, заключается в том, что названное разнообразие во многом обусловлено глубинными цивилизационными различиями стран, осуществляющих трансформации, а не вызвано ситуативными различиями в проводимой политике. Соответственно, эти цивилизационные различия должны быть обстоятельно изучены.
Хотелось бы сразу подчеркнуть, что нет надобности возводить непреодолимые преграды между этими двумя подходами. Мы можем рассуждать лишь в пределах определенного исторического горизонта, измеряемого жизнью нескольких ближайших поколений. Нет смысла ломать копья по поводу будущего за пределами нашего столетия. И мы не можем при таком подходе игнорировать опыт предыдущих столетий, закрепленный во вполне проверяемых источниках.
Напомню, что странам Центральной и Восточной Европы этакратизм был навязан со стороны СССР. При этом особое сопротивление новой системе оказали народы тех стран, которые обладали большим опытом рыночной экономики, гражданского общества, правового государства. Все они принадлежали к католической и протестантской христианским культурам. В то же время этакратизм вполне добровольно и самостоятельно произрастал в государствах, не знавших зрелых буржуазных отношений, шедших другим историческим путем, чем Европа, - в России и Китае, Вьетнаме и Монголии, что подтверждает неслучайность его возникновения.
Согласно мнению выдающегося английского историка ХХ в. Арнольда Тойнби, Россия «есть часть общемирового незападного большинства». Русские никогда не принадлежали к западному христианству. «Восточное и западное христианство всегда были чужды друг другу, антипатичны и часто враждебны, что, к несчастью, мы и сегодня наблюдаем в отношениях России с Западом, хотя обе стороны находятся в так называемой постхристианской стадии своей истории» [Тойнби 1995, с. 156].
Подводя определенный итог суждениям о российской цивилизации, С. Хантингтон писал: «Некоторые ученые выделяют отдельную православную цивилизацию с центром в России, отличную от западного христианского мира по причине своих византийских корней, двухсот лет татарского ига, бюрократического деспотизма и ограниченного влияния на нее Возрождения, Реформации, Просвещения и других значительных событий, имевших место на Западе». [Хантингтон 2003, с.56]
Следует заметить, что сами наши соотечественники после массированной атаки mass media в конце 1980-х – начале 1990-х гг. о принадлежности России к европейской, западной цивилизации, при колебаниях в оценках западного образа жизни, устойчиво предпочитали ориентацию на традиции и особенности России, на глубоко изученный национальный исторический опыт в противовес следованию «чужим образцам». Согласно данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в 2005 г., лишь 5% респондентов сочли, что культура и ценности европейцев и россиян не различаются, 21% полагали, что различия невелики, но 63% поддержали позицию о существенном различии по культуре и ценностям между европейцами и россиянами. На вопрос: «В какой мере для России подходит западный вариант общественного устройства?» в опросе, проведенном ВЦИОМ () в 2000г. признали этот вариант универсальным образцом всего лишь 4% респондентов, а сочли его совершенно или не вполне подходящим 67% наших сограждан. [Дубин 2003]
По данным известного знатока Уайта (Университет Глазго), опиравшегося на материалы представительных опросов гг., даже в сопоставлении с жителями Белоруссии и Украины русские гораздо в большей степени являются сторонниками своего собственного пути развития (59% против 49% и 49% соответственно у украинцев и белорусов). Сторонниками общего с европейскими странами пути развития являются 25% русских, 31% украинцев и 40% белорусов. Кстати говоря, и на вопрос о том, должно ли государство нести ответственность за благополучие домохозяйств, в отличие от русских большинство белорусов оказались приверженцами той точки зрения, что ответственность должна лежать на самом домохозяйстве.
В то время как большая часть населения России сожалеет о распаде СССР, и белорусы, и украинцы в менее половины случаев сожалеют о распаде СССР и меньше поддерживают идею о создании единого государства на территории СНГ [Уайт 2007, С.40-46]
Второй аспект проблемной ситуации, тесно взаимосвязанный с первым, касается обнаружившихся тревожных тенденций в развитии части из стран рассматриваемого ареала, суть которых состоит в репродукции (реставрации) социально-экономических и политических порядков «социалистического» прошлого или формировании достаточно устойчивых гибридных форм (как симбиоз заимствованных новых и автохтонно воспроизводящихся старых форм) социальной организации общества. На наш взгляд, высоко актуально наличие/отсутствие в странах европейского и евразийского ареалов, осуществляющих трансформацию, общественной рефлексии на эти реставраторские тренды и целенаправленной нейтрализации даже зародышевых форм этакратической репродукции в механизме воспроизводства общественных структур и институтов.
Многие из критиков реформ 1990-х гг., да и последующих акций руководства России проводят сравнения акций федерального руководства страны с действиями руководства стран ЦВЕ и Китая. При этом отмечаются просчеты и ошибки при проведении макроэкономической стабилизации, во внешнеэкономической политике, в проведении приватизации, разрушение технологических цепочек в связи с дроблением предприятий на более мелкие производственно-хозяйственные единицы и т. д. Я сам добавил бы к этому перечню отсутствие в России к началу преобразований (в отличие от многих стран ЦВЕ) контрэлиты, слабость социальной базы либеральных и демократических реформ, отсутствие навыков гражданской самоорганизации, жизни в условиях правового государства и опыта жизнедеятельности в условиях частной собственности. Все это - правда, и этот перечень может быть бесконечно длинным, но интеллектуалы любой другой страны, переживающей трансформацию, могут составить не менее длинный перечень ошибок и просчетов своего руководства. Поэтому возникает вопрос о том, одни ли и те же глубинные и латентные факторы определяли одни и те же лежащие на поверхности действия.
В основу анализа конкретной исторической ситуации в постсоветской России нами положена концепция, согласно которой общественное устройство современной России рассматривается как прямое продолжение существовавшей в СССР этакратической системы, исторические корни которой уходят в многовековую историю страны – носительницы евроазиатской православной цивилизации, не знавшей устойчивых институтов частной собственности, рынка, правового государства, гражданского общества. Первооснову социально-экономических отношений в СССР составляли отношения типа «власть-собственность», социальная дифференциация носила неклассовый характер и определялась рангами во властной иерархии.
Концепция этакратизма как объясняющая природу обществ советского типа находит поддержку со стороны крупных аналитиков современного мира. Так, М. Кастельс пишет: "В ХХ в. мы жили, в сущности, при двух господствующих способах производства: капитализме и этатизме. ...При этатизме контроль над экономическим излишком является внешним по отношению к экономической сфере: он находится в руках обладателей власти в государстве (назовем их аппаратчиками или, по-китайски, линг-дао). Капитализм ориентирован на максимизацию прибыли, т. е. на увеличение объема экономического излишка, присвоенного капиталом на основе частного контроля над средствами производства и распределения. Этатизм ориентирован (был ориентирован?) на максимизацию власти, т. е. на рост военной и идеологической способности политического аппарата навязать свои цели большему количеству подданных на более глубоких уровнях их сознания." [Кастельс 2000, с.38]
После распада СССР, в отличие от большинства восточно-европейских стран, в России не произошел коренной поворот в сторону конкурентной частнособственнической экономики. Присущие этакратическому обществу слитные отношения «власть-собственность» получили частнособственническую оболочку, но по существу остались неизменными. Таким образом, есть веские основания предположить, что в постсоветской России сохранился в преобразованном виде этакратизм, который приобрел форму государственно-монополистического корпоративистского квазикапитализма, а не демократического, социально ориентированного капитализма как, скажем, в Чехии, Польше, Словении, Эстонии, Литве. В этой социально-экономической системе сложился своеобразный тип социальной стратификации в виде переплетения сословной иерархии и элементов классовой дифференциации, устойчиво воспроизводящийся в течение последних лет. Подобным же образом продолжила себя советская социально-политическая система как стейтистско-номенклатурная. Хотя и в меньшей степени, эта проблема остра и в ряде других европейских постсоциалистических стран. [Шкаратан, Ильин 2006; Шкаратан, Ястребов 2007].
Система псевдосоциалистических стран имела свое ядро, полупериферию и периферию. Ядро – это доминирование «чистых форм» этакратизма – стейтизм. Периферия – резкое ослабление черт этакратизма, навязанного вооруженными силами этакратического СССР, с сохранявшимися все время в той или иной степени, присущими Западу экономическими институтами, ценностями и социальными нормами. К ядру мы относим большую часть республик бывшего СССР (без Балтии и Украины); к полупериферии – Болгарию, Румынию, Сербию, Украину и т. д.; к периферии – Польшу, Венгрию, Чехию, Словению, Литву, Латвию, Эстонию и т. д.
Сам географический охват «социализмом» совпадает: а) с регионом вторичного закрепощения крестьянства на западе этого ареала (Пруссия, Польша, Венгрия и т. д.) и б) с регионом длительного господства государственного (азиатского) способа производства в евразийской (восточной) части этого ареала. В последнем столетиями отсутствовали как значимые частнособственнические отношения и доминировали отношения «власть – собственность». В этих обществах нет классов, нет гражданских отношений и т. д. Другими словами, к этим обществам (Россия, Закавказье, Средняя Азия) неприменимы теории и категории, объясняющие структуру и генезис западных обществ.
Итак, при анализе специфичности постсоветского развития России мы исходим из выдвигаемого и обосновываемого нами положения, что именно советская Россия выступала ядром этакратического ареала на протяжении всех лет существования «социалистической» системы. Это сказывается и поныне на ее развитии.
Уже в начале 1990-х гг. многим вдумчивым наблюдателям было очевидно, что «роды» демократической власти именно в России случились преждевременно, при неготовности демократов организовать управление, сформировать институты исполнительной власти. Не случайно, что контрольные позиции в процессе принятия решений и их осуществления достаточно быстро заняли именно представители динамичной части советской номенклатуры, возглавленной Ельциным и Черномырдиным + Ко (Петров, Шумейко, Скоков, Лобов и т. д.). Вчерашние секретари обкомов КПСС, офицеры КГБ оказались в ближнем окружении президента. Через несколько месяцев они заняли позиции вице-премьеров и министров, руководителей администрации президента.
Символичным стал приход в качестве утвержденного парламентом и полностью поддержанного президентом премьер-министра страны . Это был крупный советский чиновник, в прошлом член ЦК КПСС, министр нефтяной и газовой промышленности СССР, однозначно показавший себя сторонником приватизации государственной собственности в пользу номенклатуры.
Сама природа того общества, из которого вышла перестройка и последующие реформы, такова, что социальные слои образовывали некоторые размытые множества, у которых не было даже в интенции осознания своих групповых интересов, специфической системы ценностей, единства образа жизни.
Исключение составляла властвующая элита, которая обладала всей системой групповых признаков, включая самоидентификацию. Поэтому именно элита (этакратия, номенклатура), а совсем не интеллигенция (как пишут некоторые авторы), оказалась локомотивом социальных изменений.
Сложившееся к концу 1980-х годов соотношение сил сделало неизбежным захват номенклатурой контрольных позиций в приватизирующейся экономике. Это был единственный путь мирного решения вопроса о собственности.
Реальным приоритетом нового постсоветского режима была политика по концентрации ресурсов нации в руках незначительного меньшинства. Решающую роль здесь сыграли: скоростная приватизация, которая практически подарила правящей номенклатуре, в первую очередь, ближнему президентскому кругу, иностранному капиталу (зачастую скупавшему предприятия, чтобы прекратить конкурентное производство), «теневикам» и криминалитету громадную государственную собственность. Эта приватизация прошла два основных этапа – ваучерный и залоговых аукционов. И если проведение первого этапа можно объяснить неопытностью правительства, скоротечными событиями 1992–1993 гг., то залоговые аукционы – это в чистом виде осознанные акции по формированию внеконкурентного политикообразующего крупного бизнеса, носящего компрадорскую направленность.
Почему такой, в отличие от стран ЦВЕ и Балтии, была расстановка социально-политических сил в России? В советской России только административно-командная номенклатура имела осознанные интересы и обладала всеми чертами социального слоя, включая самоидентификацию. Номенклатура не могла не действовать в своих социально-групповых интересах. А они сводились к проведению только тех реформ, при которых она оставалась хозяином страны и даже укреплялась в этой роли. В ходе реформ номенклатура сохранила контрольные позиции во власти, закрепила в процессе приватизации за собой преобладающую часть государственной собственности. Были сорваны все попытки проведения неноменклатурной, не контролируемой политически властвующими группами приватизации. К выгоде политикообразующего бизнеса были законсервированы отношения неполной приватизации, непрозрачности отношений собственности.
Как откровенно и точно высказался Ельцин в августе 1992г.: «В сентябре-октябре (1991г.) мы прошли буквально по краю, но смогли уберечь Россию от революции» (Российская газета, 20.08.1992). Другими словами, для того, чтобы добиться такого "успеха", правящие круги переломили демократическую активность масс, удержали Россию от демократической революции, наподобие тех, что прошли в Венгрии, Польше, Чехии, странах, вставших на путь подлинно капиталистического и демократического развития.
Вернемся в этом контексте к событиям гг., которые в исторической ретроспективе могут быть оценены как точка бифуркации. По форме они выглядели как захват власти буржуазией (или протобуржуазией). Лидерами выступали группы неолибералов во главе с А. Чубайсом, П. Авеном, А. Кохом, К. Кагаловским и другими молодыми неофитами, зачислявшими себя в стан демократов. Отечественные неолибералы своими героями и моделями политического поведения видели М. Тетчер и чилийского диктатора генерала А. Пиночета. Так что демократами они именовали себя безо всяких на то оснований. Воспользовавшись неопределенностью в расстановке сил в ходе противостояния президента и парламента в августе – октябре 1993г., неолибералы вооруженной рукой разгромили (разогнали) Московский, Петербургский и районные советы этих городов, средоточие неорганизованных и неопытных демократов. Однако процесс пошел даже не в сторону прихода к власти термидорианской буржуазии. Проблема была в доминирующей линии развития. Неолибералы и «назначенные олигархи» были использованы властными структурами, контролируемыми вчерашней советской номенклатурой, для укрепления позиции этой восставшей из руин советской системы властвующей элиты. Одни из неолибералов даже пополнили номенклатурные ряды, другие послужили «кошельками» для подлинных хозяев страны на переходный период, т. е. до прихода к руководству Путина и выходцев из силовых структур.
Социальным союзником номенклатуры выступил на раннем этапе реформирования страны теневой капитал и криминальные группировки. Нельзя забывать о гигантских масштабах теневой экономики в бывшем СССР, в которой к концу 1980-х годов было задействовано (по разным расчетам) 20-30 млн. человек как полностью (вероятно, до 3-х млн.), так и по большей части - от случая к случаю. Слои предпринимателей, действовавшие в этом секторе экономики, богатели за счет спекуляций, хищения сырья и готовой продукции. Все быстро выраставшие, начиная с 1987г., новые формы экономической активности (кооперативы, малые и совместные предприятия и т. д.) создавались почти исключительно для торгово-посреднической деятельности. В них-то и легализовались хозяева и хозяйчики прежней теневой экономики. По мнению профессора Кембриджского университета Дэвида Лэйна, в России 1990-х гг. проводилась неолиберальная политика «в масштабе, беспрецедентном даже для англо-американского капитализма». Результат: «Капитализм как экономическая система, которая систематическим образом поддерживает накопление капиталов, не был установлен (подчеркнуто мною. - О. ШСети личных связей, имеющих отраслевую, региональную и бюрократическую основу, определяют результаты деятельности в большей степени, чем рыночная активность» [Лэйн 2000, с.15-16]. К этому можно добавить суждение М. Кастельса, который оценил времена Ельцина как "бесконечный переход от сюрреалистичного социализма к нереальному капитализму" [Кастельс., Киселева с.46]
Известный американский экономист Маршалл И. Голдман выпустил в 2003г. (русское издание 2005г.) книгу под характерным и недвусмысленным названием «Пиратизация России». Он посвятил ее одному из ключевых моментов российской истории – приватизации. Компоративный анализ на основе данных по Чехии, Польше, Китаю приводит автора к выводу об уникальности трагического российского эксперимента над страной и людьми, явившегося результатом ошибочных решений, принятых на основании фальсифицированных оценок ситуации в стране. И американские советники, и российские реформаторы «двинулись создавать владельцев частной собственности». Не было учтено, что 70 лет коммунистического режима «создали окружающую среду, которая была враждебна и способна исказить любой процесс приватизации». В это время и вышли на поверхность почти всех новые русские миллиардеры, которых, по его мнению, «объединяет одна общая черта, отличающая их от миллиардеров каких – либо других стран. Богатство всех, кроме разве что двоих-троих, появилось почти целиком в результате присвоения того, что еще каких-то десять лет назад принадлежало государству» [Голдман. 2005, с.115-157; 376 и др.].
Сказанное объясняет, или претендует на объяснение различий между Россией и странами ЦВЕ и Балтии. Но как быть с различиями между успешным Китаем и не столь благополучной Россией?
Обратимся к мнению специалистов по Китаю. в своей статье «Реформы в Советском Союзе и в Китае» отмечает, что было бы нелепо отрицать различия в социокультурных предпосылках для движения китайского и российского обществ по тому пути, который выбрала для них свой политическая элита. В отличие от многих других авторов, Бергер считает, что эти различия не носят принципиального характера. По его мнению, расхождение траекторий развития определялось не спецификой азиатско-китайской ментальности или традициями конфуцианства, а характером проведения рыночных реформ. В Китае для этой цели решительно использовали все возможности авторитарного государства, а у нас они были без всякой пользы утрачены. Наши либералы настояли на проведении экономических реформ «по шоковому варианту, совершенно не совместимому с идеей какой бы то ни было социальной справедливости, даже в перспективе… хотя основными плодами реформ в Китае, как и в России, воспользовались чиновники и олигархи, тем не менее, в Китае значительные выгоды получила и основная масса населения, на первых порах преимущественно сельского, а в дальнейшем – главным образом городского… В России на фоне значительно более широкой политической демократизации… бюрократизация и коррупция абсолютно доминируют над либерализацией экономики, в Китае же не меньшая бюрократизация и коррупция служат все же придатком к достаточно свободному развитию рыночной экономики…». Далее Бергер отмечает смещение акцентов в последние годы в Китае в сторону идеи создания «гармоничного общества», усиление акцента на социальной справедливости как непременного условия стабильности общества и легитимности власти. [Бергер 2005, с.68-70]
Другие компетентные авторы особое внимание уделяют не только вековым традициям и сложившимся ценностно-нормативным системам, но и наличию в Китае (в отличие от России) долгосрочной стратегии развития и определения своей роли и характера своего участия в процессах глобализации на период до 2050 г. [Гельбрас, Кузнецова 2003, с.213, 217-219].
Близкую позицию при сравнительной оценке трансформационных процессов в России и Китае занимает известный экономист академик . Китайские реформаторы в противоположность российским выбирали в качестве стратегий перспективные институциональные траектории. В России же вместо научно обоснованного сопоставления множества вариантов с позиций институциональной динамики ограничились «наивной дилеммой «шоковая терапия – градуализм»». Это, по мнению автора, объясняет различия в результатах реформ. [Полтерович 2006]
Природа сложившейся в постсоветской России социально-экономической системы - этакратизм в новой фазе его развития. Капитализм - царство частной собственности. Что касается постэтакратизма, то в нем господствует принципиально другой тип собственности. Ее называют "приватизированной", что по смыслу слова является синонимом "частной", однако она представляет собой вполне оригинальное явление и по ряду существенных признаков совершенно ей противоположна. Частная собственность носит производительный, созидающий характер. Частным здесь является не только присвоение собственности, но и ее производство. При этом нормой является преобладание производства над присвоением. В современной России принцип «частности» действует в основном в сфере присвоения, которое отнюдь не лимитировано производством. Через присвоение приватизаторы, как правило, овладели ресурсами, в создании которых они не принимали никакого или почти никакого участия: имущество, накопленное трудом многих поколений, природные ресурсы, бюджетные средства. Нашим олигархам невозможно было защитить свою собственность от государственного деспотизма, поскольку эта собственность была ничьей, как в советское время.
Капиталистическая частная собственность универсальна. Она является достоянием всех - будь то хотя бы собственность на свою рабочую силу, на свои интеллектуальные способности, на свое жилище и т. д. "Приватизированная" собственность - достояние немногих. Как и ее предшественница, корпоративная собственность советской номенклатуры, она представляет собой сословную привилегию правящего слоя. Современный капитализм и новый российский строй не просто далеки друг от друга: они антиподы.
Деградация малого и среднего бизнеса, постоянное игнорирование прав профессионалов на интеллектуальную собственность, незащищенность труда – главной собственности рабочих – не просто случайные факты. Они являются не ошибками государственной политики, а органичной чертой экономической системы, либеральной по форме и стейтистской по содержанию, с ограниченной независимостью частных бизнесменов.
Устойчивость этакратических отношений отражена в функционировании институтов собственности, где отношения «власть-собственность», весьма характерные для данного типа общества, проявились в новой оболочке. В годы правления Путина окончательно сформировались новые доминирующие модели поведения, характерные для нового этапа в развитии так называемых отношений «власть-собственность» и «приватизированной собственности». Одним из таких явлений можно назвать возникновение компаний с преимущественно государственными активами и миноритарными акционерами. Это так называемое «частно-государственное» партнерство. Привлечение частного капитала (часто символическое) используется этими корпорациями для управления огромными активами стоимостью в десятки и сотни миллиардов долларов без какого-либо контроля со стороны формального владельца – российского народа, чьи интересы должна представлять Дума или правительство. Абсолютный контроль над подавляющей частью национального богатства (другими словами, его присвоение) сосредоточен в руках государственных чиновников и их исполнительных директоров – менеджеров этих корпораций [Илларионов 2006, с]
Природа формирующейся социетальной системы проявилась и в политике по отношению к профессионалам – потенциальному ядру нового среднего класса. Во время путинского периода и экономического роста ресурсы государства и общества увеличились. С 2000 года стала проявляться устойчивая тенденция в государственной политике, основанной на советской традиции взаимодействия между элитой и слабыми социальными группами в ущерб интересов среднего слоя. Дополнительные ресурсы были частично использованы для стабилизации и улучшения положения низших групп.
Либерализированная экономика постсоветской России на данном этапе своего развития приобрела неадекватную, архаическую социальную и политическую «оболочку».
Важность этого положения может быть прокомментирована на примере специфических трудностей, переживаемых современной Россией в ходе процессов трансформации. Характерно следующее высказывание известного американского социолога Майкла Бурового в иго интервью, данном в сентябре 2002 г. Коснувшись дискуссии в AJS (American Journal of Sociology) по поводу переходного периода в Китае, а также в Центральной и Восточной Европе, он сказал: «Примечательным в дискуссии было то, что никто не представлял пример России, который, с моей точки зрения, является примером провала реформ. Все говорили о примере Румынии или Болгарии. Но ведь провал-то случился не у них. Думаю люди должны будут переосмыслить свои теории в свете российского опыта … Однако анализ России, похоже не интегрирован в социологию и особенно в экономическую социологию, как, например, анализ Китая. Россия всегда стояла особняком, рассматривалась, скорее, как исключение. Но мне кажется, что социология только выиграла бы, если бы она включила в сферу своих исследований этот крайний случай – со столь необычной, уникальной историей. Конечно, это не подразумевает сведение российского опыта к некой общей теоретической схеме.». [.Радаев, Добрякова 2006. С. 37-38]
Россия как бы осталась в советском времени и пространстве, если брать в основу анализа латентные характеристики и доминирующие социально-экономические структуры, хотя и позаимствовала в процессе постсоветской трансформации многие атрибуты частнособственнической экономики и демократической организации общества. Крах коммунистической системы в России привел к переходу специфической евразийской цивилизации, сущностно отличной от европейской (атлантической) по институциональной структуре и системе ценностей, на новый этап ее эволюции.
Литература
Реформы в Советском Союзе и Китае // Пути России: двадцать лет перемен. 2005. Под редакцией . М.: МВШСЭН, 2005. С.68-70]
Кузнецова В. Китайский сценарий для России / Россия между вчера и завтра. Книга первая. Экспертные разработки. Под редакцией и . М.: Клуб 2015, 2003. С.213, 217-219.
Голдман М. Пиратизация России. Российские реформы идут вкривь и вкось. Перевод с английского . М.: Фонд социо-прогностических исследований «Тренды», 2005.
Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. М.: ЭКСМО; «АЛГОРИТМ», 2003.
Дубин Б. Запад для внутреннего употребления//КОСМОПОЛИС. 2003, №1 (3).
Победа ГЧП//Новая газета. № июля – 02 августа 2006г.
Кастельс M. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. Пер. с англ. под ред. . М.: ГУ-ВШЭ, 2000.
Россия и сетевое общество//Мир России. 2000, № 1.
Лэйн Д. Преобразование государственного социализма в России: от «хаотической» экономики к кооперативному капитализму, координируемому государством? // Мир России. 2000. № 1.
М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // Экономика и математические методы. 2006. Т.42. Вып.2.
, С (Отв. редакторы). Экономическая социология. Автопортреты. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006.
Россия и Запад/Он же. Цивилизация перед судом истории. Сборник. Спб: ЮВЕНТА, 1995.
Прошлое и будущее: тоска по коммунизму и ее последствия в России, Белоруссии и Украине // Мир России. 2007, №2. С.40-46]
Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3.
Столкновение цивилизаций. Перевод с английского. М.: Издательство АСТ, 2003.
Перспективы России: линеарность vs вариативность мирового развития//Мир России. 2002, №3.
Российский порядок: вектор перемен. М.: Вита пресс, 2004.
И, Социальная стратификация России и Восточной Европы. Сравнительный анализ. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.
, Социально-профессиональная структура и ее воспроизводство в современной России. Предварительные итоги представительного опроса экономически активного населения России 2006г. Препринт WP7/2007/02.
CерияWP7. теория и практика общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ, 2007.
Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. II. The Power of Identity. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.
Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. NY: Simon and Schuster, 1996.
Европа
- Северная Европа – Часть 1
- Общая характеристика хозяйства Северной Европы и отдельных его отраслей
- Южная Европа – Часть 1
- Западная Европа
- Общий обзор Западной Европы
- Природа Европы – Часть 1
- Хозяйство Европы – Часть 1
- Западная, Восточная Европа. Лекция
- Европа и США: Территориальные изменения после Первой мировой войны
- Страны северной Европы и дифференциация в ЕС
Евразия
- Евразия
- Реферат на тему: Политическая партия «Евразия»
- Живопись эпохи палеолита в системе культурных ценностей Евразии. Автореферат
- Концентричность структур безопасности в Евразии
- Единое нормативно-техническое пространство ЕврАзии. Пути интеграции
- Современные этносоциальные процессы у народов Евразии: теория, методология, практика
- Особенности этнополитического учения основоположников евразийства
- Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
- Тема урока: Евразия-величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними
- Повторительно-обобщающий урок по теме «Евразия»
Проекты по теме:
 Основные порталы (построено редакторами)
Основные порталы (построено редакторами)