На правах рукописи
Постфордистские концепции
и возможность их применения к исследованию социально-экономического развития России
Специальность 08.00.01. – «Экономическая теория»
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва – 2001
Диссертация выполнена на кафедре социально-экономических проблем экономического факультета Московского государственного университета им. .
Научный руководитель
академик
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор
кандидат экономических наук
Ведущая организация
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Защита состоится «____» ________ в 15 часов на заседании Диссертационного совета К 002.009.02 по присуждению ученой степени кандидата экономических наук в Институте экономики РАН Москва, Нахимовский пр. д. 32
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института экономики РАН
Автореферат разослан «____» _____________ 2001 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат экономических наук
Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования обусловлена прежде всего объективной потребностью теоретического осмысления происходящих в мире с середины 1970-х гг. изменений, позволяющих говорить об эпохальной социально-экономической трансформации, переходе к новому витку общественного развития. В связи с этим в экономический науке наблюдается повышенный интерес к проблемам социально-экономического развития в долговременной перспективе (в частности, к его периодизации), что выражается в появлении в последнюю четверть века ряда новых «постиндустриальных» теорий, а также ренессансе идей Й. Шумпетера и Н. Кондратьева, давшем толчок интенсивному развитию «теории длинных волн».
Эти исследовательские направления уже получили признание в отечественной экономической науке. Значительно менее известны в России так называемые «постфордистские дебаты», трактующие современный этап общественного развития как переход от «фордизма» к «постфордизму». Между тем за рубежом (прежде всего в западноевропейских странах) этой проблематике уделяется значительное внимание[1]: издаются монографии, в университетах читаются специальные курсы, ведется острая журнальная полемика[2].
По нашему мнению, различные концепции, существующие в рамках дебатов (далее – «постфордистские концепции»), обладают значительным научным потенциалом как в плане развития общих методологических основ исследований социально-экономического развития, так и в объяснении его современного этапа. В то же время, практические задачи управления переходными процессами, разработки долгосрочной социально-экономической стратегии развития, поиска достойного места России в мировой экономике требуют выработки соответствующего экономико-теоретического инструментария для их решения. В этом контексте актуальность темы исследования представляется нам вполне обоснованной.
Целью исследования является выявление научно-исследовательского потенциала постфордистских концепций применительно к исследованию социально-экономического развития в долговременной перспективе в мире в целом и в России в частности. Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
1. проанализировать методологические основы постфордистских концепций и определить их место в экономической науке вообще и в дискуссиях относительно характера происходящих в мире социально-экономических изменений в частности;
2. конкретизировать экономико-теоретический инструментарий постфордистских концепций;
3. рассмотреть возможность применения методологических подходов постфордистских концепций к исследованию социально-экономического развития России.
Объектом исследования являются постфордистские концепции, предметом исследования – их научно-исследовательский потенциал применительно к изучению социально-экономического развития в мире в целом, и в России в частности.
Методологической основой исследования послужили методы научного познания: системный, сравнительный, исторический анализ и синтез. Хотелось бы отметить реализуемый в диссертации междисциплинарный (с позиции единства социальных наук) подход к исследованию экономических явлений, приближающий нас к более точному теоретическому воспроизведению целостности реальной жизни. В более конкретном плане в качестве методологической основы были использованы теоретические наработки зарубежных ученых по постфордистской проблематике.
Степень научной разработанности проблемы. Весь массив литературы по постфордистской проблематике можно разделить на несколько групп.
В первую группу мы включаем основополагающие (своего рода классические) работы родоначальников основных постфордистских концепций: теории регуляции (М. Агльетта, А. Липетц, Р. Буайе)[3], концепции гибкой специализации (М. Пиор, М. Сабель),[4] неошумпетерианского направления (К. Фриман, К. Перес)[5]. Эти работы относятся главным образом ко второй половине 70-х – первой половине 80-х гг[6].
Вторую группу составляют работы, в которых содержится анализ постфордистских дебатов в целом, обобщение методологического опыта и сравнительный анализ различных постфордистских концепций (Б. Джессоп, А. Амин, М. Елам и др.)[7], проведенный в конце 80-х – первой половине 90-х гг.
Третья группа охватывает работы, посвященные возможным траекториям социально-экономического развития, выдержанные в духе постфордистских концепций или использующие близкие подходы (Д. Харви, А. Тиккель, А. Скотт, М. Сторпер, Й. Эссер и Й. Хирш, С. Лэш и Дж. Урри и др.)[8].
В четвертую группу входят работы, содержащие критику (ортодоксально-марксистскую, постмарксистскую и др.) постфордистских концепций (А. Поллерт, К. Уильямс, А. Сэйер, Р. Уолкер и др.)[9].
К пятой группе мы относим ряд новых работ, увидевших свет в основном в 90-х гг., в которых критически переосмысливается и развивается постфордистская методология (главным образом в рамках теории регуляции)[10].
На русском языке из вышеперечисленных источников вышла только одна работа – «Теория регуляции. Критический анализ» Р. Буайе[11]. В исследованиях российских авторов встречаются ссылки и на некоторые другие работы представителей теории регуляции, концепции гибкой специализации, неошумпетерианских концепций, а также довольно краткое (до нескольких страниц) описание или анализ их положений. Однако целостного и более глубокого анализа постфордистских дебатов в российской научной литературе до сих пор предпринято не было.
Вместе с тем, проблемы социально-экономического развития в долговременной перспективе занимают важное место в исследованиях российских экономистов (, , и др.).
В плане сравнительного анализа мы также опирались на ряд работ отечественных и зарубежных исследователей в рамках политэкономии, эволюционной экономики, институционализма, постиндустриальных теорий, экономической социологии.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
1) Выявлен ряд признаков, позволяющих характеризовать постфордистские концепции, представленные тремя основными направлениями – теорией регуляции, концепцией гибкой специализации, неошумпетерианскими концепциями – как самостоятельную исследовательскую программу: а) общий предмет исследования – развитие «капитализма» в долговременной перспективе; б) общий подход к его периодизации в ХХ веке – на основе выделения этапов «фордизма» и «постфордизма»; в) общая методологическая основа – исследование социально-экономического развития с позиций взаимодействия технико-экономической и социоинституциональной подсистем.
2) Доказано, что постфордистские концепции могут рассматриваться как одно из направлений современного институционализма, больше тяготеющее к традициям «старой школы», чем к неоинституционализму.
3) Конкретизированы экономико-теоретический инструментарий постфордистских концепций и система терминов: «режим накопления», «способ регуляции экономики», «социетальная парадигма», «способ господства» и т. п.
4) Концептуально обоснована возможность применения экономико-теоретического инструментария постфордистских концепций к исследованию социально-экономического развития России, включая: а) исследование советской экономики как модификации фордизма; б) анализ «переходной экономики» России в контексте мировых трансформационных процессов – как перехода от фордизма к постфордизму.
Практическая значимость. Общетеоретическая направленность диссертационной работы определяет сферу ее практического применения. Работа вносит определенный вклад в научные исследования в области долговременного социально-экономического развития[12]. Положения диссертации могут быть использованы при разработке учебных программ, подготовке учебных пособий, чтении лекций по методологии экономических исследований, истории экономический учений, экономической истории, экономической социологии и другим учебным курсам, освещающим вопросы теории и перспективы социально-экономического развития. При этом представляется целесообразным введение в учебный курс «История экономических учений» специального раздела, посвященного постфордистским концепциям.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования использовались автором при чтении курсов лекций по постфордистской проблематике в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Муниципальном институте г. Жуковского (Моск. обл.).
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, формулируются его цели и задачи, характеризуются степень разработанности проблемы, новизна, практическая значимость работы и т. п.
Глава I «Исследовательская программа постфордистских концепций» посвящена всестороннему анализу предметной области и методологии постфордистских исследований.
В §1 «Методология постфордистских концепций: классические подходы» рассматривается особая исследовательская область – «постфордистские дебаты», представляющие собой совокупность концепций, объединяющим началом для которых являются центральные категории «фордизма» и «постфордизма», характеризующие этапы общественного развития в ХХ веке. Следует подчеркнуть, что в отечественной науке эти термины обычно используются применительно к организации производства, тогда как в данных концепциях они включают в себя более широкий круг явлений, охватывая различные области экономики, политики и культуры. Родоначальником такого подхода можно считать итальянского марксиста А. Грамши, еще в 1930-х гг. заложившего основы понимания фордизма как целостного социально-экономического и культурного явления[13]. В конце 1970-х гг. французский экономист М. Агльетта впервые применил этот термин для характеристики послевоенного этапа социально-экономического развития США[14]. Затем концепция фордизма была распространена и на другие промышленно развитые страны, а некоторые исследователи заговорили о «глобальном фордизме», «фордизме в мировых масштабах»[15]. Современные дискуссии относительно траекторий социально-экономического развития ведутся в терминах постфордизма[16].
Постфордистские концепции, не складываясь в монолитную теоретическую систему, скорее являются отдельной областью дискуссий, открытой исследовательской программой, в рамках которой можно выделить три основные течения: теорию регуляции, концепцию гибкой специализации, неошумпетерианские концепции[17]. Наиболее влиятельной среди них является теория регуляции, связанная преимущественно с марксистской традицией[18], обогащенной идеями кейнсианства и экономической истории (в духе французской школы «Анналов»). Концепция гибкой специализации развивает трактовку производительности как функции разделения труда, основы которой были заложены еще А. Смитом. Неошумпетерианское направление разрабатывает идеи Н. Кондратьева (о «больших циклах» в развитии «капитализма») и Й. Шумпетера (о ведущей роли предпринимателей-инноваторов в рождении новой технологической парадигмы) в общей институциональной перспективе.
Исследование социально-экономического развития осуществляется с позиций анализа технико-экономической и социоинституциональной подсистем в их взаимодействии. В теории регуляции это выражается в категориях «режим накопления» и «способ социальной регуляции». У неошумпетерианцев подобный подход представлен анализом «вызревания» «технико-экономической парадигмы» в определенном «социоинституциональном окружении», а в концепции гибкой специализации – выделением двух «производственных парадигм» (массового и гибкого производства), доминирование каждой из которых зависит от «политических решений» и «институционального выбора». Несмотря на то, что взаимодействие между вышеприведенными категориями варьируется (от выраженного технологического детерминизма у неошумпетерианцев, через взаимовлияние у регуляционистов, до доминирования специфических «исторических условий» и «политических решений» у теоретиков гибкой специализации), позиции исследователей сходятся в том, что долговременный и устойчивый экономический рост возможен только на основе гармоничного сочетания технико-экономической и социоинституциональной подсистем. Историческая и пространственная специфика этого сочетания характеризуют соответственно определенный этап общественного развития и его страновые (региональные) модификации. Таким образом, в концепциях ясно просматриваются исторический и социокультурный подходы.
В §2 «Траектории социально-экономического развития в свете постфордистских концепций» анализируются трактовки происходящих социально-экономических изменений. Современное положение расценивается в рамках постфордистских концепций как время перехода к очередному этапу социально-экономического развития, что высвечивает понимание системного характера происходящих изменений. Постфордистские концепции работают на более низком уровне абстракции, нежели постиндустриальные теории[19], и рассматривают развитие в рамках «капитализма», что и определяет в конечном счете более скромную оценку масштабов перемен. В отличие от постиндустриальных теорий, предвещающих окончание многовекового этапа общественного развития (индустриального общества), речь ведется лишь об окончании эпохи фордизма.
Периодизация социально-экономического развития в ХХ веке с позиций постфордистских концепций в общих чертах может быть представлена следующим образом (см. табл. №1)
|
Таблица № 1. Периодизация социально-экономического развития в ХХ в. | ||||
|
до первой мировой войны |
период между мировыми войнами |
период после второй мировой войны |
последняя четверть ХХ века | |
|
Историческая эпоха |
Фордизм |
Постфордизм? Неофордизм? Затянувшийся структурный кризис? | ||
|
Технико-экономическая подсистема |
Преимущественно экстенсивная |
Появление фордистской интенсивной |
Фордистская интенсивная |
Кризис фордистской Появление: гибкой? неофордистской? |
|
Социоинститу-циональная подсистема |
Конкурентная |
Кризис конкурентной |
Монополистическая (административная, фордистско-кейнсианская) |
Кризис монополистической Появление: неокорпоративной? неостейтистской? |
Все постфордистские концепции приходят к некоторому согласию относительно уходящей эры фордизма, которая основывалась на развитии массового производства и потребления, гарантированных кейнсианской экономической политикой управления спросом, социальным («фордистским») компромиссом[20] и идеологическими конструкциями типа «общества потребления» и «государства всеобщего благосостояния». Подобное сочетание позволило развитым странам достичь беспрецедентных темпов экономического роста и приблизится к полной занятости.
Однако взгляды на будущее различаются. Хотя в центре внимания исследователей находятся практически одни и те же явления и процессы (смена технологической основы производства, кризис фордистско-тейлористской организации труда, дифференциация спроса, возросшая неопределенность как фактор принятия решений, изменение роли государства, глобализация и т. п.), характерные для последней четверти ХХ в. и высвечивающие кризис фордизма, основной фокус в области траекторий социально-экономического развития определен исходными методологическими посылками: теория регуляции сосредоточена на поиске новых механизмов регуляции (особенно нового институционализированного «классового компромисса»), концепция гибкой специализации – на способах реализации «гибкой производственной парадигмы» как наиболее адекватной реакции на рыночные изменения, неошумпетерианские концепции – на продвижении технологических инноваций, составляющих основу «пятой кондратьевской волны» (микроэлектроника). Таким образом, соответственно подчеркиваются классовый, рыночный и структурный аспекты перемен.
Вопрос о стабилизации новой модели развития остается открытым. Одна часть исследователей вполне определенно говорит о составляющих нового режима (неошумпетерианцы, теоретики гибкой специализации), другая – видит настоящий этап как продолжающийся кризис, время экспериментов с различными стратегиями (большинство регуляционистов)[21]. Среди возможных стратегий выделяют неолиберализм (связанный с ведущей ролью рынка), неокорпоративизм (подразумевающий принятие важнейших решений в рамках замкнутых сообществ) и неостейтизм (основанный на активной роли государства). В большинстве концепций подчеркивается более гибкий (по сравнению с фордизмом) характер производства, потребления, государственной политики и т. п.
В §3 «Реконструкция теории» конкретизируется и развивается ряд ключевых методологических положений постфордистских концепций, систематизируется и упорядочивается категориальный аппарат[22].
Для характеристики технико-экономической системы, ориентированной на постоянное обеспечение накопления капитала, предлагается использовать термин «режим накопления» (РН). Его основными элементами являются: модель трудового процесса, организация производства (организационная структура «бизнеса», «дела» как целостной производственной единицы), структура совокупных предложения (отраслевая структура экономики) и спроса (конечного потребления).
Мы исходим из того, что процесс накопления протекает в определенных структурных условиях, включающих в себя как материальные условия накопления (пространственно-географические факторы, ресурсная база), так и социальные нормы (институты)[23]. Если первые представляют собой изначальные условия накопления, то вторые являются своего рода динамическим регулятором самого процесса накопления, который на пути стабилизации (раскрытия экономического потенциала «режима накопления») сталкивается с рядом институциональных проблем (согласование структуры и объемов производства и потребления, урегулирование противоречий между различными субъектами социально-экономической системы).
Таким образом, встает вопрос о механизмах регуляции, обеспечивающих согласованное развитие экономической системы. Здесь имеет смысл разделить механизмы, влияющие на процесс накопления непосредственно и опосредованно. Для описания механизмов регуляции, направленных непосредственно на обеспечение экономической эффективности, мы предлагаем использовать термин «способ регуляции экономики» (СРЭ), который охватывает четыре основных институциональных комплекса как совокупности норм, регулирующих определенную сферу экономической системы: трудовые отношения, конкуренцию, кредитно-денежную систему, государство. Для описания механизмов социальной регуляции неэкономических по своей сути, но все же существенно влияющих на процесс накопления, мы предлагаем термин – «социетальная парадигма» (СП). Речь идет о моделях массовой интеграции и социальной сплоченности на основе общности идеологии, ценностей, стилей жизни и т. п. Здесь могут рассматриваться различные идеологические конструкции (например, «национальная идея»), стили жизни (например, феномен «общества потребления», интерпретируемый как парадигма существования современного индивида) и т. п. Иными словами, СРЭ и СП отражают разные уровни социальной регуляции – экономическую систему и общество в целом.
Одно из основных уязвимых мест большинства постфордистских концепций – избыток функционализма и объективизма. Преувеличение регулирующей (определяющей) роли институтов и трактовка социально-экономического развития как реализации некой абстрактной логики «капиталистического накопления» часто приводят к недооценке субъективных факторов. Мы предлагаем дополнить анализ рассмотрением инициативного социального действия. По нашему мнению, не следует говорить о полной детерминации поведения людей структурными условиями. Человеку присуще стремление не только адаптироваться к условиям внешней среды, но и изменять их для наилучшего удовлетворения своих потребностей. Это подводит нас к следующей трактовке институтов: они не только ограничивают и направляют действия субъектов, но также сами являются объектом инициативных действий со стороны этих субъектов с целью их изменения. В определенные моменты времени борьба между социальными силами за изменение институциональной структуры обостряется. Это может быть связано как с объективными (изменение условий накопления в связи с НТП), так и с субъективными (существенное изменение сравнительной политической мощи различных групп) причинами. Сложившийся баланс социальных сил определяет характер новой институциональной структуры, воплощая в ней определенную модель отношений господства и подчинения, которую мы предлагаем называть «способ господства» (СГ). Наступает период относительной социальной стабильности, являющейся необходимым условием для успешного протекания процесса накопления. В этом смысле институты можно трактовать как «социальное перемирие», заключенное после периода открытых конфликтов.
Сформулируем преимущества предложенного подхода. Во-первых, введение в анализ инициативного социального действия открывает дополнительные возможности изучения институциональной динамики, позволяя преодолеть узкие места ее функционалистских и объективистских трактовок. Во-вторых, предложенный подход помогает преодолеть технологический детерминизм, провозглашающий основным эндогенным фактором социально-экономического развития НТП. Мы же полагаем, что сам выбор технологической траектории является во многом результатом политических решений. В-третьих, необходимо подчеркнуть отличие предложенной нами концепции социального действия от его односторонней трактовки ортодоксальным марксизмом, сосредоточившимся на антагонистической сущности «классовой борьбы». Мы считаем необходимым анализировать реальные противоречия как движущую силу социально-экономического развития, смещая при этом акцент на изучение тех институциональных форм, в которых они регулируются на каждом этапе развития.
Изложенные выше предложения позволили нам сформировать целостную систему категорий анализа (см. табл.№2).
|
Таблица №2. Основные категории анализа | ||
|
Общественные подсистемы |
Термин |
Основные составляющие |
|
Технико-экономическая подсистема (сфера накопления) |
Режим накопления |
· модель трудового процесса · организация производства; · отраслевая структура; · структура конечного потребления; |
|
Социоинституциональная подсистема (сфера социальной регуляции) |
Способ регуляции экономики |
Институциональная конфигурация: · трудовых отношений; · конкурентной среды; · государства. |
|
Социетальная парадигма |
· идеология; · стили жизни. | |
|
Способ господства |
· отношения господства и подчинения (баланс социальных сил) |
Учитывая вышесказанное, мы делаем вывод о том, что сами институты должны трактоваться несколько иначе. Мы полагаем, что в институтах находят воплощение все три традиционно выделяемые сферы общественной жизни: экономика, культура, политика. С учетом предложенных нами категорий, институты как элементы реальной жизни могут быть рассмотрены с позиций:
· способа регуляции экономики (как вклад в эффективное функционирование экономической системы);
· социетальной парадигмы (как вклад в обеспечение единства общества на основе общих ценностей);
· способа господства (как отражения отношений господства и подчинения на основе сложившегося баланса социальных сил) [24].
Схематически это может быть представлено следующим образом
(см. рис. №1)[25].
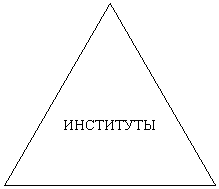 Рисунок №3. Институты как механизмы социальной регуляции
Рисунок №3. Институты как механизмы социальной регуляции
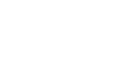
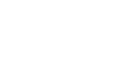
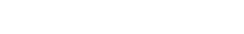
Так, например, институты социального партнерства как структурообразующий элемент фордистских отношений найма могут рассматриваться:
· как инструмент повышения эффективности производства в силу принятия рабочими фордистских методов производства;
· как механизм обеспечение социальной стабильности и интеграции общества на основе приверженности всех субъектов социально-экономической системы принципам экономического роста и увеличения благосостояния;
· как выражение (в новой форме) властных отношений между трудом и капиталом в результате исторически сложившегося баланса социальных сил, обусловленного ростом организованности наемного труда (профсоюзное движение) и невозможностью, в силу этого, грубого экономического принуждения со стороны капитала.
Подобная трактовка институтов снимает вопрос об их «необходимой» связи с экономической эффективностью. Существование экономически малоэффективных институтов может быть объяснено преобладанием их социокультурных или политических функций.
По нашему мнению, именно постановка в центр исследования институтов (как единства экономических, социокультурных и политических отношений) способна сгладить как искусственную разобщенность внутри социальных наук, приводящую к их изоляции друг от друга, так и «империалистические» претензии каждой из них на роль универсальной социальной методологии.
Как известно, институты обладают значительной инерцией. Особенно это касается неформальных норм (традиций, обычаев и т. п.), прочно укорененных в менталитете. По нашему мнению, именно наличие институтов как относительно устойчивых форм взаимодействия между субъектами социально-экономической системы объясняет дискретный характер социально-экономического развития. Институт является базовым структурным и неделимым элементом (своеобразным «кирпичиком») в процессе социально-экономического развития (в процессе возведения «здания истории»). Таким образом, наиболее удачной, по нашему мнению, является трактовка социально-экономического развития как «прерывистого равновесия» – последовательности периодов институциональной стабильности, прерываемых периодами структурных кризисов и значительных институциональных изменений.
Глава II «Постфордистские концепции в контексте российских дискуссий о формировании новой парадигмы экономической науки» посвящена обсуждению возможности использования методологических подходов постфордистских концепций применительно к российским реалиям. Следует отметить, что задачей является не интерпретация социально-экономического развития России с позиций постфордистских концепций, а лишь концептуальное обоснование возможности подобного подхода. Скромность поставленной задачи объясняется необходимостью предварительного глубокого осмысления методологии постфордистских концепций, выявления ее познавательных возможностей. В ином случае попытки применения концепций к исследованию России и, тем более, выработки практических рекомендаций в области социально-экономической политики нам представляются поспешными и малопродуктивными.
В §1 «Источники формирования новой парадигмы» проведен сравнительный анализ постфордистских концепций и основных направлений экономической мысли, развиваемых российскими учеными. Отказ от абсолютного примата марксистского обществоведения и последующее доминирование в отечественной экономической науке, образовании и государственной политике неолиберализма, подвергающегося аргументированной критике в России и за рубежом, инициировали российские дискуссии о формировании новой парадигмы экономической науки[26]. По всей видимости, состояние экономической науки в ближайшей перспективе будет характеризоваться методологическим плюрализмом[27]. В качестве альтернативных по отношению к основному течению («мэйнстриму») подходов, способных внести вклад в разработку новой научной парадигмы в целом и общей теории социально-экономического развития в частности, нами рассматриваются политэкономия, эволюционная экономика (в том числе теория длинных волн), институционализм, экономическая социология, постиндустриальные теории.
Сравнительный анализ перечисленных подходов и постфордистских концепций позволяет сделать вывод о целесообразности интеграции последних в российские научные дискуссии. Это утверждение основывается на том, что постфордистские концепции уже сегодня отражают и теоретически обобщают многие наиболее сильные стороны вышеупомянутых подходов (анализ социально-экономических процессов в их развитии, с позиций качественных изменений; исследование социально-экономического развития сквозь призму взаимодействия технико-экономической и социоинституциональной подсистем; рассмотрение институтов в качестве центрального объекта исследования; включение в анализ наряду с социальной структурой социального действия; рассмотрение экономических процессов в широком историческом и социокультурном контексте и т. п.), во многом избегая при этом ограниченности каждого из них. По нашему мнению, постфордистские концепции могут быть охарактеризованы не только как экономические, но и шире – как обществоведческие доктрины и в этом качестве представляют собой адекватную основу для формирования в дальнейшем комплексной теории социально-экономического развития.
В §2 «Общее и особенное в социально-экономическом развитии России» обосновывается подход к изучению социально-экономического развития как общецивилизационного процесса, представляющего собой последовательность этапов (стадий) развития. При этом место и роль конкретных стран (регионов) в этом процессе различны, что позволяет говорить о национальных (региональных) моделях в рамках определенного этапа.
В то же время применительно к советской социально-экономической модели в отечественной науке и образовании зачастую продолжает воспроизводиться подход, прямо противопоставляющий ее западной модели («социализм» – «капитализм», «плановая система» – «рыночная экономика» и т. п.), что затеняет их несомненное историческое сходство[28]. Мы же считаем, что советская модель – это специфический национальный «ответ» на общие «вызовы» ХХ века, который обусловлен рядом географических (огромные территории и богатство природных ресурсов), исторических (отсталость в развитии «капиталистических» отношений), институциональных (традиционно сильная роль государства) и социокультурных (общинный менталитет) и других факторов. По нашему мнению, анализ советской системы как модификации фордизма способен приблизить нас к комплексному пониманию универсальных тенденций общественного развития в ХХ веке в их различных проявлениях.
Возможные направления использования экономико-теоретического инструментария постфордистских концепций в этой области представлены нами следующим образом (см. табл. №3).
|
Таблица №3. Советская система как национальная модификация фордизма | ||
|
Классический фордизм |
Советский фордизм | |
|
Режим накопления |
Интенсивный фордистский |
Экстенсивный фордистский |
|
Организация труда |
«Научная организация труда» (НОТ), (тейлоризм), технологии массового производства |
Экспорт НОТ и технологий массового производства |
|
Организация производства |
Крупные вертикально интегрированные производственные структуры |
Гипертрофированные (гигантские) размеры производственных структур |
|
Отраслевая структура |
Массовое производство потребительских товаров и услуг |
Гипертрофированное развитие отраслей средств производства и ВПК в ущерб развитию производства потребительских товаров и услуг |
|
Структура конечного потребления |
Массовое потребление широкими слоями населения |
Ограниченное (по количеству и качеству товаров) массовое потребление широкими слоями населения, дефицит |
|
Способ регуляции экономики |
Административно-монополистический |
Государственно-патерналистский |
|
Трудовые отношения |
Социальный компромисс на основе системы социального партнерства (трипартизм, коллективные договоры) |
Социальный компромисс на основе заниженных взаимных требований (низкая производительность труда – низкая зарплата) и элементов госпринуждения, патернализм |
|
Конкурентная среда |
Олигополистическая конкуренция |
Высокая степень монополизации рынка, скрытая конкуренция за ресурсы, снижение плана и т. п. |
|
Кредитно-денежная система |
Низкие процентные ставки, расширение потребительского кредита |
Деформированная денежная система и ценообразование, искусственно заниженные (по сравнению с мировыми) цены на многие товары и услуги. |
|
Государство |
Активная роль в регулировании экономики, приближение к полной занятости, развития система социальной защиты |
Доминирующая роль, практически полная (часто неэффективная, избыточная) занятость, специфическая система социальных гарантий (одинаково невысокий уровень жизни для всех), |
|
Социетальная парадигма |
Общество потребления, государство всеобщего благосостояния |
«Развитой социализм» |
|
Идеология |
Идеология «государства всеобщего благосостояния», ориентированная на идеалы общества потребления и социальной справедливости. Сравнительный рост значения коллективистских ценностей в индивидуалистическом обществе

|
Коллективистская идеология, основанная на уравнительном понимании социальной справедливости |
|
Стили жизни |
Унифицированный американский стиль жизни, массовая культура |
Унифицированный «стиль жизни советского человека», массовая культура |
|
Способ господства (изменение баланса социальных сил) |
Усиление роли профсоюзов и государства, развитие институтов гражданского общества, парламентская демократия |
Однопартийная система, сращивание государства и компартии, государственный тоталитаризм, деформированное предпринимательство, профсоюзы как «приводной ремень» компартии, неразвитость институтов гражданского общества |
|
Способ включения в мировое хозяйство |
Относительная замкнутость национальных экономик, внешнеэкономическая политика на основе приоритета государственных (общенациональных) интересов |
Искусственная изоляция от западных стран, экономическая и политическая автаркия, развитие отношений со странами «социалистической ориентации» |
В §3 «Переходная экономика России и мировые трансформационные процессы» нами предлагается более широкая трактовка переходной экономики России – в контексте мировых трансформационных процессов – как переход от фордизма к постфордизму. В отечественной науке в качестве главного индикатора переходных процессов как правило выступают возрастающая роль рынка в регулировании хозяйственной жизни и увеличивающийся удельный вес частного сектора, что позволяет некоторым исследователям говорить о том, что переходный период уже закончился. «Узость» подобной трактовки происходящих в России социально-экономических перемен проявляется как в плане исторического масштаба (переход не сводится к реформированию прежней системы хозяйствования), так и в плане пространственных рамок (в ситуации переходности пребывает не только Россия). Мы же хотим подчеркнуть, что переход осуществляется не к некой абстрактной рыночной экономике, а в рамках конкретного этапа ее развития (в соответствии с предложенной трактовкой – переход от фордизма к постфордизму). В этом смысле переходный период вряд ли можно считать завершенным.
Важно осознать, что ситуация переходности, предшествующая новому этапу институциональной непрерывности (в соответствии с трактовкой развития как «прерывистого равновесия»), открывает определенные возможности выбора траектории развития[29]. Но как только выбор сделан, изменение траектории будет связано со значительными экономическими и социальными издержками. По нашему мнению, анализ переходного процесса как становления траектории социально-экономического развития предполагает учет не только объективных факторов, но и интересов различных социальных сил, являющихся носителями потенциальных вариантов этой траектории. В силу системного характера происходящей в России трансформации анализ переходного периода с использованием конкретизированного нами экономико-теоретического инструментария – как становления новых «режима накопления», «способа регуляции экономики», «социетальной парадигмы», «способа господства» – представляется нам весьма перспективным.
В заключении сформулированы наиболее важные выводы и рекомендации:
1) Несмотря на ряд различий между отдельными концепциями (теория регуляции, концепция гибкой специализации, неошумпетерианские концепции и др.) в рамках постфордистских дебатов, в целом они могут быть охарактеризованы как самостоятельная исследовательская программа, объединенная общим предметом и методологическими основами исследования:
· предметом исследования является развитие «капитализма» в долговременной перспективе;
· для периодизации «капитализма» в ХХ веке используются категории «фордизм» и «постфордизм»;
· методологический подход к исследованию социально-экономического развития основывается на анализе технико-экономической и социоинституциональной подсистем в их взаимодействии.
2) Постфордистские концепции являются альтернативным направлением экономической мысли по отношению к ее основному течению («мэйнстриму»), главные отличия от которого заключаются в следующем:
· отказ от концепции общего равновесия (равновесного анализа), рассмотрение экономических явлений в процессе и с позиций их эволюции;
· отказ от модели «homo economicus» и экономического детерминизма, признание социокультурной обусловленности экономического действия;
· отказ от контрактной модели социально-экономических отношений, признание того, что они в том числе отражают отношения господства и подчинения между различными социальными силами;
· отказ от методологического индивидуализма, рассмотрение социально-экономических процессов с позиций холизма.
3) На основе критического переосмысления и конкретизации категориального аппарата постфордистских концепций мы предлагаем при исследовании социально-экономического развития использовать следующие категории:
· «режим накопления» (РН), характеризующий развитие технико-экономической подсистемы (модель трудового процесса, организация производства, структура совокупного предложения и конечного потребления);
· «способ регуляции экономики» (СРЭ), характеризующий институциональные механизмы, призванные обеспечить ее согласованное функционирование (институциональная конфигурация трудовых отношений, конкурентной среды, кредитно-денежной системы, государства);
· «социетальная парадигма» (СП), характеризующая процессы социальной интеграции общества (идеология, социальные ценности, стили жизни), также оказывающие влияние на процесс накопления;
· «способ господства» (СГ) как отражение отношений господства и подчинения в социально-экономической системе.
4) Особое внимание, уделяемое изучению институтов, а также ряд нижеприведенных теоретических положений относительно их роли в социально-экономической системе позволяют рассматривать постфордистские концепции как одно из направлений институционализма, более тяготеющее к его «старой» традиции, чем к неоинституционализму:
· институты ограничивают и направляют действия субъектов социально-экономической системы;
· институты как устойчивые формы взаимодействия между людьми поддерживают преемственность и стабильность в течение сравнительно длительных периодов, их сменой объясняются качественные изменения и прерывистость процесса развития;
· институты являются результатом и предметом борьбы различных социальных сил за изменение их конфигурации, воплощая в себе определенные социальные компромиссы на каждом этапе развития;
· в институтах реализуется национальная социокультурная специфика.
5) Происходящие в мире с середины 1970-х гг. качественные социально-экономические изменения являются предметом анализа не только постфордистских, но и постиндустриальных теорий, однако их исследовательские ориентации в значительной степени отличаются:
· постфордистские концепции сосредоточены на периодизации «капитализма», выделяя в его развитии стадии протяженностью около полувека, в отличие от постиндустриальных теорий, претендующих на периодизацию общественного развития в целом;
· для постфордистских концепций характерно стремление не только объяснить качественные изменения последней четверти ХХ века, но и разработать экономико-теоретический инструментарий для исследований социально-экономического развития (движущих сил, механизмов социально-экономических трансформаций, временной и пространственной неравномерности развития, возникающих противоречий и т. п.), в то время как постиндустриальные теории носят в значительной степени описательный характер и сосредоточены главным образом на изучении и социально-философском осмыслении «постиндустриальных тенденций».
· в рамках постфордистских концепций социоинституциональная подсистема как правило рассматривается как относительно автономная, обладающая собственной логикой развития, в то же время значительной части постиндустриальных теорий присущ технологический детерминизм, провозглашение научно-технического прогресса главным двигателем общественного развития.
6) Применительно к исследованию социально-экономического развития России реализация подхода с использованием теоретического инструментария постфордистских концепций предполагает:
· анализ советской системы как модификации фордизма;
· широкую трактовку переходной экономики России в контексте мировых трансформационных процессов (переход от фордизма к постфордизму), которая представляется более плодотворной, чем узкая (переход от плановой экономики к рыночной).
7) Анализ переходной экономики России с позиций методологии постфордистских концепций имеет ряд преимуществ:
· позволяет рассматривать переходные процессы, происходящие в российской экономике, в общецивилизационном контексте, подчеркивая, что переход осуществляется не к некой абстрактной рыночной экономике, а в рамках конкретного этапа ее развития;
· позволяет охватить весь спектр отношений: экономических, социокультурных, политических, что особенно важно ввиду системного характера происходящей в России трансформации;
· позволяет осознать исключительную важность переходного периода, предшествующего новому этапу институциональной непрерывности, с точки зрения возможности выбора траектории развития, изменение которой будет связано со значительными экономическими и социальными издержками как только этот выбор сделан;
· позволяет анализировать становление новой траектории социально-экономического развития России сквозь призму столкновения и борьбы интересов различных социальных сил, являющихся носителями потенциальных вариантов этой траектории.
В целом мы полагаем, что постфордистские концепции способны обогатить существующие в современной России теоретические и практические подходы к проблемам социально-экономического развития страны в долговременной перспективе.
По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы:
1. Фордизм как социально-экономическое и культурное явление // Сборник студенческих научных работ. Выпуск первый. / Сост. . М.: АНХ при Правительстве РФ. М., 1998. (0,3 п. л.).
2. Фордизм как этап общественного развития // Приложение к журналу «Труд и социальные отношения». М., 1998. №3. (0,5 п. л.)
3. Национальное государство в эпоху постфордизма: перспективы и противоречия // Государство и экономика в переходный период. Сборник научных статей аспирантов и соискателей. / Под ред. . М.: Академия труда и социальных отношений. М., 1999. (0,3 п. л.)
4. Постфордистские теории (материалы к лекциям и семинарам) // Российский экономический журнал. М., 1999. №4. (0,3 п. л.).
5. Постфордистские концепции. Критический анализ. Казань, 20п. л.).
[1] О важном месте постфордистских концепций в зарубежной науке говорит, например, тот факт, что в авторитетном исследовании К. Кумара они рассматриваются как одно из трех основных направлений в исследованиях современного общества наряду с теориями информационного общества и постмодернизма. См.: Kumar, K. From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World. Oxford: Blackwell, 1995.
[2] В качестве журналов, наиболее часто обращающихся к постфордистской проблематике, можно назвать: Economy and Society, New Left Review, Capital and Class, Environment and Planning, New Political Economy и др.
[3] См.: Aglietta M. A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience. London: New Left Books, 1; Lipietz A. Mirages and Miracles: the Crisis of Global Fordism. London: Verso, 1; Boyer R. The regulation school: a critical introduction. New York: Columbia University Press, 1и др.
[4] Piore M., Sabel C. F. The Second Industrial Divide. New York: Basic Books, 1984.
[5] Freeman C., Perez C. Structural Crisis of Adjustment, Business Cycles and Investment Behavior // Technical Change and Economic Theory. / G. Dosi. London: Frances Pinter, 1988 и др.
[6] Следует отметить, что работы французских авторов первоначально были изданы на родном языке. Однако в своем исследовании мы пользовались их англоязычными переводами (вышедшими чуть позднее), которые и фигурируют в сносках к основному тексту и в списке использованной литературы. Дата первого (французского) издания этих работ приводится в скобках.
[7] См.: Jessop B. Regulation Theories in Retrospect & Prospect // Economy and Society. Vol., May 1990.; Amin A. Post-Fordism: Models, Fantasis & Phantoms// Post-Fordism: A Rеаder. / A. Amin. Oxoford: Basil Blackwell, 1994.; Elam M. Puzzling out the Post-Fordist Debate: Technology, Markets and Institutions. // Post-Fordism. A Rеаder. / A. Amin. Oxoford: Basil Blackwell, 1994.; Kumar, K. From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World. Oxford: Blackwell, 1995. и др.
[8] Harvey D. The condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989.; Peck J., Tickell A. Searching for New Institutional Fix: the After-Fordist Crisis and Global-Local Disorder // Post-Fordism: A Rеаder. / A. Amin. Oxoford: Basil Blackwell, 1994.; Esser J., Hirsch J. The Crisis of Fordism and the Dimensions of a Post-Fordist Regional and Urban Structure. // Post-Fordism: A Rеаder. / A. Amin. Oxoford: Basil Blackwell, 1994.; Scott A. New Industrial Spaces: Flexible production Organisation & Regional Development in North America & Western Europe. London: Pion, 1988.; Scott A. Flexible Production System & Regional Development: The Rise of New Industrial Spaces in North America & Western Europe // The International Journal of Urban & Regional Research. 1988. No.12.; Storper M., Scott A. Work Organisation & Local Labor Marcets in an Era of Flexible Production // International Labor Review. 1990, №5.; Lash S., Urry J. The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press, 1987.; Economies of Signs and Space. London: Sage, 1994.; Lipietz A. Towards a New Economic Order: Post-Fordism, Ecology and Democracy. Polity Press, 1993. и др.
[9] См.: Pollert A. The Flexible Firm’: Fixation or Fact? // Work, Employment & Society. 1988. №3.; Dismantling Flexibility // Capital & Class. 1988. №34.; Sayer A., Walker R. The New Social Economy: Reworking the Division of Labor. Oxford: Blackwell, 1992.; Williams, K., Cutler, T., William, J., Haslam, C. The End of Mass Production? // Economy & Society. 1987, № 16. и др.
[10] См.: Jonnson I. Regimes of Accumulation, Microeconomies and Hegemonic Politics. // Capital and Class. 1993. №50. Tickell A., Peck J. A. Accumulation, Regulation & the Geographies of Post-Fordism: Missing Links in Regulationist Research // Progress in Human Geography, 1992.; Friedman A. Microregulation and Post-Fordism: Critique and Development of Regulation Theory. // New Political Economy. 2000. Vol. 5. No. 1. и др.
[11] Теория регуляции. Критический анализ. М.: Научно-издательский центр «Наука для общества», РГГУ, 1997.
[12] Следует отметить, что сугубо теоретический характер работы и ее выводов, по нашему мнению, нельзя рассматривать как недостаток. В этой связи хотелось бы привести слова академика : «Надо, наконец, понять и то, что нельзя отождествлять экономическую теорию со схоластикой, с оторванными от жизни умозрительными схемами и искусственными построениями, что указание на сугубо теоретический подход – это не ругательство и не упрек». Абалкин переходного периода в экономике России. // Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. (Доклады и выступления участников международного симпозиума, г. Пущино, 12-15 сентября, 1994 г.). М., 1995. С.12.
[13] См.: Gramshi A. Americanism & Fordism // Selections from Prison Notebooks. London: Laurence & Wishart, 1971.
[14] См.: Aglietta M. A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience. London: New Left Books, 1979.
[15] См.: Lipietz A. Mirages and Miracles: the Crisis of Global Fordism. London: Verso, 1987.
[16] См.: Post-Fordism. / A. Amin. Oxoford: Basil Blackwell, 1994. и др.
[17] Вместе с тем наблюдаются попытки создания оригинальных теорий, которые лишь с существенными оговорками можно отнести к одному из перечисленных направлений. Особо следует отметить вовлеченность а постфордистские дебаты ряда постмодернистских концепций: См.: Harvey D. The condition of Postmodernity.; Lash S., Urry J. The End of Organized Capitalism.; Economies of Signs and Space. и др.
[18] Отличительной чертой теории регуляции является то, что практически все ее сторонники относятся к «левому» политическому спектру. Так, например, во Франции развитие теории в частности связано с Французской компартией, в Великобритании – с Конференцией экономистов социалистической ориентации. Отсюда и специфическая марксистская терминология («капитализм», «накопление», «воспроизводство» и т. п.).
[19] В данном случае под «постиндустриальными» понимается весь комплекс теорий, говорящих о наступлении нового многовекового этапа общественного развития. Кроме собственно теории постиндустриального общества, в этой связи следует упомянуть теории постмодернизма и постэкономического общества.
[20] Следует обратить внимание на разницу между терминами «фордистский компромисс» и «социальное партнерство», которые используются, по сути, для описания одного и того же явления. В постфордистских концепциях (особенно регуляционистского толка) подчеркивается, прежде всего, конфликтность интересов работодателей и наемных работников – интересов повышения производительности с помощью фордистских технологий и интересов личности, стремящейся к творческому труду. Слово «компромисс» отражает элемент «сделки», в которой каждая сторона не только приобрела определенные выгоды, но и пошла на существенные уступки. Напротив, обычно употребляемый термин «социальное партнерство» скрывает эти противоречия и создает иллюзию изначальной гармонии интересов.
[21] В целом в рамках дебатов не подобрано общепризнанного позитивного названия наступающей эпохе, что демонстрирует отсутствие согласия по поводу ее структурообразующих признаков. Исследователи колеблются в выборе между терминами: «Neo-Fordism» – чтобы показать тесную связь с фордизмом и преемственность (М. Агльетта), «Post-Fordism» – как разрешение кризиса (Б. Джессоп) и «After-Fordism» – для обозначения скорее кризисного периода после фордизма, чем новой фазы развития (Дж. Пек, А. Тиккель). В целом, для обозначения современной эпохи в дебатах принят более устоявшийся (хотя и по-разному интерпретируемый) термин «постфордизм» (Post-Fordism).
[22] В основу собственного подхода мы положили теоретические наработки и терминологию теории регуляции.
[23] С одной стороны структурные условия являются внешними по отношению к действующим лицам (субъектам) социально-экономической системы. Это – среда, ограничители их деятельности. С другой стороны, они являются своего рода «факторами социализации» этих субъектов, реализуясь в менталитете как определенной «картине мира» (в том числе в специфических представлениях о целях и средствах, критериях и процедурах принятия решения и т. п.), т. е. их следует рассматривать не только как условия принятия решений, но и как факторы влияющие на саму модель субъекта, принимающего решения. Таким образом, мы приходим к выводу, что институты не только ограничивают, но и направляют деятельность субъектов. В этом заключается фундаментальное отличие нашей концепции от подхода неоинституционалистов, трактующих институты как «правила игры», исходя из универсальной (неизменной в пространстве и времени) модели субъекта принятия решения.
[24] Соотношение (важность) тех или иных функций каждого института может быть разной. В связи с этим возможно деление институтов на преимущественно экономические, социетальные и политические. Однако не следует забывать, что такая классификация – результат научного абстрагирования. Увлечение подобным подходом несет в себе опасность полного забвения других функций института, его узкой трактовки и как результат – неверной интерпретации реальности.
[25] Треугольник является лишь неким символом, его геометрические характеристики (например, равносторонность) не следует подвергать толкованиям.
[26] См: Абалкин теория на пути к новой парадигме. // Вопросы экономики. 1993. №1.; Экономическая теория на пороге XXI века. / Под ред. Осипова, . СПб: Петрополис, 1996.; Экономическая теория на пороге XXI века – 2. / Под ред. , , . М.: Юрист, 1998.; Экономическая теория на пороге XXI века – 3. . / Под ред. , . М.: Юрист, 2000.; Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. (Доклады и выступления участников международного симпозиума, г. Пущино, 12-15 сентября, 1994 г.). М., 1995.; Эволюционная экономика на пороге XXI века. Доклады и выступления участников международного симпозиума (г. Пущино, 23-25 сентября, 1996). М.: Япония сегодня, 1997.; Эволюционная экономика и «мэйнстрим». М.: Наука, 2000. и др.
[27] В этом отношении дискуссии о новой парадигме стоит трактовать скорее как отказ от единственной всеобъемлющей экономической теории (будь то марксизм или либерализм), процесс критического осмысления различных научных подходов и активного научного поиска.
[28] Теоретики индустриального общества давно указывали на родство советской и западной модели. Так, известный французский ученый Р. Арон писал: «Я убежден, что главная идея нашего времени – идея «индустриального общества». Европа... не состоит из двух коренным образом отличных миров: советского и западного. Имеется одна единственная реальность – индустриальная цивилизация. Советское и капиталистическое общество – только две разновидности одного и того же типа: прогрессивного индустриального общества». См.: Aron R. Lectures on Industrial Society. L., 1968. P. 42.
[29] Именно применительно к этим историческим моментам можно говорить о «многовариантности развития», «веере возможностей» и т. п.




